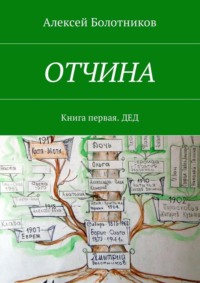Полная версия
Тесинская пастораль. №4
До исхода дня сельский сход с места не сходил.
– Пусть на мою кобылу Дусю обликом будет! – заявляет выпивший конюх.
– …на мою Майку-ведерницу! – противоречит ему доярка да всё норовит выпившему конюху шапку на нос натянуть.
Мужское население хочет видеть в Символе современную Модель с большими сиськами, но с поубавленным чтобы гонором. А женская половина – принца заезжего, благообразного да непьющего.
Разве в живой природе такие недоразумения встречаются?!.
…Молодежь о харизме мечтает, а старичьё о справедливости…
– А пущай Глава нам лампочки повкручивает! Это почище Символа будет…
– …дак тогда вся грязь, как бельмо, наружу повылезает!
– …церковь строить надо.
– …оранжерею!
Долго так рядились да ругались. Наконец, пришли к согласию. Каждый при своем мнении остался, а за общее решение проголосовал… единогласно. Решили избрать инициативную группу, которая образ выдумает и Символ изобразит. В инициативную группу избрали отсутствующих на сходе – в знак наказания и уважения – Главу безголосую, Поэта бесчувственного и Художника беспрозванного.
Как там инициативная группа работала – никто не ведает. Только вскоре символические безобразия в селе поутихли… А инициативные сподвижники бродили по дворам в поисках помощников и сочувствующих. Зря время тратили – народ, задумавший Символ, свою миссию выполнил и побочные страстные призывы игнорировал.
Наконец, место было найдено, расчищено и освящено. В напутственном молебне божий пастырь благословил благое начинание. Под благословение не попали лишь растерянные и умышленные, во главе с безголосой Главой.
С падением последнего осинового листа сподвижники заложили первый камень. На закладку собрался стар и млад. За исключением Главы безголосой и безмозглой: отвертелась, неосвящённая.
Зеваки возгласами довольства и радости поощряли работу избранных. Любовались ловкими их движениями, игрой мускулов и одухотворенными лицами.
И лишь некоторые из сельчан – самые отзывчивые и сострадательные – норовили оказать посильную помощь. Больше суетились и мешкали. А когда краеугольный камень был заложен в основание – с неохотой расходились по домам, унося в душе порыв энтузиазма и светлый праздник.
Дни шли. Каменные глыбы, одна за другой, находили свое место в задуманной композиции. Рутинная работа воздвижения Символа сочетала в себе искусство каменщика, каменотеса и ваятеля. Освященные божественным перстом, избранные мастера вдохновенно приступали к работе по утрам и заканчивали её в крайнем утомлении поздним вечером. Бронзовые их тела блестели рабочим потом. Взоры сверкали, а уста ритмично твердили гимны и молитвы. А если и сквозила в них иногда досада, то понять её никто не мог и не пытался.
Закончился перелёт осенних птиц. Посерело холодное небо. С каждым днем все жестче продували село холодные сквозняки. Заболевшие сподвижники не возвращались по утрам в строй. Оставшиеся слабели от непосильного труда. Работа стопорилась. А зеваки досаждали умными советами по переноске тяжестей или шлифовке граней. Однажды бесчувственный Поэт был найден под мостком на небеса. И уста его твердили не прежние молитвы, а новые – реквиемы.
Все чаще беспрозванный Художник оставался наедине с незавершённым Символом. По ночам работу заваливал сырой снег. А поутру промозглый ветер схватывал его в комковатый лед. Художник с яростью сокрушал снежные панцыри, не жалея рук, не охраняя кровоточащие раны. Выбиваясь из сил, жалея оставшихся изнуренных сподвижников, он возводил новые леса и ещё упорнее возвышал Символ. И однажды под леса не пришел последний сподвижник. И Художник, прозванный Непоколебимым, остался один.
Иногда сердобольные старушки поили его бодрящим отваром, а вездесущие ребятишки делились последним сдобным калачом.
Любопытные вороны, облепив окрестные заборы чёрным бархатом, подолгу недоумевали по поводу источника его сил. Самые наглые пытались изгадить замысел презрительным криком.
Безмозглая Глава, не получившая благословение, иногда забредала сюда, чтобы заявить Непоколебимому Художнику о многочисленных нарушениях правил производства работ, об опасности недозволенных приёмов и методов. Оклемавшийся Бесчувственный поэт забегал, чтобы прочитать свои последние стихи на символическую тему.
Не бывали только сочувствующие. Они давно уже не водились в сельском обществе. Не было и общества.
И вот уж мороз заковал всё окрест. Даже воздух для дыхания был кристаллическим. Мраморное небо угрожающе потрескивало. Символ восставал над селом безмолвным каменным монументом, задрапированным в чёрный бесформенный лёд. И самоё село, казалось, вымерзло, умерло и обратилось в снежный прах.
…Оставался последний камень. Он превосходил своим весом массу тела каменотеса и был отшлифован до блеска. Непоколебимый Художник, давно не поднимавшийся с колен, плел подъёмную корзину. Приближалась сакраментальная ночь…
…Изо всех уголков обмороженного села потянулись толпы и одиночки на открытие Символа. По сугробам и колеям катилась детвора. Санками подвозили стариков. Немощные, оставшиеся дома, дыханием протирали в окнах глазки. На уличных тополях и осинах развешивали гирлянды. Везде жгли костры. Вездесущие предприниматели возжигали уголь для шашлыков… На широкой площади возводилась увеселительная карусель. Воодушевлённый народ жаждал праздника…
Внезапное утреннее солнце золотым свечением излилось над обмороженным миром, высветило на сельском юру ледяную громаду и затопило Символ лучами… Ледяная драпировка вдруг треснула по швам, пошатнулась и рассыпалась к подножию сверкающими алмазами. И – захватило дух!.. И остекленело зрение!.. Минуты шли… Часы… Вертикальные линии Символа поражали безумным устремлением в запредельную высь, а косые – рисунком носа корабля – секли возбуждённое воображение. Люди окаменели. Леса, горы и светлые небеса благоговейно поникли. Проходили дни, годы… Символ стоял на юру. И невозможно было постичь содеянное человеком творение.
И лишь один молокосос, оторвавшийся от груди матери, с удовлетворением произнес:
– Мам-ма…
Антон Филатов. БОМЖ, или хроника падения Шкалика Шкаратина
(Криминогенное повествование)
Герой нашего «криминогенного повествования» Евгений Борисович Шкаратин, неприкаянный скиталец, известный более своей кличкой «Шкалик», ищет отца. Так уж случилось: умирающая мама оставила семнадцатилетнему Женьке одно лишь сердобольное завещание, уместившееся в короткую предсмертную фразу: «Найди отца, сынок… Он хороший… не даст пропасть…». Завещание матери стало для Шкалика делом его жизни. Всего-то и слышал Женька Шкаратин об отце: «…Он не русский, а звали по—русски… Борисом. Фамилию не запомнила… Не то Сивкин, не то Кельсин… Китайская какая-то фамилия. А вот примета есть… пригодится тебе… У него мизинец на руке маленький такой… культяпый. Найди отца, сынок».
Глава III. Города и интегралы
«Прощай навеки, лапоть, по тебе не станем плакать»
Старинная пословицаПроводить Женьку пришла Анна Михайловна. Принесла в плетеной авоське большой калач («Сама стряпала!»), новые носки и книгу. Вид у неё был загадочный, словно она должна была произнесли заклинание. Мама Нина суетливо подсобирывала сумку, пытаясь вместить в неё всё сущее – от вилки до сковородки. Женька равнодушно-застенчиво протестовал: «Ма… не клади… стоко… не унесу».
Стрелки ходиков неумолимо двигались. Сборы были закончены, и оставшееся время тяготило всех. Нина всматривалась в окно, незаметно смахивая слезу. С каждой минутой она чувствовала себя всё хуже. И это бестолковое ожидание могло закончиться лужей слез. И она, упреждая это, сдерживала себя; стыдилась и учительши. Как всегда сорвались гирьки на часах, заставив всех вздрогнуть и очнуться. Пора! Оставалось – посидеть на дорожку.
– Же-е-ка! Жень… – пришел Лёнька Бандит, вспомнивший, что сегодня, вроде, уезжает друг.
– Заходи, Леня! – первой откликнулась учительница.
– Не… Я тут подожду, – Лёнька прикорнул на кукорках у ворот.
– Заходи уж… раз пришел, – прикрикнула мама Нина, удерживая Женьку. – Надо посидеть перед дорожкой.
Лёнька открыл двери и встал у косяка. Он сутулился, переступал ногами, точно жали сапоги, и нервно теребил мочку уха. Женька искоса наблюдал за другом, думая совсем не о нём. И тоже суетливо елозил задницей по табуретке.
– Сядь уж! – строго приказала Нина, указывая Лёньке глазами на стул. – Как теперь будете… друг без друга? – Совсем не кстати заметила она. И в словах её никто не услышал вопроса. Казалось, Нина и сама не слышала себя.
Друзья переглянулись. Разом скривили косые рожицы. Женщины тоже посмотрели друг на друга, выказывая своё взрослое – «что с них возьмешь?».
– Жень, я книгу тебе дарю, – вдруг спохватилась Анна Михайловна – Внима-а-тельно почитай в поезде…
– Да он их сроду не читает…
– Почитай, Женя! Она поможет тебе… в жизни. И вот ещё что: ты мне обязательно напиши. Хоть раз… Ладно?
– Ну, – сконфуженно согласился Женька и стал надевать рюкзак. Женщины бросились помогать, поправляя рубашку, подхватили вдвоём сумку.
– Жень, а деньги-то! – мама Нина бросила сумку и сунула руки в карман кофты. Деньги, аккуратно завернутые в носовой платок, она показала Женьке и как-то особенно торжественно передала их ему в руку. Женька небрежно сунул сверток в карман брюк.
– Да ты что! Куда ты их?.. Это же женьги! То есть, деньги, Женька! Ну-ка давай их сюда… – она укоризненно покивала головой и, расстегнув пуговицу нагрудного кармана куртки, тем же торжественно-ритульным движением поместила туда сверток. – Так надежнее. Куртку не снимай в дороге, а то… сам знаешь.
…Под брезентовый тент ГАЗика он влез, не додумавшись обняться с матерью, сел на свободное место. В открытый проём были видны обшарпанные церковные стены, под которыми сельские пацаны резвились «в чику», поодаль – школьное крыльцо с железным цоколем, улица… И только чуть-чуть голубого неба с летними белёсыми тучками. Стоящие у машины люди коротко перебрасывались незначительными фразами, ожидая момента отъезда. Женькины провожающие стояли тут же. И это казалось ему нелепым и утомительным актом. Опыт отъезда из дома был ему незнаком. Женька даже не думал о нём как о чем-то значительном или ответственном. И все же за внешним равнодушием и олимпийским спокойствием глубоко в душе сидел ржавый гвоздь, саднящий слезливо-трогательным раздражением.
Уезжать из дома было… нормально. Многие уезжают. Даже интересно: всякие дальние города… Да, уезжать из дома было легко, но приезжать… в конечный пункт… не тянуло. Он, Женька Шкаратин, и не подозревал о том, что с первым рывком Газика его прошлая жизнь внезапно оборвётся, точно невидимая паутинка, мгновенно переменится и так же мгновенно зачнётся другая – и такая же непостижимая. Почти физически он испытывал этот ожидаемый толчок и всем сердцем жаждал отъезда. И ещё этот Бандит, издали корчивший рожи…
– Женя!.. Сынок… сыночка мой… – мама Нина внезапно уцепилась за поручень откидной лестницы ГАЗика и безумными глазами съедала Женьку. – Сыно-о-к… мой… маленький… Всё-всё-всё… Я не буду, ты не плачь… потерпи… – Она укротила свой неожиданный порыв так же внезапно, но не в силах была оторваться от поручня. Глаза её заливало слезами. А всё тщедушное тело сотрясало волной внутренней дрожи. – Счас… час… Я уйду… Прости меня, сынок, за всё. Никудышная я мать… твоя. Поезжай… поезжай…
Женька оцепенел. Порыв матери потряс его. И он сидел в кузове, в одно мгновение утратив самообладание. Чего она?.. Зачем… Он не понимал, что ему делать теперь и в следующий миг. И только тупо глядел на мать, перехваченную Анной Михайловной за плечи и пятящуюся к церковной ограде. И в нелепой этой сцене было столько напряжения и драматизма, что у Женьки перехватило дыхание и свело рот.
Внезапно ГАЗик взревел, качнулся и покатил по улице, быстро набирая скорость.
– Ма-а-а… – промычал скованный женькин рот. Но ничего уже нельзя было сделать. Неотвратимое свершилось на его глазах. Улица быстро покрылась клубами пыли… Вот и последний поворот, последний двор, последняя людская фигура у колхозной заправки. – Ма-мочка! – Скорее подумал, чем произнес Женька, понемногу приходя в себя. – Мамочка моя…
Уже потом, много позднее, в своей совсем уж взрослой жизни Женька Шкаратин будет мысленно возвращаться к сцене первого расставания с матерью. Именно опыт взрослой жизни позволит ему до конца осознать тот порыв обречённости, вырвавшийся-таки у женщины, глубоко прячущей нерастраченную нежность и ласку. Осознать её вселенскую одинокость и беззащитность, её неприкаянность и неумелость. В такие минуты его душили слезы обиды за себя и за неё, не способных проявлять родственные чувства. Давила и мучала боль за необратимость утраченного времени. Он ещё не раз будет возвращаться к матери с мысленными диалогами, в которых попытка сообщить ей о своей любви и жалости будет, наконец, услышана ею и воспринята со щемящей радостью. Ах, мамка Нина, ах, Женька… Да что же это такое творится-то, Господи!..
Но при новых встречах и расставаниях все оставалось на своих местах. И они только отдалялись – дальностями расстояний и возрастов ещё пуще привыкали к своей обоюдной неуклюжести чувств.
…Телеграмма, полученная и доставленная ему однокашником прямо среди лекций, была от …Анны Михайловны. Женька так ни разу и не написал ей. И его изредка тяготило чувство вины. И особенно стыдно было за деньги, которые учительша вложила в ту книгу и которые он долго хранил, чтобы вернуть при встрече. Но снова и снова забывал свое обязательство написать ей, и опять уходило время… Мгновенно схваченная глазами её фамилия ужалила его… но… текст телеграммы он долго не мог понять. «Немедленно… приезжай… торопись… скоропостижной… болезнью… матери…»
Одолжив деньги у однокашников, он направился прямо на вокзал. И уже плохо помнил, что происходило в ближайшие сутки. Поезда, участливые пассажиры, лихорадочные мысли и действия. На попутках добрался до села… Бегом мчался по знакомому переулку…
…Мама Нина была ещё жива. Она почти равнодушно встретила его взглядом и обречённо показала глазами «садись». Жёлто-бледная, истерзанная болезнью, с полузакрытыми от измождения глазами, смотрела мимо него и силилась что-то говорить. Медсестра, встретившая Женьку, с облегчением вышла из дома. Он остался наедине с матерью и… молчал. Увиденное повергло его в отчаяние. Мама умирала… Она не болела, нет… Это нельзя было назвать тяжелым недомоганием либо кризисом. Ей оставались последние минуты, и Женька почему-то это знал. Он внезапно ощутил в себе жар, потом холодный пот… Подумал встать, но не решился. Подкатилась слабость, сухость во рту… Пришла медсестра и молча подала ему воду для смачивания губ матери. Но он глотнул из стакана сам.
…Слезы. Ему тут же стало легче. И он снова, не отрывая глаз от матери, попытался встать.
Но в это мгновение она тяжело вздохнула и напряглась. Стала что-то говорить. Женька наклонился к её губам. С трудом слышал слова «…Найди отца, сынок… Он хороший… не даст пропасть… не русский, а звали… Борисом. Фамилию не запомнила… Не то Сивкин… Кельсин… Китайская… какая-то фамилия. А вот примета есть… пригодится тебе… У него мизинец на руке маленький такой… культяпый. Найди отца, сынок… Не даст пропасть». Она надолго замолчала. И ещё более побледнела. И только дрожь на виске выдавала муку. Однажды вполне отчетливо произнесла: «Прости нас… с отцом, сынок…» – И это были её последние слова.
Все последующие часы – и агония, и трагические приготовления, и поминальные действия, проводимые участливыми соседями, и даже короткие разговоры с Лёнькой Бандитом – Женька Шкаратин находился в странном состоянии не то равнодушия, не то сомнамбулизма. На попытки Анны Михайловны поучаствовать в его судьбе, на предложения Лёньки (по просьбе все-той же учительницы) сходить на охоту, рыбалку, поехать, наконец, за соломой для коровы, отмалчивался, не обронив ни единой фразы. Анна Михайловна растерянно просиживала в пустом доме, боясь оставить его наедине с пустотой. Подтапливала печь, готовила еду. Женька тяготился ею. А спустя девять дней вдруг сказал:
– Я поеду… Вы живите тут… навсегда, – встал и ушел, и уехал, не попрощавшись ни с кем.
Так Шкалик навсегда, казалось, оставил родное село.
Глава IV. Легенда вторая. Некто Цывкин
– Кук-ка-рек-ку-у-у!.. – ворвался в раннее утро звонкий деревенский горлопан. – «Кукареку,» – и всё тут. «Петуха» бы не пустил… Вонзил свой петуший альт выше сосен, в хмурую августовскую рань, в сонное ферменское царство, в тишину гулко-тягучую, и – затих. Паузу взял.
«Первые петухи» – так и называется предрассветное сумеречное времечко, не знаменитое ничем, кроме петушиного пробуждения. И именно оно, дремучее и дремотное, распростерлось над спящим миром паутинным оцепенением; сдерживает рассвет, караулит здешний покой. Вышедший по нужде мужичок полусонно обозрел окоём деревенской городьбы и опушки бора, выслушал петуха и зевнул.
Покойно-то как…
Спит Ферма. Спят её собаки, свиньи, колхозные и единоличные коровы, овцы. Спит всякая птица. Спит богатырский бор, степная трава и тихая гладь ферменского озера. И коротенькие переулки, и дворовые закутки, и площадь у поселкового магазинчика – всё спит. Спит-посыпёхивает отслуживший свою ночную вахту бездомный кот Кузя. Спят и люди.
Петушиная пауза – не вечность. От первого до последующих петушиных перекликов сонные фермерские мгновения замирают вовсе и длятся так долго, как театральные паузы в пьесах провинциальных театров. Висят сиюминутные и бесконечные мгновенья, пока не зайдётся всеобщий общинный дух, пока интуитивное чувство не скомандует самоё себе «Ату!..»
Борзый петух у Федора Пилатова. Так и норовит выпендриться! Зорко сторожит свой час перед рассветом, не уступая первенства соперникам из других подворий. И сам Федор, дюжий ферменский крестьянин, чутко почивающий в сонном царстве – ранний ставка и извечный трудяга – под стать горлопану. Теперь он раскинулся на топчане, тесня Марьюшку, окружённый другими сонными домочадцами, в интуитивном ожидании петушиного сигнала.
Ан, светает. Неотвратимое и неуёмное солнечное светило незримо поглощает ночной сумрак. Затепливается линия горизонта, за нею багровеет западная канва горной гряды, потом заливается холодной желтизной широченная пойма древней реки, с массивами её островов, лугов и кромкой хвойного бора. Оранжевое солнце зависает над тёмным Убрусом, по-над сумрачным лесотравьем. Над скопищем живого и мёртвого мира, приютившегося на узкой степной террасе – не то деревней, не то заимкой. Выселками, известными в здешней округе под названием Ферма.
Спят ферменские. Их чуткий сон в самый канун дня Ивана-купала уже и не сон вовсе. Скорее, радостные полусон-полуявь, полупредчувствие святого дня, так за последние годы и не забытые, не зачумлённые новыми советскими ритуалами. Патриархальное чувство – праздник купания и чудес… Но – спят ещё люди большие и малые, юные и старые. Спит Ферма. А петухи! – уже нет удержу.
Баир и Марта столкнулись взглядом. Марта так и не смогла отвести глаз от его смуглого раскосого лица, взгляда, наделённого спокойной хладнокровной силы и… внезапного интереса к ней, Марте, излишне пышнотелой, никогда раньше не знавшей силы мужского внимания. Она смутилась до потери чувств, краска стыда залила её отбелённое лицо. Но к её собственному изумлению, Марта улыбнулась юноше. Его сердце, знававшее кокетливое внимание сверстниц, внезапно оборвалось. Её полуиспуганная улыбка, полудерзкий взгляд, тело, налитое сокровенной силой – всё разом всколыхнуло воображение парня. Он пошел за нею, на её огляд отвечал молчаливым признанием, забыл о сущем дне, хозяйских лошадях и самом хозяине… Всё более вторгался в её мир и открывал ей свой.
Они встретились в первый же день осенней ярмарки на берегу Волги, куда съехались десятки подвод с товарами. Он и она оказались в избранный час в рядах коннозаводчиков, каждый по своей нужде, но провидению было угодно свести их – глаз в глаз. Её отец выбирал добрую кобылку на развод… Марту держал при себе по собственным соображениям. Баиров же хозяин торговал самыми завидными экземплярами башкирских лошадок. Без Баира он не справлялся и оказывал парню доверие, граничившее с отцовским чувством.
В ярмарочные часы они – дородная немочка и мужественный калмычонок – часто пересекались, уже не пытаясь скрывать свои чувства. Её стыдливость и его неодолимая притягательность объединяли их в странную парочку, трогательную и нелепую одновременно. Она бродила по рядам, высматривая безделушки, не в силах что-либо выбрать. Он внезапно возникал перед нею, как тень, неотделимая от неё, и так же внезапно исчезал, вызывая её тревогу и растерянность.
Всю осень он верхом наезжал в их березовую рощу, отделяющую дом от сенокосных угодий и табачной плантации. Она выходила сюда по сигналу плачущей иволги и неохотно возвращалась к своим обязанностям, подчиняясь гневно-недоумённым кликам отца. Баир не спрашивал Марту о её семейном, родословном, забавлял байками о лошадях или собаках. Она не спрашивала его о житейском, не выведывала никакой истории, которой у него и не было.
…Всё оборвалось разом – не по их воле. Её отец, крепкий поволжский крестьянин, зарабатывающий кожевенным, шорным ремеслом и приторговывающий табачком, был приговорён новой сельской властью – комитетом бедноты – к лишению избирательных прав и насильственной высылке – всем семейным узлом. В ночь перед днём высылки он бежал из дома в Мещерские болота, снарядив купленную башкирку нехитрыми пожитками. Жене, детям оставил нехитрый наказ:
– Перебейтесь пока… перебесятся. А там и возвернусь.
Однако его сметливый крестьянский ум не учёл гонор новой власти. Комбед не оставил обезглавленную семью в покое. Их имущество описали и свезли в общественный амбар. Мать, не смирившуюся с произволом и грубым помыканьем, усмиряли и плетью, и батогами, довели до помешательства и увезли в уездный город. А Марту со старшим братом Иваном, жившим уже своей семьёй, согнали в то же утро на площадь, в толпу лишенцев, посадили на подводы и увезли до станции, где загнали в щелястую теплушку и засургучили. Остаток дня узники прожили в страшном ожидании. Ввечеру их внезапно выпустили и велели идти домой. Но через пару дней пришли другие уполномоченные и прочли новое постановление: в 24 часа собраться и явиться на станцию для пересылки в место нового поселения: Сибирь.
Ночь перед высылкой они провели втроём: Марта с братом и Баир, покинувший своего хозяина. Он всю ночь уговаривал брата и сестру, полный решимости не оставлять возлюбленную в её новом положении – на сносях, с плодом их внезапной, глубокой страсти. Обесцветил перекисью волосы, тщательно выбрил усы…
Там, на станции, в толпе лишенцев, гулкой сутолоке горьких минут, царил произвол. Баир заявился на сборный пункт вместе с Мартой, едва справлявшейся с лихорадкой. Записался в её семейный список под именем брата Ивана, уговорив-таки растерянного парня отправиться вслед за отцом, в Мещеру. Все прошло хорошо. Никто не присматривался ни к его личности, ни к документам. Суматоха, сумятица и головотяпство, царившие в стане ссыльнопоселенцев, позволили им обмануть сопровождающих чекистов и отбыть по назначению.
Так начинался их путь в неведомые дали, суровые края и на долгие времена.
…Баир-младший родился в степи, под кустиком, вблизи проезжего тракта, в местности не примечательной и пустынной. Его принял на руки отец, смуглый муж с калмыцким обветренным лицом, резковатый в движениях. Принял также ласково и умело, как много раз проделывал это в табуне с жеребятами кобылиц. Потомственный табунщик, он туго знал это сакраментальное дело и споро-сноровисто принял наследника. Обиходил и мать, и дитя. На минуту приложил тельце новорожденного к обессиленной роженице. Её испуг, стыд и беспомощность во время недолгих родов он успокоил властностью жеста и гортанного междометия. Вскоре роженица притихла и задремала. Младенец, высвобожденный из утробных пут, вживался в новый мир, испытывая перед ним беспощадный, священный трепет. А отец, проявляя суровую нежность, спеленал младенца в заранее приготовленные холстины и сукно, устроил в скудноватой тени кустов. Подбросил в огонь сырые сучки и принялся свежевать суслика, пойманного в петлю поутру.
Днём он накормил женщину размоченными сухарями и запечённым в глине мясом, выдав его за мясо жаворонка. Остатки повесил подсушиться на солнце. Сам обегал притрактовую зону в поисках съедобных дикоросов. Собрал щавель, полевой лук, лепестки шиповника, мочковатые корни аира из болотистой низинки. Но главной его удачей была дикая пчелиная семья, поселившаяся в брошенной автомобильной резиновой покрышке. Дождавшись густой ночи, обмотавшись подручным тряпьём с головы до ног, он стремглав уволок её и утопил в тине глубокой канавы. Возвращался сюда поутру и днем, когда с роем было покончено, а мёд в сотах извлечён.