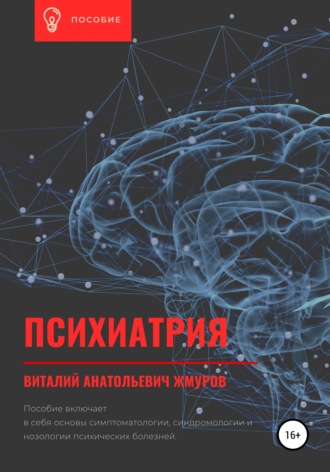
Полная версия
Психиатрия
Оба расстройства, вторжение мысли и ментизм, с одной стороны, а с другой стороны, обрыв мысли и шперрунг характеризуют идеаторный автоматизм – синдром Кандинского-Клерамбо, чаще встречающийся при шизофрении. Следует, полагаем, вторжение мысли и ментизм, характеризующий явления идеаторного автоматизма, обозначить терминами – параноидное вторжение мысли и параноидный ментизм.
Ранее упоминалось, что встречаются и другие варианты ментизма, в частности депрессивный ментизм. 1. «Думается только плохое, про несчастья, болезни, о смерти. То, думаю, муж умрёт, то мать или сын, или ещё что-то плохое случится. Думы такие идут всё время, они как бы наплывают сами собой, я никак не могу от них отключиться». 2. «Ничего хорошего на ум не приходит, лезет одно плохое, будто сам себя в угол загоняешь». Аналогичным образом проявляется ипохондрический ментизм – постоянные и угнетающие пациентов мысли о собственной болезни. Достаточно часто наблюдается астенический ментизм – постоянные мысли, в которых выражается неуверенность в себе. Во всех этих случаях невольные мысли являются психологически понятными, связанными с характерологическими особенностями, изменениями настроения и жизненной ситуации.
4) Амбивалентность мышления (лат. ambi – вокруг, с обеих сторон, valens – сильный) – раздельное, как бы изолированное друг от друга сосуществование противоположных понятий, суждений и убеждений, не сливающихся в акте синтеза в нечто единое и целостное. Так, пациент считает своего товарища по палате безнадёжно больным и одновременно с тем абсолютно здоровым человеком, по случайности оказавшимся в больнице; он думает, что и сам совершенно здоров, но в то же время серьёзно болен; или одного и того же человека воспринимает как своего родственника и вместе с тем как чужого незнакомца. Он придерживается полярных, исключающих одна другую самооценок и бывает то вызывающе заносчивым, то скромным до самоуничижения. Или понимает, что он обычный, ничем не замечательный индивид, и ведёт себя сообразно этому, но наряду с этим убеждён, что он бог, и это его бредовое убеждение может проявляться соответствующим поведением.
Термин «амбивалентность» Е. Блейлер предложил для обозначения феноменов двойственности в мышлении, в аффектах и в поведении (1911): «Любовь и ненависть к одному и тому же лицу могут быть одинаково пламенны и не влияют друг на друга – аффективная амбивалентность. Больному в одно и то же время хочется есть и не есть; он одинаково охотно исполняет то, что хочет и чего не хочет – амбивалентность воли, двойственность тенденции – амбитенденция; он в одно и то же время думает: «я такой же человек, как и вы» и «я не такой человек, как вы». Бог и чёрт, здравствуй и прощай для него равноценны и сливаются в одно понятие – умственная амбивалентность. И в бредовых идеях довольно часто наблюдается пёстрая смесь экспансивных и депрессивных идей». Амбивалентность указывает на факт раскола личности на две антагонистические субличности, при этом пациент идентифицирует себя то с одной, то с другой из них, не отдавая предпочтения при этом ни первой, ни второй. Характерный признак шизофрении.
5) Редупликация мышления (лат. reduplicacio – удвоение), двойной поток мышления – сосуществование двух параллельных и нигде не пересекающихся направлений движения мыслей. При этом один поток мысли является нормальным, обычным для индивида, другой – болезненным, в нём могут быть представлены различные психические нарушения, но обе линии мышления отождествляются с единым Я. Например, пациент как ни в чём не бывало охотно и толково разговаривает с врачом и в то же время столь же внимательно слушает «голос» и отвечает на не относящиеся к реальной ситуации вопросы последнего.
К. Ясперс иллюстрирует расстройство следующим описанием одним из добровольных участников эксперимента своего состояния в гашишном опьянении: «Кажется, я выплываю из бессознательного только ради того, чтобы через некоторое время вновь вернуться в него… За это время моё сознание изменилось. Вместо абсолютно пустых «провалов» у меня возникло нечто новое, как бы второе сознание. Оно переживается как совершенно иной, особый период времени. Субъективно это выглядит так, словно существуют два отдельных ряда переживаний, каждый из которых развивается собственным путём. Экспериментальная ситуация, в которой я оказался, субъективно переживается мною как неизменная, но за этим следует переживание долго длящегося недифференцированного бытия, внутри которого я не могу удержать своё Я как нечто отъединённое от переживаемого мира. И всё же я переживаю это второе состояние не как некое подобие сновидения, а как состояние абсолютного бодрствования. Это перемежающееся сознание может служить объяснением моей преувеличенной оценки времени, мне кажется, что с момента начала отравления прошло много часов. Процесс мышления крайне затруднён, и любая цепочка мыслей прерывается в тот самый момент, когда наступает очередное изменение в сознании».
6) Разноплановое мышление. Ему свойственны постоянные и одинаково принимаемые пациентами переходы мысли из одной логической плоскости в другую. Наглядно оно проявляется в толковании значения пословиц и поговорок, при выполнении различных операций мышления. Так, сравнивая два понятия, пациент даёт два разных ответа, один из них является ответом более низкого логического уровня. Камень и кирпич, по его мнению, отличаются по двум признакам: по происхождению, с одной стороны, и по форме или назначению – с другой. Оба ответа пациент считает одинаково верными. Или, в другом случае, в одном из сравниваемых объектов выделяется адекватный признак, в другом – случайный или операциональный. Так, камень, отвечает пациент, является «природным объектом», а кирпич «легко крошится» или «применяется при строительстве домов». Пословицу «На грех мастера нет» пациент объясняет верно, отвечая фразой «Дурное дело не хитро», но тут же представляет иное толкование: «Мастер, как на грех, не приходит, когда он нужен. Это закон подлости». Особенно демонстративны проявления разнопланового мышления у пациентов с шизофренией.
7) Альтернирующее мышление (лат. alter – одно из двух) – чередование разных способов мышления. В типичных случаях наблюдается у пациентов с расстройством в виде множественной личности. Переходя из одного состояния личности в другое, они об одном и том же могут думать совсем по-разному, как совершенно разные люди. При этом пациенты нередко не замечают таких переходов, они как бы забывают, о чём и как думали до перехода в другое состояние. Нечто подобное встречается у пациентов, состояние которых меняется очень быстро и радикальным образом, например при скачкообразных переходах выраженной депрессии в отчётливую манию и обратно. Такой пациент утром чувствует и говорит прямо противоположное тому, что он станет чувствовать и говорить днём или вечером. Вечером ему не верится, что ещё несколько часов назад он считал своё положение совершенно безнадёжным или что он опять станет так думать немного позднее. Точно так же бред собственной виновности может сменяться бредом обвинения других людей, а бред преследования со стороны окружающих – бредовыми идеями справедливого им возмездия. Столь резкие смены альтернатив мышления, предположительно, более свойственны пациентам с расщеплением личности, когда пациенты последовательно отождествляют себя то с одной субличностью, то с другой. Е. Блейлер указывает, что «подобные состояния могут годами сменять друг друга». При этом чаще бывает так, что будучи в адекватном состоянии индивид помнит то, каким он бывает в болезненном состоянии, но, оказываясь в последнем, он не помнит нормальные переживания.
8) Симптом «вытягивания мыслей». Характеризуется жалобами пациентов, что их мысли «воруют», «присваивают», «вытаскивают», «вытягивают» из их головы: «Не успею ещё подумать, а люди уже это говорят… мои мысли угадывают, знают как бы вперёд меня… крадут мои мысли, я узнаю их в том, что говорят окружающие… я чувствую, что людей заставляют озвучивать мои мысли… Мои мысли читают, я чувствую это по тому, как ведут себя люди, их поступки определённо связаны с моими мыслями, они про них говорят вслух». Существо настоящего расстройства связано с тем, что мысли окружающих людей пациенты воспринимают так, будто они сами перед тем думали о том же и точно таким же образом. Данный симптом может стать причиной формирования бреда открытости, когда пациенты уверены в том, что их мысли «читают» или кто-то «узнаёт» их.
9) Симптом «вкладывания мыслей». Пациенты жалуются, будто в их сознание «внедряют», «вбивают», «вколачивают» чужие мысли: «В голове посторонние мысли, это мысли других людей… это не мои мысли, я даже знаю, чьи они… мне искусственно навязывают чуждые мне мысли… мои собственные мысли забивают мыслями со стороны, хотят вынудить меня думать под чью-то диктовку». Пациенты, во-первых, считают такие мысли пришедшими к ним в голову со стороны, во-вторых, что это насильственно навязываемые им мысли, и в-третьих, рассматривают содержание таких мыслей как совершенно чуждое себе, иногда прямо противоположное тому, что они думают сами. Это не симптом чтения чужих мыслей, когда пациенты как бы по своему желанию «узнавают» чьи-то мысли.
10) Симптом всемогущества мысли. Пациенты считают, что их мысли немедленно или спустя какое-то время с фотографической точностью воплощаются в реальность: «Мысли материальны, я только подумаю о чём-то, как это происходит… Как я думал, так и случилось, один в один… Я боюсь думать о плохом, такие мысли обязательно и в точности сбываются».
11) Симптом присвоения мыслей. При этом новые для себя мысли других людей пациенты без всякой критики воспринимают как абсолютно правильные или как собственные, принадлежащие им изначально. Это расстройство может проявляться как прямо, так отставлено. В первом случае оно переживается следующим образом: «Что ни скажут люди, я с ними полностью согласен, мне кажется, что и я сам думаю точно таким же образом… мысли других людей я как бы всасываю в себя, они сразу же становятся моими собственными, будто во мне родились или были такими и раньше… моё мнение может резко меняться на противоположное, стоит мне послушать другого человека… я стала очень внушаемой, что мне скажут, то и кажется мне правильным, даже образы такие появляются. Недавно, например, я потеряла ключи, не могла найти их. Бабушка говорит, что я оставила их у подруги. Мне тут же представилось, что я нахожусь у подруги, кладу там ключи, а затем ухожу без них». В отличие от «уже слышанного ранее» при этом нет ощущения, будто точно такое же воспринималось когда-то в прошлом и теперь только повторяется. Это проявление чрезмерной, болезненной внушаемости, достигающей порой степени сомнамбулизма, но возникающей в бодрственном состоянии. Нечто подобное наблюдается и в сновидениях: «Вижу во сне внучку, только ей не четыре года, а лет десять, она уже большая. Вижу, что рядом находится моя дочь. Я спрашиваю её, неужели это моя внучка. Она отвечает, что да, внучка. Тогда я опять спрашиваю её, а будет ли у меня мужчина. Она говорит, что да, обязательно будет, он уже есть. И я чувствую спиной тепло, будто сзади кто-то есть, вроде пожилой седовласый мужчина». Во втором случае чья-то мысль на некоторое время как бы забывается, а позднее вспоминается как собственная. Это криптомнезия в виде ассоциированного воспоминания.
12) Насильственное мышление и речь. При этом собственное мышление и речь воспринимаются с ощущением их принуждения извне. В. Х. Кандинский описывает это следующим образом: «Долинину внезапно показалось, что его язык принялся громко и очень быстро произносить всякие вещи, которых не следовало говорить. Мало сказать, что это происходило непроизвольно; это происходило прямо против его воли. Поначалу больной был обескуражен и обеспокоен этим необычным событием. Неприятно, когда чувствуешь себя как какой-то заведённый автомат. Когда он начал осознавать, что же именно говорит его язык, он пришёл в ужас; он обнаружил, что признаёт собственную вину в совершении серьёзного политического преступления, приписывает себе планы, которые он на самом деле никогда не вынашивал. И тем не менее у него не было воли и силы, чтобы сдержать язык, который так внезапно превратился в автомат». Отметим, что ощущения собственно насильственности мышления пациент при этом не отмечает, он говорит лишь о чуждости для себя тех мыслей, которые озвучиваются в насильственной речи. Более того, он вообще не осознаёт факта своего мышления во время болезненного эпизода. Однако едва ли это проявление лишь насильственной речи, а высказываемые при этом мысли лишь случайный спутник принудительной и депрессивной артикуляции.
13) Вербигерация (лат. verbum – слово, generare – создавать, производить), или персевераторная логорея (Kahlbaum, 1874) – насильственное, беспрестанное и бессмысленное повторение в разных вариациях одних и тех же слов или нанизывание разных слогов, слов, фраз на другие, нередко сходные по своему звучанию. Один из пациентов В. Х. Кандинского называет эту невольную речь «самоболтовнёй» или «самоболтанием». Зная, о чём он просит, он вынужден тем не менее выражаться странным образом: «Самоболтовня, самоболтовня, простите меня… самоболтовня, самоболтаю, простите меня, самоболтовня… простите меня папироску… не для того, чтобы курить самому… я хочу курить сам… но самоболтовнёй… самоболтание… я самоболтаю вам… дайте курева». Вербигерацию нередко описывают как симптом нарушения речи. То же следует сказать о персеверации, то есть о застревании ответа на предыдущий вопрос, и о стереотипии речи, когда на разные ситуации пациенты реагируют одними и теми же фразами.
7. Нарушения отдельных видов мышления
Представим некоторые нарушения мышления как признаки дисфункции соответствующей когнитивной структуры.
1. Нарушения наглядно-действенного мышления. «Ручное» мышление у детей проявляется элементарными действиями: дотрагивание, хватание, отталкивание, облизывание, кусание, разрушение и др. Появление таких действий у пациентов более старшего возраста означает, что речь идёт о возврате мышления на ранний уровень его функционирования. Регрессия мышления наблюдается при слабоумии и психотических нарушениях, особенно ярко у пациентов с явлениями кататонии. В последнем случае речь идёт о немотивированных, бессмысленных и неадекватных действиях пациентов, которые они автоматически совершают с предметами, которые случайно оказались в поле их зрения. Рассмотрим некоторые из них.
1) Оральные действия – непроизвольные действия, когда пациенты «тащат» предметы себе в рот, кусают, разгрызают, жуют, облизывают, обсасывают их, пытаются глотать или проглатывают.
2) Саморазрушительные действия – непроизвольные аутоагрессивные действия, когда пациенты вырывают свои волосы, ресницы, кусают губы, кожу, расчёсывают, расцарапывают кожу, повреждают глаза, уши, гениталии. Такие действия могут совершаться при кататонии, но нередко являются навязчивыми, а также тикозными. Встречаются пациенты, которые столь же непроизвольно совершают опасные для себя действия, как только оказываются в соответствующей обстановке. Они внезапно бросаются под движущийся транспорт, прыгают с моста, с обрыва, с горы, выбрасываются из окон, из поезда. Действия последнего рода обычно относят к импульсивным, они свойственны пациентам с явлениями кататонического возбуждения.
3) Прозектические действия (греч. а – частица отрицания, prosexis – внимание) – непроизвольные действия, напоминающие проявления исследовательской активности маленьких детей: дотрагивание до предметов, их поглаживание, ощупывание, похлопывание, потирание, простукивание и т. д.
4) Хватательные действия – непроизвольные действия, когда пациенты хватают предметы, крепко сжимают их в руке и не дают у себя отнять либо выдёргивают предметы из рук окружающих. Они могут также срывать у окружающих очки, заколки, броши, головные уборы, запонки и др., пытаются их спрятать у себя. Так, больная срывает с головы студента колпак и прячет его у себя под юбкой.
5) Действия отталкивания – непроизвольные действия, когда пациенты отбрасывают в сторону какие-то предметы, срывают с себя и разбрасывают одежду, выплёвывают пищу, плюются, выкидывают вещи из окон на улицу, как если бы они представляли для них опасность.
6) Разрушительные действия – непроизвольные и часто внезапные действия, когда пациенты разбивают стёкла, зеркала, рвут книги, газеты, картины, бельё, одежду, ломают мебель и т. п. Так, ступорозный пациент, которого санитары прозвали «стекольщиком», время от времени соскакивает с кровати и начинает бить оконные стёкла, сбрасывает на пол зеркало и топчет его ногами, срывает со стен обои и рвёт их на мелкие кусочки. Затем он столь же внезапно успокаивается, возвращается на своё привычное место и вновь впадает в состояние ступора.
7) Подражательные действия – бессмысленное повторение различных действий окружающих людей. Так, пациенты копируют чьи-то позы, движения, походку – эхокинезия; действия с предметами – эхопраксия; выразительные акты – эхомимия, слова, фразы, манеру говорить – эхолалия. Триада симптомов, включающая эхолалию, эхопраксию и эхомимию, обозначается термином «эхо-синдром» Вернике.
8) Карфология (греч. karphologia – собирание клочков) – хватательные движения, посредством которых пациенты как бы ловят что-то в воздухе или собирают с поверхности. Прогностически неблагоприятный предагональный симптом, описанный при аментивном помрачении сознания.
9) Задержка развития наглядно-действенного мышления проявляется синдромом детской неуклюжести или моторной дебильностью (Dupre, 1910). Расстройство характеризуют неуклюжие, неловкие, недостаточно координированные движения, лишённые пластики, грации, непринужденности. Относится к специфическим нарушениями развития у детей, если нет иной определённой патологии. Часто сопутствует умственной отсталости, наблюдается также у пациентов с ранним детским аутизмом, у шизоидных психопатов. Нередко моторное недоразвитие сочетается с обеднением выразительных актов.
Детскую неуклюжесть не следует отождествлять с неврологическими двигательными нарушенниями – синдромом незначительного хронического поражения головного мозга Пейна. Последнему свойственны: 1. паратония – затруднение произвольного расслабления мышц, 2. синкинезия – излишние сопутствующие движения и 3. нарушения координации. Предполагается, что основу нарушения составляет врождённая или приобретённая патология пирамидных путей, сопровождающаяся недостаточностью произвольного торможения двигательных функций (Блейхер, Крук, 1995).
2. Нарушения наглядно-образного мышления. Наблюдаются следующие нарушения практического мышления: неадекватные сложные действия с объектами и задержка развития моторных, мануальных навыков. Они таковы.
1) Реактивные действия – машинальные и бесцельные манипуляции с предметами. Совершаемые действия соответствуют при этом назначению предметов.
Так, пациент с явлениями кататонии, увидев зажигалку или спички, пытается их зажечь, а потом тушить, он это может проделывать и несколько раз подряд. Он распахивает запертые двери или окна или, напротив, закрывает их, если они заперты. Увидев папиросу, берёт её в рот и пытается раскурить или изображает курение. При виде карандаша или ручки он тут же берёт их в руку и принимается что-то писать, чертить или рисовать. Заметив пишущую машинку, он «печатает», проходя мимо зеркала, непременно посмотрится в него и механически пригладит волосы; найдя расчёску, начинает причёсываться, хотя бы волос у него совсем не было; увидев книгу или таблицу на стене, некоторое время читает вслух текст с любого места. Закрывает и открывает водопроводный кран, заглядывает по пути в чужую тумбочку, достаёт оттуда продукты и тут же их съедает, укладывается на любую подвернувшуюся по дороге постель, садится на оказавшийся по дороге стул, щёлкает выключателем, поправляет косо висящую картину, надевает чью-то одежду, высовывается из окна и мн. др.
Никаких объяснений того, зачем он всё это делает, не даёт, этого не знает и он сам. Таким же точно образом пациенты могут вести себя на улице. Выходя из дома, они садятся в транспорт и едут, куда их везут, непонятно зачем делают при этом пересадки, идут по дороге, куда бы она ни вела, читают по дороге вывески, глазеют на витрины, закрывают или открывают канализационные люки, стучатся или звонят в двери чужих квартир, заходят в магазины и учреждения и т. д. – и всё это делают без цели. Иногда такие действия, сообщают пациенты, совершаются под воздействием «голосов» или «гипноза». Так, больная незадолго перед поступлением в больницу с явлениями онейроидной кататонии добиралась до работы лишь пополудни, так как по дороге она вела себя описанным образом, – заходила в магазины, примеряла там шапочки, покупала какие-то ненужные ей вещи, разъезжала по городу и т. п. Всё это, по её словам, она делала под каким-то «воздействием». Аналогичным является поведение пациентов с психомоторными припадками эпилепсии. Больные ведут себя внешне будто бы целесообразно, поскольку их бесцельные действия адекватны воспринимаемым объектам. Например, следуя по дороге, такой пациент в состоянии транса может оказаться на другом конце города, а если он пользуется при этом транспортом, то спустя несколько часов может обнаружить себя далеко от дома и в совершенно незнакомом месте.
2) Нелепые действия – действия с предметами, не соответствующие назначению последних. Такие действия создают впечатление нарочитой дурашливости пациентов и потому являются кататоно-гебефреническими. Например: пациент стряхивает пепел горящей папиросы себе в рот, насыпает в чай вместо сахара соль, выливает компот себе на голову, засовывает подушку себе под рубаху, изображая беременность; ест суп вилкой, в каше ковыряется ножом, ставит ботинки на стол, а посуду – в холодильник или в стиральную машину; наклеивает себе на тело почтовые марки, рисует на постельном белье географическую карту, вместо рубашки одевает брюки, вместо галстука одеваету половую тряпку, засовывает градусник себе в прямую кишку, ставит на бумаге печать не с мастикой, а со своим калом и мн. др. Е. Блейлер приводит наблюдения, в которых пациенты объясняют свои неадекватные действия совершенно случайным образом. Так, больной говорит, что он нечто сделал, так как в это время мимо него «проходил врач» или врач «как раз вынимал из ящика вещи», кататоник связывает подобные действия со «случайными воспоминаниями». Т. е. неправильные действия ставятся в причинную связь с любыми случайными мыслями и внешними впечатлениями. Такие действия Е. Бжезицкий (1950) определяет термином парагномен (греч. para – рядом, вблизи, отклонение от чего-либо; gnome – знак, признак). Так, пациент выбрасывает ребёнка с балкона якобы с тем, чтобы «привлечь к себе внимание шедшего по улице человека». Больной распиливает кошку с целью «нарушить единство противоположностей», убивает собаку потому, что он только что «поперхнулся». Один из больных сжёг в печке кота с намерением «органическое вещество превратить в неорганическую субстанцию». Спустя несколько месяцев он оказался на судебно-психиатрической экспертизе, так как «странным образом», по мнению следователя, убил человека. Социально опасные действия, которыми иногда дебютирует заболевание, Е.Stransky определяет как инициальный деликт (лат. delinquo – проступок, правонарушение). Такого рода деликты, как считается, особенно характерны для пациентов в дебюте шизофрении.
3) Мимо-действия – неправильные предметные действия пациентов с истерическим психозом – синдромом Ганзера. Нарушение практического мышления проявляется в данном случае тем, что пациенты нарочито неправильно совершают простые предметные действия. Так, они чиркают спичкой другим её концом или по другой стороне коробка, вставляют в замок ключ обратным его концом, прикуривая папиросу, берут её в рот не тем концом; надевают шапку задом наперёд и т. д.



