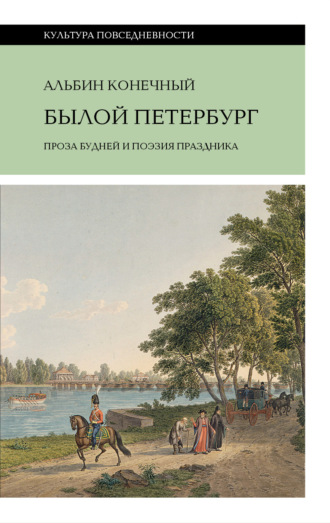
Полная версия
Былой Петербург: проза будней и поэзия праздника
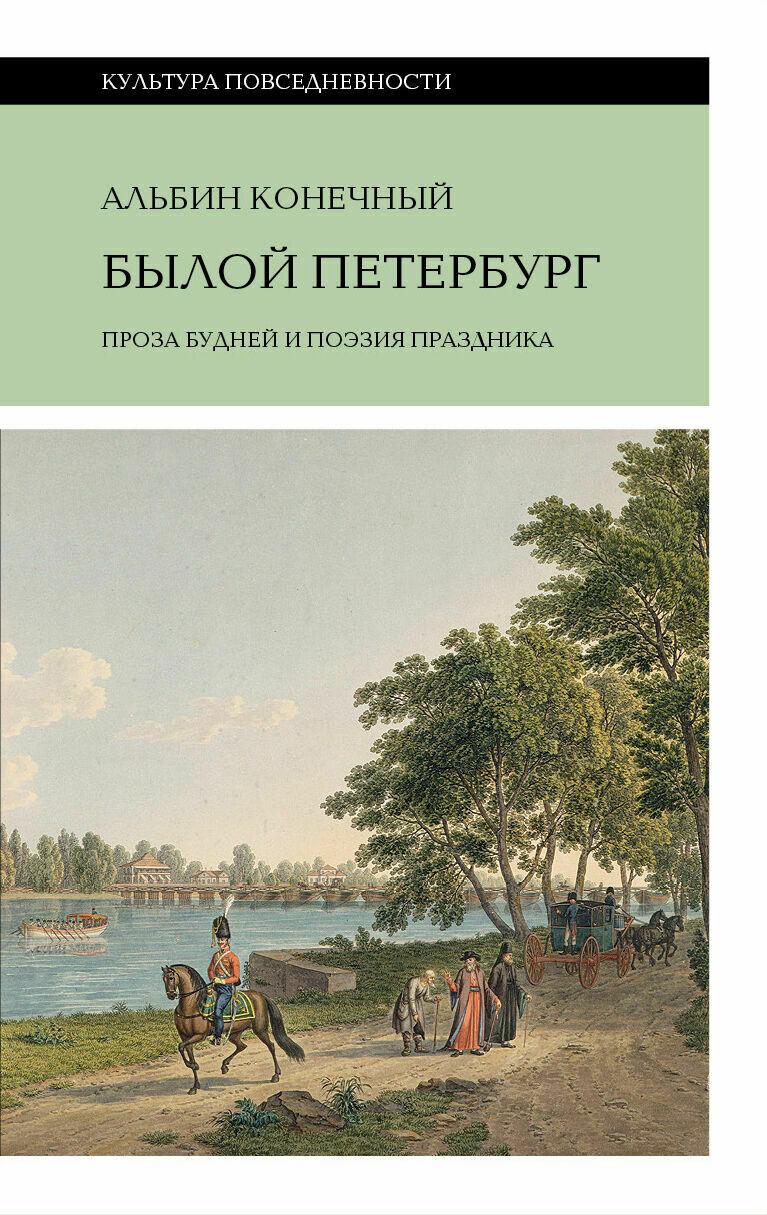
Альбин Конечный
Былой Петербург Проза будней и поэзия праздника
Ксане
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
В кратком вступлении «От автора» автор пишет о том, как он пришел к изучению города1. Следует сказать несколько слов и о месте исследований Альбина Конечного в более широком дисциплинарном контексте.
К изучению дореволюционного Петербурга в контексте российской культурологии исследователи вернулись в начале 1980‐х годов, спустя много лет после разгрома в 1920–1930‐х Экскурсионного института и общества «Старый Петербург». (Гонения коснулись и одного из зачинателей петербургского градоведения, Н. П. Анциферова.)
Изучение быта Петербурга конца XVIII – первой трети XIX вв. началось, однако, раньше, в 1970‐е годы, в «Семинаре по быту» Ю. М. Лотмана, который был организован при кафедре Русской литературы в Тартуском университете и просуществовал около пяти лет. Здесь по материалам документов и мемуаристики эпох Павла I и Александра I студенты писали рефераты и делали доклады по отдельным сферам быта этого времени (ордена и медали, городские экипажи, городское освещение, военный и штатский мундир, карточные игры, дуэли и т. д.). В летние каникулы для участников семинара устраивались городские экскурсии в Москве и Ленинграде. Теоретические разработки были предложены в хорошо известных трудах Тартуско-московской семиотической школы (работы Ю. М. Лотмана, Вяч. Вс. Иванова, В. Н. Топорова, Т. В. Цивьян), в частности в программном сборнике «Семиотика города и городской культуры. Петербург», выпущенном по материалам одноименной конференции, устроенной в Тарту 11–13 февраля 1983 года. В практико-этнографическом ключе петербургские темы освещались в докладах в Институте этнографии Академии наук на ежегодных научных чтениях «Этнография Петербурга-Ленинграда», начавшихся в том же 1983 году.
В Соединенных Штатах и Западной Европе, совершенно независимо, существовала и существует обширная междисциплинарная область урбанистики (urban studies). Большинство исследований в рамках этой области включают социологические, демографические и экономические аспекты, а также практические стороны, связанные с городским планированием. Однако в изучении урбанистики участвуют и гуманитарные дисциплины. Среди них – популярная отрасль под названием «культурная география» (cultural geography), в рамках которой выходят работы о различных культурных аспектах природного и городского ландшафта, включая и символику. Как в рамках urban studies, так и просто в рамках исторических и культурологических штудий существует интерес к культурной истории и исторической этнографии города, однако в отдельную субдисциплину такие труды не оформились.
Отвлекаясь от темы города: в западном научном обиходе история быта также не оформилась в отдельную дисциплину. Большое место занимает «история частной жизни», которая оформилась во Франции в 1980‐е годы и затем проникла в англоязычную практику. В этой области имеется авторитетное издание (в пяти томах) под общей редакцией Ф. Арьеса и Ж. Дюби2. Тома организованы хронологически, от древнего Рима и Византии в первом до современности в пятом. В каждом томе имеются тематические разделы, например, дом и семья, включая и пространство дома, и ритуалы семейной жизни, и интимные документы, такие как дневники, письма и фотографии. (На исчерпывающий охват всех областей частной жизни эта история не претендует.) Город – скорее, формы уличной жизни – присутствует в каждом томе. Во всех томах имеется обширная библиография, которая показывает, что область эта вполне эклектическая (в некоторых аннотациях она связывается с исторической школой «Анналов»).
Что касается собственно славистики, то здесь можно указать на отдельные исследования, которые – как часто бывает в западной славистике – опираются и на западную систему университетских дисциплин, и на русскую научную традицию, а потому занимают промежуточное положение. В этой связи следует назвать два исследования. Прежде всего, это монография Джули Баклер (Julie Buckler) «Mapping St. Petersburg: Imperial Text and Cityshape» (Princeton: Princeton University Press, 2007). Это исследование, которое можно причислить к культурной географии, включает в себя главы о физическом пространстве и эклектической архитектуре города, от дворцов до трущоб; о путеводителях; о городских легендах; о «коллективном тексте Петербурга» в литературе – а в связи с этим концептом наряду с представлениями западных теоретиков города употребляется и понятие Топорова «петербургский текст», и «Душа Петербурга» Анциферова. В работе Д. Баклер используются и труды А. Конечного, приведенные в обширной библиографии.
Другая книга посвящена самому явлению изучения Петербурга. Мы имеем в виду исследование Эмили Джонсон (Emily Johnson) «How St. Petersburg Learned to Study Itself: The Russian Idea of Kraevedenie» (University Perk, PA: Penn State University Press, 2006). Автор называет анализируемый круг работ о Петербурге «краеведением», указывая в предисловии, что в системе западных гуманитарных дисциплин нет точного соответствия российскому увлечению градоведением. Э. Джонсон использует разработки А. Конечного и приводит в библиографии его труды. Назовем также коллективную монографию о формировании мифологизированного образа Петербурга, созданного многими поколениями авторов и институций, от основания города до наших дней: «Preserving Petersburg: History, Memory, Nostalgia» (ed. by Helena Goscilo, Stephen M. Norris; Bloomington, IN: Indiana University Press, 2008).
Едва ли будет преувеличением сказать, что публикуемые в настоящем сборнике статьи А. Конечного по быту и зрелищной культуре Петербурга нельзя отнести ни к одной из существующих отраслей изучения города (включая и Тартуско-московскую семиотику): они являются совершенно оригинальными исследованиями. Работы Конечного построены на огромном эмпирическом материале – найден и проработан массив печатных (работы по истории города, мемуары и опубликованная переписка, газетные публикации и рекламы, афиши, программы, разнообразный изобразительный материал, издания по регламентации частной и городской жизни и т. д.), а также рукописных источников. Восстановлена картина городского быта, как повседневного, так и праздничного: вывески, мелочные лавки, трактиры, дачи, народные гуляния, увеселительные сады, площадной театр (балаганы), краски (белые ночи) и звуки (мелодии) городской жизни и многое другое.
Эти труды, открывшие новые перспективы градоведения и петербурговедения, были замечены и использованы многими исследователями. Среди них – итальянские слависты Патриция Деотто, Антонелла Д’Амелия, Уго Перси, Джан Пьеро Пьеретто3. Публикации по истории быта Петербурга и городской культуре, подготовленные Конечным, используются не только в работах, посвященных собственно истории и символике Петербурга, но и в исследованиях на различные темы – такие как история народного театра и народной культуры, история моды, патриотическая культура в период Первой мировой войны и др.
Ссылки на труды и публикации Конечного можно найти в исследованиях Катрионы Келли (Catriona Kelly), Кристин Руане (Christine Ruane), Хубертуса Яна (Hubertus F. Jahn), Джеймса ван Гелдерна (James von Geldern), Токуаки Баннай (Tokuaki Bannai)4 и других ученых, опубликованных в Великобритании, США, Германии, Италии, Японии и других странах. А. М. Конечным подготовлена библиография «Быт и зрелищная культура Санкт-Петербурга – Петрограда. XVIII – начало XX века», ставшая незаменимым источником для всех исследователей города и комментаторов «петербургских текстов». Таким источником станет и предлагаемый вниманию читателей сборник.
Ирина Паперно (Университет Калифорнии, Беркли)ОТ АВТОРА
Подзаголовок для сборника заимствован из названия статьи В. Н. Топорова5, – так Владимир Николаевич определил «тему быта и развлечений в петербургской жизни».
Мое изучение городского быта столицы началось с «Северной пчелы», которая с 1820‐х годов стала регулярно сообщать о праздниках и развлечениях, фиксировать перемены в повседневной жизни Петербурга и его жителей. Впоследствии мною были фронтально просмотрены петербургская периодика и архивы, составлены тематические картотеки (в том числе по изобразительному ряду), на основе которых писались настоящие статьи, и была составлена аннотированная библиография с тематическим указателем6.
Все помещенные в сборнике статьи (кроме «Мелодии Питера» и «К истории появления статьи «Наблюдения над топографией „Преступления и наказания“») были написаны в 1976–2017 годах (дата и место первого обнародования указывается в примечании к заглавию). Незначительные исправления и дополнения специально не оговариваются.
В первом разделе прослеживается, какое место в жизни горожан занимали Нева, белые ночи, дачи и звуки города, как петербуржцы развлекались (площадные праздники, общедоступные увеселительные сады, «живые картины») и проводили досуг (прогулки, кафе, трактиры, рестораны), как был организован быт купцов, торговцев и художников.
Во втором разделе, «Петербурговедение», речь идет о забытых, ликвидированных новой властью институциях, которые занимались охраной, изучением и пропагандой наследия Старого Петербурга: обществе «Старый Петербург – Новый Ленинград» (1921–1938) и Гуманитарном отделе Петроградского научно-исследовательского экскурсионного института (1921–1924).
В этой же части помещена статья о первом бытописателе, Фаддее Булгарине, авторе своеобразной летописи повседневной жизни Северной столицы, которая предстает на страницах «Северной пчелы» и в его многочисленных очерках. Кроме того, в раздел включена работа о топографии «Преступления и наказания» Федора Достоевского, где поставлен вопрос, существовали ли адреса героев «Преступления и наказания» и стоит ли продолжать их поиски, а также статья, посвященная Петербургу в жизни и трудах Николая Анциферова, и очерк об отражении повседневного мира вещей в книгах Сергея Горного.
Особую благодарность выражаю Анне Федоровне Некрыловой, прочитавшей книгу в рукописи, за ценные замечания.
Часть I. Проза будней и поэзия праздника
НЕВА И БЕЛЫЕ НОЧИ: БЫЛЬ И МИФ7
Александру Николаевичу Мещерякову – московскому петербуржцу
«Быль и миф Петербурга остаются неотделенными и, быть может, неотделимыми, – писал Николай Анциферов. – В истории Петербурга одно явление природы приобрело особое значение, придавшее петербургскому мифу совершенно исключительный интерес. Периодически повторяющиеся наводнения, напор гневного моря на дерзновенно возникший город, возвещаемый населению в жуткие осенние ночи пушечной пальбой, вызывал образы древних мифов. Хаос стремился поглотить сотворенный мир»8.
«Наводнения для Петербурга то же, что извержение Везувия для Неаполя, – говорил актер Петр Петрович Каратыгин. – Одно стоит другого: там – огонь, здесь – вода; но нельзя не сознаться, что на долю Петербурга выпало из двух зол меньшее»9.
Ощущая угрозу, не спешили обосноваться в молодом граде и его первые поселенцы (точнее – переселенцы). «В первых годах основания Петербурга жители довольно часто терпели бедствия от наводнений; по преданию, первые обитатели прибрежья Невы никогда не строили прочных домов, но небольшие избушки, которые, как только приближалась бурная погода, тотчас ломали, складывали доски на плоты, привязывали их к деревьям, а сами спасались на Дудерову гору»10.
Постоянная опасность затопления города порождала легенды о его гибели.
«В 1720 г. явился какой-то пророк-пустосвят, предсказывавший, что ко дню зачатия Предтечи, 23 сентября, с моря нахлынет вода на город выше всех прежних вод. Она затопит Петербург и изведет весь народ за отступление от православия. Жители Петербурга приуныли и стали переселяться с низменных прибережьев Невы на места более высокие»11.
Нева явно не хотела мириться с городом на ее берегах и сразу же бросила вызов Петербургу и его основателю. Свирепый зев реки почти ежегодно напоминал о себе, особенно осенью и в начале зимы.
Нева оказала воздействие не только на формирование архитектурного пейзажа города, но и на повседневную жизнь его обитателей.
«В нашей жизни Нева играла… большую роль, и день наш располагался по ее норову, – свидетельствует граф Владимир Соллогуб. – То развернется она белою сахарною степью, и по ней играют лучи зимнего солнца. Это обозначало: дети, идите гулять. То вдруг прозрачная лазурная высь начинает туманиться быстро бегающими сизыми валунами, разрывающимися в лохмотья. Ветер стучится в окна и воет в печные трубы. Белыми бархатными пауками спускается на белую равнину густая рассыпчатая занавесь. Вдруг все завертелось, закружилось сверху вниз, снизу вверх. На Неве разыгралась метель. Дети, сидите дома! Зато в светлые, как день, весенние ночи каким очарованием дышала Нева! Влажное и неподвижное ее зеркало, широко обрамленное дремлющими и в воде отражающимися зданиями, далеко и спокойно тянулось к заливу, сливаясь с сонно-безмолвным и гладко-ровным небосклоном. Много видал я впоследствии и рек, и морей, и гор беловершинных, и степей беспредельных. Ничто никогда не внушало мне такого привольного чувства, как затишье Невы в весеннюю ночь. И теперь не могу глядеть на него без задумчивого наслаждения. <…>
Часто приходит мне на ум Нева, дремлющая в огненных отливах солнечного заката. Еще чаще вижу я ее сизо-серую, как сталь, подернутую зыбью под серыми тучами, между гранитом набережных и суровых стен Петропавловской крепости. И с ужасом припоминаю я, как однажды река перестала быть рекою и обратилась в море бешеное, разъяренное, смывающее Петербург с лица земли.
Это было 7 ноября 1824 года»12.
Особенно много страшных эпизодических рассказов и преданий сохранилось о наводнении 7 ноября 1824 года.
«Скажу тебе, что знаю о следствиях страшной свирепой пятницы, в которую разверзались подземные хляби поглотить нас, – писал художник Алексей Венецианов Николаю Милюкову 24 ноября 1824 года. – <…> Все улицы наполнились водою, в пенистых которой волнах скрылись нижние етажи. <…> Я только выходил к Неве и увидел берег наш таким, каким он был, может быть, и в XVI веке – казался таковым. <…> Все мрачно молчало и леденело… <…> Описывать вам свирепости мокрой могилы, мрачную пасть свою расстилавшей, не стану, воспоминания действия, а более следствий, до гроба, кажется, станут цепенить каждого»13.
Упомянутый выше Владимир Соллогуб воспоминает: «Ничего страшнее я никогда не видывал. <…> Нельзя было различить, где была река, где было небо… <…> …Забурлило, заклокотало одно сплошное судорожное море… <…> Мы бросились к окнам на Неву и увидали страшное зрелище. Перед ожесточенным натиском бури неслись в туманном коловороте разваливавшиеся барки с сеном. Ветер разметывал сено во все стороны целыми глыбами, барки разламывались в куски, и мы ясно видели, как посреди крушения какие-то тени стояли на коленях и подымали руки к небу. И видя это, мы тоже почувствовали ужас, и тоже стали на колени, и тоже начали молиться. Спасение казалось невозможным… <…> Существует предсказание, что он (Петербург. – А. К.) когда-нибудь погибнет от воды и что море его зальет. Лермонтов… любил чертить пером и даже кистью вид разъяренного моря, из‐за которого подымалась оконечность Александровской колонны с венчающим ее ангелом. <…> После наводнения 7 ноября на Петербург легло томящее, свинцовое, все поглощающее уныние»14.
«В этой драме было много и смешных случаев: так, например, какая-то деревянная хлебопекарня всплыла, а находившиеся в ней люди и не подозревали, что изба их двинулась с места, и продолжали свою работу»15.
По свидетельству очевидцев, зрелище разбушевавшейся Невы, в первые часы подъема воды, вначале приковало внимание петербуржцев: «При постепенной прибыли воды толпы любопытных устремились на берега Невы и с любопытством смотрели на сей грозный феномен природы. <…> …выражение какого-то недоумения, удивления или любопытства заменяло на лицах зрителей страх или робость. <…> Пока, наконец, вдруг в улицы со всех сторон не хлынула вода. Тогда всеобщее смятение и ужас объяли жителей»16.
Наводнение 7 ноября 1824 года быстро обрастало фантастическими слухами, закрепляло в сознании петербургский эсхатологический миф, а «наводненческая» тема стала достоянием русской литературы.
Одно из таких преданий (во многих из них мотив смерти, реже – чудесного спасения) приводит Михаил Пыляев. «Рассказывали, что одна молодая вдова, проживавшая в одной из линий Васильевского острова, накануне похоронила на Смоленском своего старого супруга, над прахом которого не расположена была долго плакать и терзаться, потому что покойный сожитель мучил ее своею ревностью. Проводив его на место вечного успокоения, она также думала найти, наконец, душевное спокойствие, но каков же был ее ужас, когда вечером рокового дня она увидела гроб своего сожителя у самого крыльца ее дома!»17
«Александр смотрел на ужасы наводнения с балкона Зимнего дворца, – утверждает Каратыгин. – Сохранилось предание, будто мимо дворца неслись по волнам колыбель с плачущим младенцем и гроб (быть может пустой). Это было как бы напоминанием императору о таинственной пророческой связи наводнений с его рождением и кончиной»18.
«Это страшное наводнение произвело сильное впечатление на государя, – вспоминает современник, – и расположение духа сделалось у него с тех пор мрачным. Он говорил, что это предсказывает ему конец и что он недолго проживет»19.
Бытовало и устойчивое мнение, что наводнение – возмездие за грехи. Когда вода спала, Александр I «отправился в Галерную [гавань]. Тут страшная картина разрушения предстала перед ним. Видимо пораженный, он остановился и вышел из экипажа; несколько минут стоял он, не произнося ни слова; слезы медленно текли по щекам; народ обступил его с воплем и рыданием. „За наши грехи Бог нас карает“, – сказал кто-то из толпы. – „Нет, за мои!“ – отвечал с грустью император»20.
«Смотря на всю картину, нельзя было не подумать, что Господь прогневался за грехи наши и посылает на нас кару небесную»21.
Однако петербуржцы и не думали покидать обжитые места. «В Галерной гавани жили и прожили целые поколения, борясь, чуть не каждую осень, с наводнениями и не соглашаясь переселиться из низменного родимого уголка в более высокие и безопасные части города. Привычка – вторая натура»22.
Но и когда река не угрожала, вид на Неву пробуждал противоречивые чувства.
Достоевский признается, что «видение» о «самом отвлеченном и умышленном городе на всем земном шаре» («Записки из подполья») посетило его на берегу Невы в зимний январский вечер. «Подойдя к Неве, я остановился на минутку и бросил пронзительный взгляд вдоль реки в дымную, морозно-мутную даль, вдруг заалевшую последним пурпуром зари, догоравшей в мглистом небосклоне. <…> Сжатый воздух дрожал от малейшего звука, и, словно великаны, со всех кровель обеих набережных подымались и неслись вверх по холодному небу столпы дыма, сплетаясь и расплетаясь в дороге, так что, казалось, новые здания вставали над старыми, новый город складывался в воздухе… <…> Казалось, наконец, что весь этот мир, со всеми жильцами его, сильными и слабыми, со всеми жилищами их, приютами нищих или раззолоченными палатами, в этот сумеречный час походит на фантастическую, волшебную грезу, на сон, который в свою очередь тотчас исчезнет и искурится паром к темно-синему небу»23.
Даже умиротворенная Нева навевала на знаменитого героя Достоевского – Раскольникова, когда он стоял на Николаевском мосту, чувство мучительного беспокойства. «Небо было без малейшего облачка, а вода почти голубая, что на Неве так редко бывает. <…> Он стоял и смотрел вдаль долго и пристально; это место было ему особенно знакомо. Когда он ходил в университет, то обыкновенно, – чаще всего, возвращаясь домой, – случалось ему, может быть раз сто, останавливаться именно на этом же самом месте, пристально вглядываться в эту действительно великолепную панораму и каждый раз почти удивляться одному неясному и неразрешимому впечатлению. Необъяснимым холодом веяло на него всегда от этой великолепной панорамы; духом немым и глухим полна была для него эта пышная картина. <…> Дивился он каждый раз своему угрюмому и загадочному впечатлению и откладывал разгадку его»24.
Зато Герцен, у которого было особое отношение к имперской столице, восторгался невской панорамой: «Жизнь Петербурга только в настоящем; ему не о чем вспоминать, кроме о Петре I, его прошедшее сколочено в один век, у него нет истории, да нет и будущего; он всякую осень может ждать шквала, который его потопит. <…> В судьбе Петербурга есть что-то трагическое, мрачное и величественное. <…> В Москве на каждой версте прекрасный вид; плоский Петербург можно исходить с конца в конец и не найти ни одного даже посредственного вида; но, исходивши, надо воротиться на набережную Невы и сказать, что все виды Москвы – ничего перед этим»25.
Дремлющую летнюю Неву описывает Константин Батюшков. «Ни малейший ветерок не струил поверхности величественной, первой реки в мире, и я приветствовал мысленно богиню Невы словами поэта:
Обтекай спокойно, плавно,Горделивая Нева,Государей зданье славноИ тенисты острова.Великолепные здания, позлащенные утренним солнцем, ярко отражались в чистом зеркале Невы, и мы оба единогласно воскликнули: „Какой город! Какая река!“»26
Владимир Петрович Бурьянов (настоящая фамилия Бурнашев) посвятил ей панегирик «Взгляд на Неву». «Как широка, как величественна эта голубая Нева, окаймленная гранитом… <…> Едва ли какая другая картина сравнится с тою, которую представляет нам наша державная Нева в хороший летний вечер, когда луна, взглянув сквозь темно-голубой покров небесного свода, глядится в ее воды, тихие зеркальные, отражающие в себе всю дивную красоту берегов, обставленных зданиями превосходной архитектуры, к которым привито так много высоких воспоминаний»27.
С Невой связаны и городские праздники.
При Петре I летние празднества проходили на берегу Невы (в Летнем саду, на Троицкой площади) или на воде (торжества по случаю спуска кораблей, прием именитых гостей). «Одним из любимых удовольствий Петра в его „парадизе“ было катанье по Неве, которое тоже было организовано по указу и должно было происходить по особому регламенту. В определенные дни, в разных местах города вывешивались особые сигнальные флаги, а на флагштоке крепости взвивался морской штандарт. Для жителей тогдашнего Петербурга это означало, что их приглашают выезжать на своих судах на Неву к крепости. <…> Царь бывал на месте на своем буере или шняве, т. е. яхте, один из первых»28.
В XVIII – начале XIX века на льду Невы устраивались на Масленой неделе народные гулянья, на которые собирался весь город. Возводился (чаще всего напротив Петропавловской крепости) увеселительный городок: две огромные катальные горы, деревянные театры (балаганы), карусели и другие постройки. Этот праздник привлекал петербуржцев обилием зрелищ и развлечений, атмосферой игровой активности и непринужденного веселья. Светская публика и состоятельные горожане выезжали на гулянье, чтобы продемонстрировать новые экипажи и моды, а также посмотреть на забавы народа, который, в свою очередь, с любопытством взирал на множество карет и саней, опоясывающих толпу и постройки. Место, где проходило празднество, превращалось в своеобразную сцену («театр в театре»), а участники «русского карнавала» были одновременно и зрителями, и действующими лицами.
Ежегодно 6 января29 отмечалось Богоявление (Крещение). «Праздник Богоявления обыкновенно сопровождается большим воинским парадом, для которого собираются почти все находящиеся в столице и ее окрестностях войска, – сообщает Павел Свиньин. – Для совершения сего празднества воздвигается на Неве, против Эрмитажа, великолепный решетчатый храм. Сей храм снаружи украшается осмью вызолоченными изображениями ангелов и четырью живописными картинами, представляющими: крещение спасителя Иоанна, проповедующего в пустыне; переход израильтян чрез Чермное море и избрание апостолов Петра и Андрея. Сверх того, сей храм вокруг обносится широкою террасою и открытою галереею; в первой совершается молебен, а во второй помещаются знамена всех гвардейских полков, приносимые для окропления их святою водою.
Божественную службу обыкновенно совершает митрополит с многочисленным собором духовенства. Минута величественная! При появлении церковного хода, спускающегося по набережной из дворца, тысячи голов вдруг обнажаются и поклонением святым образам представляют море, внезапно всколыхавшееся. Процессия шествует на Иордан в сопровождении всей царской фамилии; гром артиллерии и перекатный огонь ружей возвещают погружение в реку святого креста, и сие мгновение не менее разительно и живописно! Народ, коим бывает устлана вся Нева, мгновенно стремится к прорубам и отверстиям, сделанным на льду реки: тот, стоя на коленах, пьет из горсти воду, другой черпает ее чашечкою, третий наполняет ею бутылку, четвертый умывается, всеми движет одна мысль – исполнить сей священный обычай. Во весь сей день и следующие народ толпится на Иордане, который для сего нарочно оставляется на трое суток»30.

