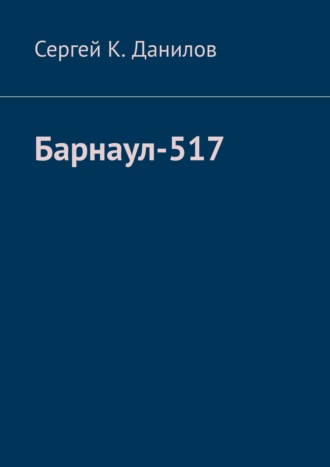
Полная версия
Барнаул-517
Переводные издания Мопассана, Золя и прочих менее известных в плане литературного мастерства, зато с более изощерёнными в подробностях любовных сцен, до чего тароваты французы, не были утверждены для чтения в городских библиотеках, но библиотекарь снабжал ими молоденьких дам из-под прилавка.
«Милая моя дочь, знание из книг полезны в области наук, – наставляла маменька, – а в области чувств должна сохраняться сокровенная тайна и первозданная чистота. Для счастливого брака жена должна быть первой женщиной у мужа, а он должен быть первым мужчиной в ее жизни. А то представь себе: девушка читает роман и, хочешь не хочешь, проникается думами, ощущениями и любовями героинь, вместе с ними постигая таинство любви, и раз и два и три, становясь тем самым… душевно пресыщенной дамой в совсем юном возрасте. Она тогда и в замужнем состоянии будет сравнивать мужа с романными героями, с которыми пережила первый душевный трепет, от того герои будут казаться ей лучше, ибо все, впервые прочувствованное оставляет более глубокий след в душе, что же тогда будет с ее замужеством? С семьей? С детьми? Все станет ей постыло… Словесный блуд самый худший, ибо в начале было слово… и в начале любого греха, и в начале добродетели… и, поверь, дурное слово, напечатанное и растлевающее душу – есть самое ужасное из нынешних пороков, уж я за жизнь свою того навидалась достаточно, хоть в гимназиях не училась. Отсюда следует, что девушка – изначально невинное дитя, – прочитав десяток-другой любовных романов, как бы пережила любовные связи, выпавшие на долю героинь, с десятком мужчин, и, развращаясь умом, бессознательно становится почти падшей женщиной, все время думая о греховном, начинает сама горячиться бессознательной страстью раньше времени… к любому случайному встречному-поперечному. Нет, дитя мое, прошу для блага твоего и моего: не бери эти книги ни в библиотеке, ни из-под полы… ни за деньги, ни бесплатно Знаю я, что ныне многие подрабатывают распространением запрещенной литературы…
Но откуда вам знать – про что книга написана, не прочитав ее, добрая маменька? Только от библиотечного просветителя господина Фогеля, то бишь, Мокрицы.
Нет, не пустит родительница на дело освобождения невесть какого пленного Штихеля, стало быть надобно ехать в Дунькину рощу сразу, не заезжая в родительский дом…
– А вы знаете, Настасья Павловна, что не первым учителем у нас во Власихе числитесь, до вас был человек – собирался школу строить на общественные деньги, давно, лет сорок тому назад. Слыхали. Нет? А вон, поглядите, видите земля пустая стоит – вербой заросла – она Штилькиной пустошью обзывается. Лет сорок тому назад один немец барнаульский по фамилии Штилька, говорили даже что дворянского он звания, в нашей Власихе истребовал эту землю под хозяйство, а чтобы местное общество к себе расположить, обещал, что школу для крестьянских детей здесь откроет и будет учить их всем наукам. Землю ту Штилька, конечно, получил, но из всех прочих начинаний один урон для местных жителей да пшик получился.
– Правильно – Штильке надо говорить, – подсказала Анастасия. – Господин Штильке в городе Барнауле организовал Общество попечения начального образования и заведовал им вплоть до своей смерти. Две школы Общество построило и Народный дом для проведения спектаклей, лекций и музыкальных концертов с библиотекой. Он был даже избран депутатом Государственной думы, но умер лет десять тому назад.
– Про то мы весьма наслышаны, матушка моя. А начинал все же Штилька здесь, у нас, я тогда пареньком был лет десяти – двенадцати, его видел и помню – уж очень большой конфуз произошел. Заезжие городские купцы рассказывали старикам нашим, будто батюшка евонный состоял казначеем всего Барнаульского округа, и сына своего в Томскую гимназию учиться отправил, а после гимназии прямиком в Петербург в университет на врача обучение проходить. Но тот высшего заведения не закончил, обратно вернулся. Толи денег не хватило оплатить у казначея округа на обучение сына, то ли с революционерами спутался и его выслали из столицы обратно к родственникам под надзор – доподлинно неизвестно, разное в народе говорили, но сам он, Штилька наш, по приезде во всеуслышание объявил, что, дескать, вместе с народом хочет жить пахать и сеять, сельским хозяйством заниматься. Что твой граф Лев Толстой. Земляной этот надел ему бесплатно из казенных земель сверху выделили без промедления, как вроде переселенцу. А какой он переселенец из столичных студентов во Власихинские крестьяне-огородники? Да никакой, естественно. Это же надо с малолетства науку крестьянскую познавать, к ней привыкать, от отца с матерью перенимать, ее в университетах не дают. О земле-то особый вопрос. Сказывают, когда в 63-ем году вышло освобождение приписных рабочих и казенных крестьян от заводской кабалы на серебряном Барнаульском заводе да рудниках, царь им дарственным указом отписал из казенных земель частные наделы близ Барнаула. Но тем землеустройством занимался не сам царь-батюшка, а кабинетные чиновники его величества, что сплошь и рядом из немцев состоят. Да и в округе нашем начальство сплошь немецкое, и стали они не казенным крестьянам землю нарезать, а своим колонистам немецким, которые либо здесь по разным ведомствам служили, и бесплатно хотели на земельке нажиться, либо из Петербурга прибежали за своей партией «Земля и воля», то бишь хождение в народ устроили вроде нашего Штильки, а настоящим крестьянам – шиш без масла достался. В Павловске так сильно переселенцев обманули с землей той обещанной и не даденой, что целое восстание поднялось, войска вызывали подавлять, много кого и в холодную тогда упекли…
Ну, вот. Стало быть, приехал из Петербурга наш Штилька-студент неудачный и говорит: «Я теперь крестьянствовать буду на своей земле!». Бауэром каким-то назвался. То бишь по-ихнему – знатным хозяином. Но с хозяйствованием у бауэра нашего нового не очень заладилось: ни коня сам запрячь толком не умел, ни за плугом пойти, известное дело – городской дворянин, казначеев сынок к тому же. И в наем к нему никто не пошел – платит мало. Немец – он всегда ведь хочет, чтобы русский на него за так работал, и желательно, чтобы на цепи сидел, видит в нас по-прежнему приписных казенных крестьян, только не к заводу царскому, а к своей собственной персоне. Господский народ немцы – ох, господский. Уразумел все же Штилька – ничего у него не получается с хозяйствованием. «Ладно, – говорит, – вы тут народ совсем темный, неграмотный, давайте хоть для детей ваших школу организуем, деньги на строительство соберем, шапку по кругу пустим, я со своей стороны купцов городских подниму на благотворительное дело, и разрешение от министерских властей вытребую на открытие сельской школы. Построим и будем детей учить письму и счету, и закону божьему, а выучатся они сим наукам, то потом хорошую работу в городе найдут и не станут горе мыкать, как вы мыкаете».
Мужики лбы почесали, бороды в кулаки сгребли да и решили, что школа – дело хорошее, надо сброситься на него, кто сколько сможет, леса купить да всем миром здание выстроить. Штилька шапку тогда на сходе о земь кинул – эх, была не была – свою землю под школу отдать вызвался: «Да на святое дело народного образования мне ничего не жалко, последнюю рубаху сниму». Видя такое истовое благочестие, мужики на сходе определили его казначеем школьным, ведь семейство благородное, дворянское, и папенька был казначей, и руку никогда в казну не запускал, раз сына не смог выучить на врача – вроде как денег не хватило. А если бы выучил – все равно приехал к нам младший Штилька и лечил бы всех бесплатно. Так все говорили друг другу. Ладно, год собирали взносы. Торгующие крестьяне – те помногу давали, кто и пять даже рублей, а то и червонец выкладывал, чтобы только дети – внуки грамотные были. Кто же о том не мечтает из нашего брата? Что бы спину всю жизнь не гнули на чужом заводе или в оброчном ярме? Набрали уже за полторы тысячи рублей. Штилька на каждом сходе по бумажке отчитывался складно, кто сколько сдал, и общую сумму называл, что раз от разу здорово подрастала. Пришла пора уже план архитектору заказывать, как вдруг обокрали нашего Штильку в дороге и, вроде как, его собственные деньги тоже отняли лихие люди, и всю школьную кассу заграбастали, которую он, как назло вез тот раз в Барнаул – в банк положить. Полиция искала разбойников по его описанию, да никого, само собой, не нашла. А ему шибко, видно, неудобно было перед обществом, что он больше после этого к нам во Власиху ни разу не приехал, будто зарок дал – ни ногой. Вот эта земля и стоит с тех пор сорок лет, Штилькиной пустошью зовётся, пребывая в его собственном владении. А он в Барнауле быстро женился на какой-то своей немке, в приданое взял пребольшущий дом. Ну, там тоже дело темное: кто говорит, что на приданное жены купил, другие бают, что на школьные, дескать, деньги – утаил их, а после недвижимое имущество приобрел, выдав его за приданое. И в доме том открыл для городских детей платную школу. Следом Общество свое организовал, купцов стал подбивать в его Общество деньги вносить на великое дело просвещения. И даже стал землеустройством заниматься для переселенцев. Но все время нелады случались по земельным вопросам в нашем округе, до бунтов дело не раз доходило. А когда мы новую, вашу, то есть, школу задумали в селе снова строить, обратились загодя к штилькам, наследникам его, царствие ему небесное, насчет участка – не отдадите ли на общественное благо под школу, как завещал ваш благородный папенька на общественном сходе сорок лет назад, тому и запись сохранилась у старосты? «Нет, – ответили те ходокам, – эта земля есть наше законное наследство. Ежели цену хорошую назначите – извольте, так и быть, уступим». Сами-то назначили в три раза дороже городской, ну общество от них и отстало. А ведь депутатом в Государственную думу был от нашего округа в свое время, из-за благородной своей репутации пекущегося о благе народном и денно и нощно, когда в Петербург переехал, аж в Кабинете царском работал по землеустройству. Но ни земли, ни школы от Штильки деревня так и не дождалась, а деньги общественные на нем большие потеряла, наше поколение неграмотным выросло в результате и дети наши тоже, такие вот дела со штилькиной пустошью, но, может, теперь внуки у вас, Анастасия Павловна, счету и грамматикам научатся.
Въезжая на Соборный переулок, Фрол Никитич обеспокоился: «Как бы кооперация не закрылась, может, сначала на Старый базара заедем?»
Но и Анастасия Павловна спешила по своим благодетельным делам, потому предпочла отпустить Фрола Никитича, поблагодарив, взяла извозчика на Конюшенной бирже и поехала вверх по Московскому проспекту к Лагерю, что за Дунькиной рощей расположен, где попросила охрану препроводить ее к начальству, скоро попав под ясные очи вахмистра Шарова. И с ходу устроила ему крепкий разнос, которого тот от миловидной девушки вовсе не ожидал: почему они, изверги такие, держат в темном холодном каземате военнопленного Штихеля, который всего лишь пел песни ночью? Ну да, свои немецкие песни! Что с того? Это, может быть, их народные песни! Человек в плену находится, и так скучает по родине, по отцу-матери! Он несчастный, слабый, больной человек! После свержения царского самодержавия никто не имеет права бросать человека в сырые застенки и темные казематы! Не для того монархию свергли, чтобы людей ни за что снова в карцеры бросать!
– Как зовут?
– Кого? Штихеля?… Пауль!!!
– Вас!
– Анастасия Павловна Долгополова, учительница…
– Откуда вам известен военнопленный австриец Штихель?
– Какая разница откуда?
– Извольте отвечать!
– Он… видите ли… я учительствую в селе и являюсь домашней учительницей на хуторе Визе… а он там работал у колониста Визе на строительных работах…
– Кем вам доводится военнопленный Штихель?
– …знакомый!
– Вы состоите с пленным австрийцем Штихелем в запрещенной переписке?
– Нет, конечно! Но по какому праву…
– Ясно. Дежурный, препроводите девицу в камеру заключения до выяснения вопроса и решения начальника лагеря.
Так учительница сельской школы и барнаульская мещанская дочь Анастасия Павловна Долгополова оказалась заключена в лагере военнопленных, проведя там ужасные вечер, ночь, день, опять вечер, и (о, боже!) еще ночь и половину следующего дня, в то время, как вышеупомянутый австрийский военнопленный лейтенант Штихель, которого она так героически мчалась спасать, давно был отпущен с гауптвахты специальным указом начальника лагеря, полковника русской армии, курляндским бароном фон Штауфе и жил-поживал в вольном граде Барнауле, Немецкой слободе, сразу за Аптекарским мостом, на квартире у аптекаря Майера, по соседству с тремя его дочками, такими озорницами, что доннер веттер! Аптекарь тот, несмотря на сухой российский закон, тайно приторговывал в своем заведении пивом, возя его аж от томского пивовара немца Крюгера. Для любимого квартиранта девицы Адель и Минна таскали пиво совершенно бесплатно прямо тому в комнату. Так что жил Пауль с пивом, девицами на полном аптекарском обеспечении, имея все жизненные удовольствия вдоволь, и пребывая, ровно как у Христа за пазухой.
Глава 2
Закинув одну премиленькую ножку на другую, тоже весьма недурную, обнаженная барышня восседала на низком подоконнике у раскрытого оконца, выходящего во двор, рядом с горшком цветущей герани, с блаженством покуривая. Время от времени она небрежным щелчком стряхивала сизый пепел в цветок, попадая то на мохнатенькие листики, то прямо на аленькие лепестки.
Ясное барнаульское утро выдалось по-летнему солнечным, теплым и тихим, а календарь, висевший в чистенькой комнатке на выбеленной перед Пасхой стенке, указывал апрель 1917 года.
Лицо барышни имело мечтательное, слегка сонное выражение. Сощуренные в узенькую щелочку глазки, свидетельствовали о полном удовлетворении прожитой ночью, рыжие, мелкие, как баранья смушка, кудряшки, за часы, проведенные на узкой скрипучей кровати, развились совершенно, и торчали ныне смешными рожками во все стороны.
Выпустив замысловатую струйку дыма, она коснулась снисходительным взором своего кавалера, который валялся на сбитой в комья постели, чрезмерно умаявшись за бурную ночь, похрапывая широко отворенным ртом, где блестели, отражая утренний лучик солнца, два вставных зуба.
Произведенный осмотр документов подтвердил, что прошлым вечером в электро-театре «Триумф», что расположен в пассаже Смирнова на Московском проспекте, при наличии зала более чем на триста мест, а так же, буфета с кофе, чаем, шоколадом, другими контрабандными товарами и напитками, продаваемыми Шпунтовичем совершенно открыто в своем барнаульском заведении, и, соответственно, среди самой разношерстной публики, она совершенно верно вычислила и смогла подцепить в привычном для себя безупречном стиле того, кто был ей нужен по делу чрезвычайной революционной важности, не вызвав при этом ни малейшего подозрения у окружающих. Высмотрела за три минуты образцово-показательного водевиля, среди множества австрийских масляных полупьяных морд, успевая вскидывать ножки на положенную высоту.
На сей раз нужным оказался бывший лейтенант 82-го пехотного полка австрийской армии, ныне военнопленный барнаульского лагеря номер 161, Фриц Краузе – тридцатилетний блондинистый немчура, имевший будто обожженную гладкую розоватую кожу на лице, испещренную давними отметинами оспы и уже наметившуюся на затылке плешью размером с детское блюдце. Белесая щеточка редких, истертых усов под узким, перебитым носом, короткая шея и развитая мускулатура плечевого пояса довершали видимую ей с подоконника картинку. Из невидимого: рост весьма и весьма средний, глаза выпуклые, серые, блеклого оттенка.
По вышеперечисленным приметам Дунька «сфотографировала» австрийца в «Триумфе», предварительно отмахав ногами на сцене перед началом сеанса кордебалет в виде рекламы летнего театра Общественного собрания, где их труппа с началом сезона готовилась ставить фарсы революционного сатирико-порнографического содержания про Распутина и фрейлен царского двора, недавно свергнутого самодержца Николая Второго, а также общую любовницу всея царской династии Матильду Кшесинскую. Сцена та находилась на пересечении улицы Томской и Соборного переулка. С мая месяца театр приступал к работе, о чём сообщал плакат, развернутый прошлым вечером в «Триумфе», и каждый вечер из оставшегося времени здесь, на сцене, перед началом сеансов, благодаря знакомству с владельцем электро-театра мил-другом гражданином Шпунтовичем, бывшим уголовным арестантом, а ныне даже и городским головой узловой станции Тайга, проходила рекламная предсезонная акция.
Коротконогий немец – явно любитель авантюр подобного толка – весьма легко на нее повёлся. «А что, пожалуй, сей бонвиан сгодится на уготованную ему роль в преддверии грядущих событий. Пожалуй, она готова поставить на него, как на «красное».
Докурив папироску, дамочка щелчком отослала окурок в куст смородины, росший у забора, и задорно тряхнула кудряшками.
По непривычно жаркой для апреля погоде, снег в Барнауле давно сошел, ручьи сбежали, горячее солнце основательно прогрело песчаную землю, и, хотя куст находился в вечной заборной тени, почки на смородиновых ветках давно раскрылись в чудно пахнущие листочки.
– Просыпайся, товарищ, – усмехнулась она, радуясь весеннему настроению природы и своим мыслям.
Встала с низкого подоконника, ухмыльнулась простовато, будто играя на сцене деревенскую дурочку в красном сарафане, которая скоро этот сарафан весьма выигрышно потеряет, чем вызовет бешеный восторг мужской публики летнего театра, потянулась недурно сложенным телом навстречу солнышку, раскрыв светилу бритые подмышки, потом рявкнула фельдфебельским басом:
– Штей ауф, комрад, ляха муха!
Во сне Краузе почудилось, что он у себя в австрийском городе Линце, казарме учебного полка, вроде как удрыхся в неположенное время, возможно даже прикорнул на караульном посту.
– Что? – вырвалось все же по-русски.
Фриц злобно выпучил оловянные зенки на невесть откуда взявшуюся гостью.
– Что-что, – передразнила девица, соблазнительно качнув бёдрами. – Пора, говорю, барин, расчет производить. С вас, господин хороший, причитается два рублика за оказанные услуги. Но если возжелаете чего дополнительно… могу еще разок прилечь… на посошок.
И доверчиво заморгала наивно вытаращенными глазёнками по углам скромно обставленный старушечьей комнатки с иконой и лампадкой.
Тоже оглянувшись по сторонам, Краузе не без сожаления осознал, что находится отнюдь не в Линце, и даже не галицийской хате, где дрых сурком накануне пленения, и уж, конечно, не в казарме сибирского лагеря 161 для военнопленных, но в комнате с отдельным входом, которую снял буквально вчера же у некой бабули на окраине сибирского города Барнаула под весьма секретную акцию на проведение которой, наконец, решилось местное немецкое командование в лице полковника фон Штауфе.
Вот только девицу эту легкого поведения за каким чёртом сюда приволок? Да еще распил с ней бутылку? Не сболтнул ли чего лишнего ночью? Откуда только взялась эта рыжая стерва?
Что стерва – совершенно очевидно. А насколько опасна в данной ситуации, необходимо прояснить как можно скорей. Краузе наморщил перебитый в драчливой юности нос, всегда первым чуявший неприятности, который ему совсем недавно подправили в деревне местные парни, и осмысленно заговорил на русском языке без всякого акцента, ибо по рождению являлся подданным российской империи, проведшим детство в Баку, где папа – истый немецкий националист, а дядя – немецкий социалист инженерили на нефтепромыслах Нобиля, фирму которого держал под контролем известный в местных кругах грузин по кличке Коба. Согласно происхождению, Фрицу самой судьбой предназначено было стать наследственным национал-социалистом, и он, как многие другие, давно стал им, то бишь, социализм Краузе полагал сделать государственной религией исключительно для немцев, и блага для народного немецкого социализма должны быть получаемы за счет прочих неарийских, а стало быть, неполноценных народов.
– Ты… кто такая?
– А Дунька мы, всем в Барнауле известная, – с веселой нагловатостью отвечала девица, жеманно поводя плечиками. – Дуня-Дуняша, радость ваша, аль забыли, господин хороший? Сами, небось, пригласили, да прямо с извозчика в постелю доставили прямым ходом на ручках. А таперича вспомнить не могут… мужчина неблагодарный, с утра пораньше с допросами пристает: как да кто? Дед Пихто и бабка Никто…
– Верно, как же… проститутка вчерашняя, припоминаю… Да и прежде… как-то… имел честь… встречаться. Нет? Ладно, барышня. не обижайся…. Я, видишь ли, сам люблю того… «кто не хочет иметь слишком много добродетелей». Так сказал однажды великий гений германского духа Ницше. Кофе есть?
– Кофия, сахарный мой, нету, могу сигаретку предложить. Али вам здесь квартирная хозяйка кофе варит?
– Нет, самоваром в сенцах можно пользоваться… Не вскипятишь ли чайку, прелестная фрейлен?
Однако барышня только мило улыбнулась, и вновь устроилась на подоконнике, потягиваясь с грацией ленивой кошки…
– Насчет чая с кофе скажу тебе, мил друг, следующее: понравился ты мне, немчура белобрысая… по женской нашей слабости… Вот как стану твоей фрау в Вене, а лучше даже Берлине, тогда… изволь… буду с утра слать служанку на… кухню… варить кофеёк… а пока… держи-ка папиросу… товарищ Краузе…
Раскурив, небрежно и точно кинула прямо в лицо. Краузе сигаретку успел словить, озадаченно затянулся, хмурясь от холодящего кровь ощущения, что где-то все же сболтнул лишнее… что было на него совсем не похоже. Вот не помнит он, что называл свою фамилию ночью… и вообще… зачем? В его нынешнем положении это особенно ни к чему.
– Дунька, значит… ну-ну…
– Не нукай, паря, не запряг ишшо… а хоть и Дунькой Беспортошной кликай, коли хошь… главное – чтобы нравилась безумно… Неужто и вправду имени не смог запомнить? Али не пожелали, господин хороший? Быстро у вас, муж-чин, я гляжу, память отшибает, за одну ночь, экий право… легкомысленный молодой человек оказались… но, конечно, весьма приятный… чего не отнять, того не отнять. В «Триумфе», не далее как вчера вечерком, вместе синематограф смотрели… обнявшись… душа в душу… и чего только мне на ушко не шептал в темноте, чего только не обещал… змий подколодный… Так это, миленький, как все же насчет оплаты? Обещания выполнять полагается, ваши благородия… а то сколько можно дурак-дураком валяться на чужих постелях, да расспросы производить, будто в полицейском участке? А ну гони-ка два рубля по-быстрому или квартального Гаврилу Степаныча кликнуть? Он тебе, немчура плешивая, враз объяснит диспозицию на местности…
Австрийский военнопленный флегматично затянулся слабенькой дамской папироской, лежал, не отвечая. Вдруг рассмеялся, указав на угол с иконой.
– Боженьку своего, зачем мордой к стенке отвернула? Чтобы лишнего не увидел?
– Само собой разумеется, а как иначе? Небось, накажет за грехи наши тяжкие… я есть девушка скромная, богобоязненная…
– Старая песня… можешь зря не хныкать. Постой-ка… богобоязненная… а Дунькину рощу, случаем, не в твою ли честь назвали? Ха-ха-ха! Там ведь, говорят, до войны публичный дом был?
Дунька презрительно сплюнула.
– А хотя бы и так, что с того? В доме том, на Волчьей Гриве, поблизости от полковых солдатских казарм я уже в «мамках» над девками состояла. А вот в Питере, гостинице «Европа» – да, накурулесила вдосталь, приятно вспомнить, товарищ! Да что сердце напрасно рвать – прикрыли в начале войны барнаульские гласные, черт бы их побрал всех разом, наш доходный домик в роще имени меня, красивой такой, чтобы мы, русские девушки, не достались врагу, то бишь, вам, австро-германским пленным басурманам ни за какие деньги, за два рубля так особенно… Пострадали мы из-за вас, гадов недобитых, в материальном плане страшно… Нынче в доме нашем театральная коммуна организовалась, номера сдаем заезжим, самовар кипятим за пятачок, а я, стало быть, тоже теперь… актриса…
– Актриса погорелого театра? Ха-ха-ха… – немец загоготал гортанно, раскрывая пасть даже шире, чем при храпе. – Вот уморила! А ну, брысь с подоконника, хозяйка со двора может увидеть, мне эту комнату сдали с условием девиц не водить… еще не хватало из-за тебя… Шнель, шнель, шортова девка!
– Слышь, ты, кобелина помойная, а ну, гони по-быстрому два рубля, не то кликну Гаврилу Степаныча! Он тебе рога-то в раз обломает!
– … ха-ха-ха! Не смеши, Беспортошная… разве ночью карманы не обшарила? Нет денег, последнюю ассигнацию вчера с утра отдал за комнату с бельем, мебелью и самоваром, а последний гривенник на извозчика спалил. Гаврилой своим не козыряй, мы хоть и пленные, но люди западом просвещенные: нет больше в вашем городе квартальных, всех вымели поганой метлой, вместе с царским самодержавием, стало быть, никто тебя не защитит, по причине революции, одевайся и вали на все четыре стороны, пока пинков не надавал!
– Есть, дяденька, новая городская милиция! – горячечно воскликнула Дунька тоненьким восторженным голоском, глядя через распахнутое окно в сторону уличной калитки, будто видя за ней свое спасение и поджидая его с минуты на минуту. – И еще у меня в народной милиции Совета солдатских депутатов хо-о-ро-шенький знакомый имеется!









