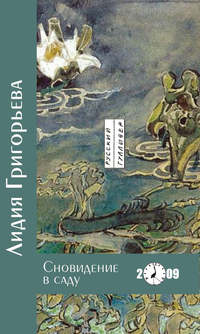Полная версия
Термитник – роман в штрихах

Лидия Григорьева
Термитник – роман в штрихах

Термитник
1
Раз
Термитник стоял на пути каравана, и бедуины в ущерб всему разумному обходили его стороной, теряя время, столь драгоценное в жаркой пустыне. Зачем и почему строились эти города, эти башни, эти улицы и проспекты, никто из караванщиков не знал. Это были простые торговцы и погонщики верблюдов. Но вечерами у костра, когда над их головами всходили ночные светила, они возносили свои молитвы Всевышнему, создавшему множество непостижимых миров, из которых и состоит теперь мироздание. То есть здание мира, где идет постоянная и неустанная работа над чем-то бессмысленным и бесполезным, как некое произведение искусства, как этот термитник, от которого никому никакой пользы не предвидится.
Два
– Я могла бы полюбить человека, который играет на гобое. Такой густой, обволакивающий, влекущий звук! Я бы сидела в зале всегда на одном и том же месте. А он – высокий, молодой и красивый – смотрел бы только на меня, извлекая из этой странной трубки всё, к чему могла бы устремиться моя душа. Я могла бы полюбить этого Моцарта.
– Но ведь Моцарт не играл на гобое!
– Ничего. Для меня бы заиграл…
Три
Зачем-то заехали в супермаркет. Бог знает зачем! Не было машины – муж ходил пешком в магазин «Продукты» за углом. Но там за прилавком стояла грудастая Тонька! Вот и пусть себе стоит. Не обломится теперь.
Четыре
Он никогда не думал, что может так низко пасть! А тут пошел выгуливать её таксу, поскользнулся, упал, разбил очки, долго елозил вслепую по грязному тротуару в надежде, что найдет их целыми, выпустил из рук поводок, эта мерзкая сучка дала дёру, и он понял, что Жанна никогда его не простит, что жить ему больше негде.
И он – заплакал.
Пять
В первый же день посадила на кофточку жирное пятно! И разлюбила. Но не кофточку, а мужа. Хотя в нем самом никогда не было ни жиринки…
Шесть
На эскалаторе было не протолкнуться, и он не смог её догнать. С сожалением увидел, как мелькнул её роскошный лисий хвост в окне уходящего вагона. Как заслонила лицо Лизы чернобурая шевелюра её матери. Вспомнил, что в Лизиной сумке остался его реферат, и ему нечего будет предъявить преподу. «Патронаж. Патронташ. Патриот. Идиот!» – подумал Илья, уплывая по эскалатору вверх, сам теперь не зная зачем.
Семь
«Дэвушка, дэвушка! Вы мне понравились с лица! Давай покатаемся!» Розовый «линкольн» плыл рядом с ней от самой остановки автобуса. Черноглазый усатый джигит в желтом батнике в мелкий цветочек почти весь вылез из окна машины и повис над кромкой дороги. «Тебя и на пять минут нельзя одну оставить!» – сказал Армен, догоняя Лиану. И розовое авто вместе с розовыми мечтами смыло с лица земли навеки.
Восемь
После всего, что случилось, они больше не виделись. Словно с ледяной горки скатились вдвоем на дырявой картонке и сели в студёную лужу. Но однажды в Париже, на бульваре Капуцинов, за соседним столиком спиной к ней воссел большой, обжористый индивид и стал шумно и смачно, буквально взасос, поглощать мидий. Одно ведёрко, другое. Уже выросла рядом с ним гора перламутровых створок. А он все всасывал и всасывал в себя объедки со стола несостоявшейся судьбы.
Девять
Это он сделал зря. Зря он показал ей свои картины в интернете. Рисовальщик он был неплохой – график все-таки в далеком прошлом. А сейчас… Эти кислотные краски… Словно грим на лице мертвеца! Хлою пробрала дрожь отвращения. Весь восторг от нечаянной встречи испарился, как не был. Они до утра проговорили о прошлом, уговорив на двоих бутылку виски, заедая питьё арбузом. И было ясно, что озноб очарования больше к ним никогда не вернется.
Десять
Скорая помощь приехала быстро. Она с трудом открыла опухшие от слёз глаза и увидела рядом с собой мальчика в белом халате, совершенно ангельского вида. Она плакала уже третий день почти без остановки. Без всякой особой причины. Все близкие были живы. Ничего не болело. Но есть она не могла. И не могла уснуть ни днем, ни ночью. Мальчик погладил ее по голове и что-то сказал пожилой усталой медсестре. Та сделала укол и вышла, пробормотав что-то недоброе. А он остался и сказал: «Вот моя мама тоже плакала три дня перед тем, как отец погиб. А потом перестала».
Одиннадцать
Великая китайская стена оказалась обидным новоделом для туристов. А ведь как мечталось едва ли не с детства увидеть и пройтись по ней. Ну, чтобы как в китайских сказках или там притчах. Ну, чтобы фанзы, джонки и китайские жёнки на крохотных ножках! «Эх, опоздали… Опоздали мы разбогатеть, чтоб на мир поглядеть!» – подумал Фёдор. Вызвал машину и поехал за товаром на склад, в аккурат под одним из полуразрушенных фрагментов некогда великой, но все еще китайской стены.
Двенадцать
Молодой менеджер Всеволод Кутузов до дрожи в коленках боялся лифтов. Он родился и вырос на высоком цокольном этаже сталинского дома. Жил с мамой. Преуспевал. И ничего не боялся, кроме кабинок скоростных подъемников. Недавно его повысили в должности – аж до сорок пятого этажа! И уже на подходе к одной из башен Москва-Сити он покрывался мелким холодным потом и очень стеснялся этого. И вот застрял! И просидел в лифте около восьми часов, и даже не заметил этого. Ведь её звали Алиса, как любимую героиню зачитанной ещё в детстве книжки…
Тринадцать
Он сразу сказал ей, что детей не хочет. И не вынесет их щенячьего визга. Что он будет ей и мужем, и любовником, и дитём малым, если это ей так надо. Соперников он не потерпит, даже в виде этих кровных кровососов. Она и не возражала. Ей самой хотелось обладать им полностью, и делить его ни с кем она не собиралась. И никогда, никогда не пожалела об этом. Вон великий Жан-Жак Руссо вообще всех своих детей сдавал в приюты, чтобы не мешали философствовать! А её муж был именно философ, со степенью и даже с именем. Старость их долго не брала, а потом вдруг – раз – и подкатила. И вот теперь почти каждый вечер они выходили вдвоём на Тверской бульвар, и с тихой улыбкой счастья сидели на скамеечке в любую погоду – клюка к клюке…
Четырнадцать
Ей давно уже был нужен настоящий мужчина. Чтоб в руках всё горело. Чтоб мешок картошки запросто донес от базара до дома. А не эти… И она посмотрела на своих подчиненных, типичных офисных сморчков, один другого лощенее. С маникюром! И татушками в потайных местах. Ей ли не знать. Когда-то ей было все равно, если любовь кружила голову, сильный он или слабый. Удержит ли молоток в руке или уронит ей на ногу, ну, это был повод посмеяться. Но сорок есть сорок. Возраст. Не до смеха. Мужчина нужен. Мужчина. "Пусть зарастет он щетиной, грубою и затяжной. Дай мне побыть защитимой, тихой и нежной женой!" Слова из старой песни. Надо же, вспомнились. Она бросила взгляд на забытую кем-то на её рабочем столе рекламную газету и увидела странное: "Заточка ножей на дому у заказчика! Виталий. Звонить по вечерам". Она усмехнулась: похоже на объявление начинающего расчленителя. Хотя… Чем чёрт не шутит… И она позвонила…
Пятнадцать
Когда он выпрыгнул с восьмого этажа, стоял погожий осенний день. Он рассчитывал нанизать себя на острые пики ограды элитного дома, но большие сильные деревья распахнули свои опахла ему навстречу и всё ограничилось только переломом конечностей и лопнувшей селезенкой. Сотрясение мозга словно бы вправило ему мозги на нужное место. И он прозрел. И понял, что больше не любит Алину, а любит дышать, видеть, слышать, обонять, осязать, есть, пить, спать! Душа его больше не болела. Болело только тело. Родители не жалели денег на опиаты. И со временем обменяли квартиру на первый этаж непрестижного дома, с пандусом для его инвалидной коляски.
Шестнадцать
Актрисой она не стала. А стала чтицей и устроительницей вечеров памяти Марины Цветаевой, пик популярности которой, после долго забвения, пришёлся на её молодые годы. Весь запас отпущенных ей жизненных сил она вложила в Сбербанк цветаеведения и почитания. И была там едва ли не главным вкладчиком и «ведуньей». На проценты от капитала никогда и не рассчитывала. Чистая любовь. Без тени корысти. Зря что ли она билась в конвульсиях страсти на маленьких клубных сценах по всей стране? Или не зря… Это теперь только её психотерапевт знает.
Семнадцать
«Не расстраивайся!» – сказала она. А он взял и растрои́лся! Трое внебрачных детей одновременно в разных городах – это вам не фунт изюму. Это три его копии. Так похожи, так похожи… Знала бы она, как он этому рад! Гад…
Восемнадцать
"Ну, наконец-то! – сказал волк, заприметив в зарослях красную шапочку кардинала. – Наконец-то я отомщу за своё поруганое детство!"
Вот так, дети, в сказках народов мира добро всегда побеждает зло…
Девятнадцать
– Ну, хорошо. Слушай. И вот однажды пьяному и богатому подали сто соловьиных сердец в винном соусе. Думал, съест их и сумеет полюбить. И душа его запоёт, зацокает, загули́т – и тут его все загуглят! Не вышло…
– Или вот еще… Однажды в осенний серый день нежданно-негаданно выглянуло солнце и обнаружило, что на земле никого не стало! Богатые и пьяные сначала всё и вся съели, а потом и сами умерли. Так что тут и сказке конец…
Ну, не буду больше, не буду. Спи.
Двадцать
Ну и что, что пятнадцать лет! Ну и что, что девятый класс! А он был все-таки самый красивый мальчик в школе. Яркий, черноволосый. Одно слово – Казарян. И вот он пригласил её в кино. Но лучше бы после фильма проводил её до дома молча. Оказалось, он совсем не умеет связно излагать мысли. Да и есть ли они у него? Он даже не знает, кто такой Хичкок! А ещё десятиклассник. С тех пор она стала опаздывать на сеанс, чтобы он больше перед ней не позорился. Вместо кино они теперь долго и молча гуляли по парку. И он грубо, по-медвежьи, подгребал ее к себе. Губы потом опухали, на шее оставались синяки от засосов. С тех пор у неё и вошло в привычку носить шарфики и шейные платки. Хоть давно уже никто не посягал на её огрубевшую за годы замшевую кожу над ключицей.
Двадцать один
Сколько было у неё печалей, она не считала. Она вообще считать не умела!
И не хотела уметь.
Двадцать два
"Я все равно тебя ненавижу", – сказала свекровь, с трудом погружаемая невесткой в теплую лечебную ванну, чтобы отмыть, наконец, струпья и промыть пролежни этой высохшей до состояния мумии старушки. " Позови Сёму!" Но Сёмы давно не было в этом доме. Умер, убили или просто пропал без вести, этого никто не знал. И две любящие его женщины давно жили вдвоём. "Молчали бы уже, – примирительно сказала невестка. – А то утоплю!" И свекровь почему-то была уверена, что это только игра, только шутка.
Двадцать три
Река стояла. Ледяное зеркало отражало бегущие по небу высокие облака. И ничто не предвещало скорую весну. Ночные поздние морозы затянули полыньи опасным, невидимым ледком. Толпа людей на берегу за три прошедших дня не поредела, а раздалась вширь. Женские рыдания стали тише. Это были уже редкие всхлипы. И в наступившей тишине стал слышен разговор залётных городских рыболовов с пешнями: "А сколько там было детей в этом школьном автобусе?" И чужой, чужеродный сельчанам басок ответил непонятное: "Вскрытие покажет!" Раздался сдержанный, но жуткий хохоток чужаков. "Да вскроется река, все станет ясно," – попытался один из них смягчить ситуацию. Но все равно уже острое, неуместное жало ужаса пронзило сердца людей. Рыбаки развернулись, чтобы уйти, но толпа молча сомкнулась над ними, как тяжелые воды поглотившей детей реки.
Двадцать четыре
Как это – ушёл? А куда? Надолго? Как это – навсегда? Он что – умер? Ах, женился на японке и улетел… но обещал вернуться… Она повесила трубку. И повесилась. Но неудачно. И решила повесить новые занавески. Сама. Без его помощи. Но не смогла – упала с шаткой табуретки. И опять не умерла. Да что же это такое! Ну никак не вдевается нитка в иголку! Любовь ослепляет, что ли…
Двадцать пять
Психиатр Вероника Хохлова лёгкой поступью любительницы большого тенниса сошла с крыльца и резко затормозила. За редким частоколом старой родительской дачи буйствовали предосенние "золотые шары". А над ними она увидела золотую голову недавнего пациента, которого её врачебное заключение спасло от тюремного и даже больничного заключения. Он был молод, хорош собой. И сожительницу убил, конечно же, в бессознательном состоянии, отравленный лекарствами, которые та подсыпала ему в напитки в надежде неистового многочасового полового акта. Измученный и оглушенный пациент убил нимфоманку и был оправдан. И вот теперь… А как он её нашёл, как узнал адрес? Да не её, а родителей? Спортивная сумка с ракетками показалась Веронике неподъемной. Ноги вросли в землю. Золотоголовый и прекрасный юноша сделал шаг ей навстречу, держа обе руки за спиной. И что там у него было – букет цветов или острый нож, она так и не узнала. Потеряла сознание, упала и ударилась головой об острую грань высокой, старинной, каменной ступени…
Двадцать шесть
"Так вот откуда ноги растут!" – сказал молодой начальник отдела и выкатил свои большие цыганистые глаза на секретаршу Леру. Над головами собравшихся прошёл сквозняк. А Лера торопливо одернула короткую юбчонку. "Значит, это вы оставили Красовского одного в моём кабинете?". "Он сказал, что учился с вами в Лондоне", – пролепетала Лера. "Учился, учился… И научился скачивать чужие технические файлы," – задумчиво сказал начальник. И продолжил, тяжело глядя на семенящую к выходу секретаршу: "А ведь вы… замужем за Красовским… Как я сразу не догадался…"
Двадцать семь
Он никогда и ничем не болел. За все свои пятьдесят лет не выпил ни одной таблетки. И не скрываясь презирал болящих. Особенно вечно ноющую тёщу, тем не менее дотянувшую свой житейский воз до девяноста с небольшим лет. И никого этим не обременившую, вот ведь! Постепенно его мужское «эго», не знавшее проблем со здоровьем, раздулось до опасных размеров, как большой пузырь. И как пузырь же и лопнуло однажды ночью, выбросив в пространство его тела вместе с желчью и громкий стон недоумения. «Пощади, Господи, помоги!» – воззвал впервые. И был услышан. Врач на скорой оказался опытным реаниматологом со стажем в сорок лет, изгнанным по возрастному цензу из элитной клиники, согласно новым веяниям и реформам. А на следующий день после операции его навестила тёща, приехавшая на метро с тремя пересадками и принесла апельсины, которые есть ему было нельзя. Ну и что! Зато этот оранжевый, жизнелюбивый привет из мира живых, но болезных, он впервые принял без самонадеянной издёвки.
Двадцать восемь
Увешанная жемчугами массивная шея, увитые змеиными золотыми браслетами широкие запястья, массивные кольца на толстеньких колбасках пальцев говорили не столько о достоинстве, сколько о достатке носительницы этих явных ювелирных излишеств. Пусть все знают, что она не просто пришла на вернисаж своего зятя, но она верит в его талант и финансирует его творческие искания. "Зачем вам это, Матрона Нифантьевна?" – робко спросил её референт по работе с иностранными клиентами. "Ну, если ты, Веня, знаешь семь языков, это не значит, что ты понимаешь хоть что-то в искусстве… ох… будущего", – внезапно запнулась она, ослепнув от вспышки какой-то громоздкой железной штуковины, выставленной в центре зала в виде экспоната. Погибли все. Кроме молодого художника, который в подвале пытался отжать заклинивший рубильник, чтобы привести в движение своё кинетическое чудовище, изрыгнувшее адский огонь прямо на посетителей.
Двадцать девять
Ему нравилась девушка в розовой кофточке с пышными воланами. Но женился он на старосте курса в строгой белой блузке. Потом она стала комсоргом всего потока. Партком. Райком. Перестройка. Перестрелка. Перестроились. Поднажали. И оказались в Гамбурге по еврейской линии десятой воды на киселе. Да не об этом речь. А речь о розовой кофточке, которую он так и не смог забыть. И наконец-то купил своей жене почти такую же на рождественской распродаже. Положил под ёлку. Заставил примерить. Но кофточка не сошлась на её груди и лопнула по швам на её арбузных бёдрах. А ведь казалась новой. И такой желанной.
Тридцать
Что возненавидишь в детстве, то потом и аукнется. Куда же тут без Фрейда. Деревенская нянечка крепко-накрепко, по старинке, крест-накрест пеленала чужого младенца, как пеленала и своего. Мать с отцом и не заглядывали в детскую после спектаклей. Им давно от славы башку снесло. Не любили, когда орал. А орал не от голода, а чтобы развязали тугие пелены, выпустили на волю. Вот с тех пор и невзлюбил пыточную эту несвободу – любые завязки-развязки, даже шнурки, даже ремни – всё, что стесняло. А тут на европейском автобане их остановили и заставили всех пристегнуться. Ну, и погнали вороных да каурых. Вот и отрезало ему голову ремнем безопасности, когда полетели в кювет. А вот не надо в джипе садиться позади случайного шофера! И не надо себе изменять.
Тридцать один
Вилла в Ницце. Кресло-качалка на большой веранде. Томатный сок со льдом и отварная куриная ножка. Это был её давний сон в юности, когда она ещё была замужем за начинающим нищим советским поэтом. Без партийного билета в кармане карьеру в те времена было сделать трудно. Но они тогда были в комсомольском возрасте. Их «пасли» официальные структуры и отправляли в творческие командировки в отдалённые уголки необъятной родины. Командировочные он экономил и на это они потом ещё какое-то время хорошо питались. Настроение портило только то, что нужен был творческий отчёт. Ну… стихи на тему. И вот послали его прославить некий угольный рай в Казахстане – Экибастуз. Он измучился потом, подбирая к этому слову-монстру рифму. И шутил: "Экий этот бастуз, однако"! И вот теперь через тридцать лет, сидя на веранде своей виллы, она подумала: "А ведь как было просто догадаться, что рифма тут – туз! А ещё лучше "козырный туз"! Внизу по олеандровой аллее почти бесшумно прошуршал красный феррари. "Эх ты, Петя, – подумала Лана о своей первой любви, – ведь такая лёгкая рифма… Рифма жизни. А ты её не угадал!" И она сошла с высокого мраморного крыльца своей виллы навстречу кругленькому, веселому, лысому человечку, похожему на козырного туза червей.
Тридцать два
Сначала ей было больно. Но потом она вышла замуж за сына этого своего бывшего любовника, и тому стало обидно. Но не больно.
Тридцать три
По-голубиному нежный гей, ласково и не больно ставил ему капельницы, делал уколы. Второй, почти что мальчик с африканскими большими клипсами вместо мочек ушей и татуировкой на крепкой шее, оказался сосудистым хирургом. Он вскрыл её отцу сонную артерию, внедрил в неё длинную тонкую проволоку и поводил ею туда-сюда, словно прочистил, как чистит сантехник засорившуюся трубу. Эти нежные, ласковые мальчики на её глазах спасали её отца, который некогда, согласно должности, вычислял, преследовал и сажал подобных им в советские лагеря. Хорошо, что он пока что был без сознания. А то бы мог "возникнуть" и начать читать им гневную нравственную проповедь на своем непонятном англичанам тарабарском русском языке.
Тридцать четыре
Как улететь в Торонто, если ты боишься летать… Можно купить билет на морской лайнер, что Джон и сделал, как только получил известие о смерти биологического отца, тоже Джона. "Джон Джонович! Пожалте к трапезе", – шутя звала малыша к обеду его русская мать, двадцать лет назад прочно осевшая в Шотландии, в поместье сбежавшего от них в Канаду мужа. Поместье было обветшавшим и нищим. Требовало вложений. И отец Джона – Джон – высылал им с матерью немалые деньги на поддержание имиджа старинного рода. Сам не зная почему рыжеволосый Джончик с младых ногтей возненавидел отца, которого никогда и в глаза не видел. Зато смертельно полюбил свою мать и обожал её возлюбленного, веселого, голожопого под юбчонкой, волынщика Бобби. Но права наследования следовало оформить, и наш Джон Джонович, страдающий ещё и водобоязнью, спрятался в каюте, задраил иллюминатор и включил бесконечный сериал. Клаустрофобии у него не было. Все было как дома. И все же неприязнь к невидимому отцу, согнавшему его с гнезда, как гончая собака куропатку, больно покалывала в подвздошье. Джон был очень домашний, скрытный, затаившийся социопат. И вот некто, кого он никогда и в глаза не видел, заставил его разбить привычную скорлупу и выйти в неизведанный и опасный внешний мир. И тут пол каюты стал уплывать у него из-под ног. Страшный удар ураганной волны выбил стекла и вынес Джона в открытый океан. Он даже не понял, что утонул. Но последняя его мысль о человеке, который сначала вбросил его непрошено и негаданно в этот мир, а потом – против воли – в бушующий океан, все же всплыла на поверхность воды большими пузырями, которые тут же лопнули от наполнявшей их ненависти.
Тридцать пять
Ему долго удавалось оставаться в полной безвестности. В сущности до самой смерти. А это была нелёгкая задача. Ведь не так просто быть замечательным художником и всю свою жизнь любить одну и ту же женщину. Не напиваться на вернисажах более успешных в финансовом и медийном смысле друзей. Не скандалить. Кому нужен такой обыкновенный обыватель! Серятина, а не жизнь. Но вот его громкая смерть могла бы поправить дело. Но и тут он ухитрился умереть ночью во сне, да ещё в своей постели! И вот тут словно бы очнулись его дети. Они стали разбирать завалы в мастерской и обнаружили, что их отец способен заполнить своими абстрактными полотнами ужасающей величины самые невероятные помещения новых арт пространств. Тут уж повезло, что младшая дочь художника училась в школе с будущей женой стареющего фронтмена из списка Форбс. Подружка убедила мужа вложиться в раскрутку неудачливого живописца. Успех был ошеломительним. Особенно, когда пожар уничтожил почти все работы, выставленные на старой конфетной фабрике, перестроенной под модную галерею. Доставшиеся две работы были проданы за баснословные деньги на западном аукционе. И это наконец-то прославило его. И как всегда, посмертно.
Тридцать шесть
Как-то он не сразу сообразил, что дети – это совершенно отдельные существа, а не обязательные твои копии, как в физическом, биологическом, так и в ментальном плане. Он злился на своих двойняшек, что они поздно научились ходить и говорить, что они белесые и безбровые, бледнокожие субтильные блондины, а не яркие брюнеты, как их мать, и даже не шатены, как он сам. И этот астигматизм, легкое косоглазие, столь очевидное на всех семейных фото, которые так любит делать тесть, известный кинооператор, до безумия любящий своих поздних внучат от единственной дочери. Ну вот… И теперь они выросли. Стали знаменитыми киношниками. Создавали свои киношедевры вместе. Братья Гримм и Траугот им в пример. "Мы вместе мыслим. И вместе чувствуем", – сказали отцу. А вот он сам как-то стремительно постарел и стерся, как карандашный рисунок. И оказалось, что они тоже всю свою жизнь были не вполне довольны тем, кто достался им в отцы. Твои дети – это не ты.
У Бога на них другие планы…
Тридцать семь
"Расскажите ему про любовь! Он ничего о ней не знает!" Мама мальчика едва сдерживала слёзы. "Доктор, он нас слышит? Вот он пальчиком пошевелил. Вот веки у него дрогнули. Сейчас девочка придёт, которая, как мне кажется, нравилась ему. Они вместе в эту секцию ходили. Скалолазание это. По нашим Красноярским столбам. Они же гладкие, скользкие. Это для взрослых. А он пошёл туда один. Да ещё в дождь. Он никогда меня не слушал. Никогда. Когда родился, грудь не взял. Оттолкнул. И посмотрел на меня чужими глазами, как не родной. Отец… ах, да, отец. С ним у него всё по другому. Подражал ему во всём, слушался, как солдат командира. Да, отец потомственный военный. Да, голос у него, как гром небесный. Сын должен его услышать. Вот, смотрите, звонок по Скайпу. Это он! Павел! Павел! Ты где? Прилетай. Петенька в коме. Но он ждёт тебя, я знаю. Хорошо, хорошо. Сейчас включу твой голос на полную громкость. Это и мёртвого поднимет. Ой, что я несу… Он живой, живой! Петенька! Петя! Поговори с папой! Он расскажет тебе зачем нужно жить. Чтобы любить, Петя. Чтобы любить. Говори же, говори, Павел. Как это – нету связи. А ты где? Опять на полигоне? Опять испытания? А что у вас там за грохот? Доктор! Все отключилось! Как теперь быть? Я не могу сказать сыну, что от отца давно одна пыль осталась, что их всех испепелило тогда на тех секретных испытаниях. И что я давно прокручиваю ему старые записи из их разговоров по Скайпу и Вотсапу Доктор! Он должен жить. Где эта девочка? Она, мне сказали, была с ним тогда, стояла внизу на страховке. Только она и знает, что случилось. Ах, вот она. Скажи, скажи ему, Соня, что ты его любишь. Расскажи ему, что такое любовь. Он услышит тебя, он услышит! Он будет жить, Соня. Он будет жить…"