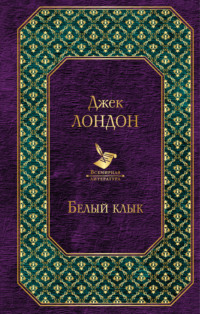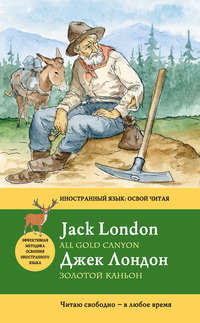Полная версия
Алая чума. До Адама
Тогда я был молодым человеком двадцати семи лет и жил по ту сторону залива Сан-Франциско, в Беркли. Эдвин, ты помнишь те огромные каменные дома, которые мы видели, когда спустились с холмов Контра-Коста? Вот там-то я и жил, в тех каменных домах. Я был профессором английской литературы.
Многое из того, что рассказывал старик, было выше разумения его внуков, и все же они жадно слушали, стараясь понять события прошлого.
– А зачем нужны эти каменные дома? – спросил Заячья Губа.
– Помнишь, как отец учил тебя плавать?
Заячья Губа кивнул.
– Ну вот, в Калифорнийском университете – так назывались те каменные дома – мы учили юношей и девушек думать – точно так же, как я с помощью песчинок, камешков и крабьих панцирей растолковал вам, сколько людей жило в те времена. Учить приходилось многому. Юноши и девушки, которых мы учили, назывались студенты. Они собирались в больших комнатах, человек сорок, пятьдесят сразу, и я говорил им всякие вещи. Ну, так же, как сейчас рассказываю вам. Рассказывал о книгах, которые были написаны много лет назад, а иногда даже и в то самое время…
– Так это все, что ты делал: говорил, говорил и говорил? – удивился Хоу-Хоу. – А кто же добывал мясо, кто доил коз, кто ловил рыбу?
– Разумный вопрос, Хоу-Хоу, разумный вопрос! Как я уже сказал, добывать пищу в те времена было просто. Мы были очень умные. Несколько человек могли добывать пищу для многих. А остальные занимались другими делами. Вот я, как ты сказал, только говорил. Да, я говорил, говорил все время, и за это мне давали еду, много еды, отличной еды. Такой я не пробовал шестьдесят лет и вряд ли теперь попробую. Знаете, иногда я склонен думать, что самым удивительным достижением нашей гигантской цивилизации была еда – ее непостижимое обилие, бесконечное разнообразие и восхитительный вкус. Да, мальчики, то была настоящая жизнь – какие вкусные вещи мы ели!
Внукам были непонятны эти восторги, но они решили, что дед, по обыкновению, заговаривается от старости.
– Тех, кто добывал нам пищу, звали свободными людьми. Но это была шутка. Мы, принадлежащие к правящему классу, владели землей, машинами, всем на свете, а те люди были нашими рабами. Мы забирали себе почти всю пищу, которую они добывали, и оставляли им лишь самую малость, чтобы они были в состоянии работать и добывать для нас еще больше пищи.
– А я пошел бы в лес и раздобыл бы себе еду, – заявил Заячья Губа. – И попытайся кто-нибудь отнять ее у меня, я убил бы его.
Старик засмеялся.
– Ведь я сказал, что мы, люди, принадлежащие к правящему классу, владели и землей, и лесами, и всем остальным. Тех, кто отказывался добывать для нас пищу, мы наказывали или обрекали на голодную смерть. Но таких попадалось немного. Большинство предпочитало все-таки добывать нам пищу, шить нам одежду и вообще делать для нас тысячу – положи ракушку, Хоу-Хоу, – тысячу всяких приятных вещей. Меня в те времена звали профессор Смит, профессор Джеймс Говард Смит. Мои лекции были очень популярны, иначе сказать, многие юноши и девушки любили слушать, как я рассказывал о книгах, которые написали другие люди. Я был счастлив и ел вдоволь всяких вкусных вещей. Руки у меня были мягкие, потому что я не работал ими, и тело чистое, и одежда самая изящная… – Старик с отвращением посмотрел на свою облезлую козью шкуру. – Такого мы не носили. Даже рабы одевались лучше. И кожа у нас всегда была чистая. Каждый день мы по многу раз умывали лицо и руки. А вот вы никогда не умываетесь – разве что упадете в воду или вздумаете поплавать.
– Но ведь и ты не умываешься, дед, – возразил Хоу-Хоу.
– Куда уж там! Времена не те. Теперь я грязный старикашка. И никто не умывается, да и нечем. За шестьдесят лет я не видел ни одного куска мыла. Вы не знаете, что такое «мыло», и я не стану объяснять вам, потому что я рассказываю о другом – об Алой смерти. Вот все вы знаете, что такое хворь. Прежде мы называли это болезнью. Очень многие болезни вызывались микробами. Запомните это слово – «ми-кро-бы». Микроб – это такое крохотное существо. Наподобие клещей, какие бывают на собаках весной, когда они убегают в лес. Только микроб еще меньше. Его даже не видно…
Хоу-Хоу расхохотался.
– Ну и чудной же ты, дед! Как же можно говорить о том, чего не видно? Если ты не видел эти штуки, откуда ты знаешь, что они есть? А ну-ка, объясни! Разве можно знать то, что не видишь?
– Разумный вопрос, Хоу-Хоу, очень разумный. И все-таки нам удалось увидеть кое-каких микробов. Дело в том, что у нас были такие устройства – они назывались микроскопы и ультрамикроскопы. Мы приставляли их к глазу и смотрели через них, и тогда все вещи становились больше, чем они есть на самом деле, а многого мы вообще без микроскопов не видели. Лучшие наши ультрамикроскопы увеличивали микробов в сорок тысяч раз. Вы не забыли, что ракушка обозначает тысячу человеческих пальцев? Возьмите сорок ракушек – во столько же раз микроб выглядел больше, когда мы смотрели на него в микроскоп. Кроме того, у нас было еще одно устройство – киноэкран, с его помощью увеличенный в сорок тысяч раз микроб становился еще во много тысяч раз больше. Так мы разглядели все, что не видно простому глазу. Возьмите одну песчинку и разделите ее на десять частей. Потом одну из частей в свою очередь разломите на десять частей, потом еще на десять, еще и еще на десять и делайте это весь день, и тогда к закату, может быть, вы получите такую же маленькую крупицу, как микроб.
Мальчишки смотрели на старика с нескрываемым недоверием. Заячья Губа презрительно фыркал, Хоу-Хоу тихонько хихикал, но Эдвин толкнул их локтем, чтобы они замолчали.
– Клещ на собаке сосет из нее кровь, а микробы, будучи очень маленькими, сами попадают в кровь и там плодятся. В теле одного человека насчитывали до миллиарда микробов… Дайте, пожалуйста, крабий панцирь… Так вот, столько, сколько означает этот панцирь. Мы называли микробов микроорганизмами. Когда миллионы или миллиарды микроорганизмов попадали в тело человека, в его кровь, он начинал хворать. Микробы вызывали болезни. Было великое множество видов этих микробов – столько видов, сколько песчинок на берегу. Мы знали только некоторых из них. Мир микроорганизмов оставался невидимым для нас, мы редко могли туда проникнуть, и мы мало что знали о нем. И все-таки кое-какие микробы нам были известны. Вот, например, bacillus anthracis, micrococcus, потом Bacterium termo и Bacterium lactis – те самые, от которых даже теперь свертывается козье молоко, Заячья Губа. Знали мы и разные виды Schizomycetes и много других…
Здесь старик ударился в рассуждения о свойствах различных микроорганизмов, причем настолько длинные и заумные, что мальчишки перемигнулись и уставились на пустынный океан, забыв о словоохотливом старике.
– А как же Алая смерть, дед? – напомнил наконец Эдвин.
Старик вздрогнул и с усилием сошел с кафедры, откуда он читал каким-то иным слушателям лекцию о новейших, шестидесятилетней давности, теориях болезнетворных микробов.
– Да, да, Эдвин, я отвлекся. Что делать, иногда воспоминания о прошлом так сильны, что забываешь, что теперь ты жалкий старик, облаченный в козью шкуру, который бродит вместе со своими внуками-дикарями, пасущими коз в первобытной пустыне. «Миры проходят словно дым», – так и наша славная гигантская цивилизация прошла, сгинула, как дым. Теперь меня зовут дедом, я дряхлый старик и принадлежу к племени Санта-Росов, потому что женился на женщине из этого племени. Мои сыновья и дочери породнились с другими племенами – с племенем Шофера, Сакраменто, Пало-Альтов. Вот Заячья Губа из племени Шофера. Ты, Эдвин, из Сакраментов, а ты, Хоу-Хоу, принадлежишь к Пало-Альтам. Название этого племени идет от названия города, который находился поблизости от другого большого очага культуры, Стэнфордского университета. Ну вот, теперь я снова вспомнил, кто я и что я. Все встало на свои места. Итак, я рассказывал об Алой смерти. На чем я остановился?
– Ты говорил о микробах, которых не видно, но будто от них у человека начинается хворь.
– Да, правильно. Так вот, человек сначала не замечал, что к нему в тело попадают микробы: их было мало. Но потом каждый микроб делился пополам, и становилось два микроба, те в свою очередь делились пополам и так далее, причем делились они с такой быстротой, что очень скоро в теле человека были уже миллионы микробов. Тогда человек хворал. У него начиналась болезнь, которая называлась по тому виду микроба, который попал ему в кровь. Это могла быть корь, инфлюэнца, желтая лихорадка или тысячи иных болезней.
И вот странное дело: беспрестанно появлялись все новые и новые микробы. Давным-давно, когда на Земле жило мало людей, и болезней было наперечет. Но люди размножались, селились вместе в больших современных городах, и тогда начали появляться новые болезни – новые микробы попадали в тело человека. Миллионы людей умирали от болезней. Чем плотнее селились люди, тем страшнее становились болезни. Когда-то, еще в Средние века – это задолго до моего рождения, – по Европе пронеслась Черная чума. И потом она не раз опустошала ее. Затем туберкулез – им неизбежно заболевали там, где люди жили скученно. Лет за сто до моего рождения разразилась бубонная чума. А в Африке распространялась сонная болезнь. Бактериологи боролись с болезнями и побеждали их так же, как вы, например, убиваете волков, защищая от них коз, или давите садящихся на вас москитов. Бактериологи…
– Дед, а что это… Как ты их называешь?
– Как бы тебе объяснить? Ну, вот ты, Эдвин, пастух, твоя обязанность – стеречь коз. И ты много знаешь о козах. А бактериолог следит за микробами, это его работа, и он много знает о них. Так вот, бактериологи боролись с микробами и иногда уничтожали их. Одной из самых страшных болезней была проказа. За столетие до меня бактериологи обнаружили микроба проказы. Они досконально изучили его, сделали много снимков – я сам их видел. Но они так и не нашли способа уничтожить микроба проказы. Но вот в 1984 году случилась Повальная чума. Она вспыхнула в стране, которая называлась Бразилия, и унесла миллионы людей. Бактериологи обнаружили микроба этой болезни и нашли способ уничтожить его, так что Повальная чума не распространилась дальше. Они сделали так называемую сыворотку, которую вводили в тело человека. Сыворотка убивала микроба, не принося вреда человеку. В 1910 году были пеллагра и анкилостома. Бактериологи быстро разделались с ними. Но в 1947 году появилась новая, совсем неизвестная до того болезнь. Ею заражались грудные дети, не старше десяти месяцев, – у них отнимались руки и ноги, они не могли ни двигаться, ни есть. Бактериологам потребовалось одиннадцать лет, чтобы найти способ уничтожить микроба этой болезни и спасти детей.
Несмотря на все эти болезни и на новые, которые вспыхивали потом, в мире становилось все больше и больше людей, потому что было просто добывать пищу. Чем легче было добывать пищу, тем больше становилось людей. Чем больше становилось людей, тем теснее они селились. И чем теснее они селились, тем чаще появлялись новые болезни. Многие предупреждали об опасности. Еще в 1929 году Солдервецкий предупреждал бактериологов, что мир не гарантирован от появления какой-нибудь неведомой болезни, которая может оказаться в тысячу раз сильнее всех известных до сих пор и которая может привести к гибели сотни миллионов людей, а то и весь миллиард. Все-таки мир микроорганизмов оставался тайной. Ученые знали, что такой мир существует, что оттуда время от времени вырываются наружу полчища микробов и косят людей. Это почти единственное, что они знали. Они догадывались, что в этом невидимом мире столько различных видов микробов, сколько песчинок на берегу моря. Иные полагали, что в нем могут нарождаться новые виды микробов. Не исключена возможность, что именно там начиналась жизнь – «безграничная плодовитость», как называл это Солдервецкий, пользуясь выражением других людей, которые писали до него…
Тут Заячья Губа поднялся на ноги, и на лице у него было написано крайнее презрение.
– Дед, – заявил он, – мне надоела твоя болтовня. Почему ты не рассказываешь о Красной смерти? Если не хочешь, так и скажи, тогда мы пойдем обратно в становище.
Старик молча посмотрел на него и тихонько заплакал. Слезы беспомощности и обиды катились у него по щекам, словно все горести долгих восьмидесяти семи лет отразились на его опечаленном лице.
– Садись-ка ты! – вмешался Эдвин. – Дед ведь рассказывает. Он как раз подходит к Алой смерти, правда ведь, дед? Сейчас он обо всем расскажет. Садись, Заячья Губа! Продолжай, дед.
III
Старик утер слезы грязными кулаками и снова заговорил дрожащим тоненьким голоском, который креп по мере того, как рассказчик входил во вкус.
– Чума вспыхнула летом 2013 года. Мне тогда было двадцать семь лет, и я отлично все помню. Сообщения по беспроволочному телеграфу…
Заячья Губа сплюнул от злости, и старик поспешил объяснить:
– В те времена мы умели разговаривать по воздуху на тысячи миль. И вот пришло известие, что в Нью-Йорке разразилась неизвестная болезнь. В этом величественнейшем городе Америки жили тогда семнадцать миллионов. Поначалу никто не придал значения этому известию. Это была мелочь. Умерло несколько человек. Обращало внимание, однако, то, что они умерли слишком быстро и что первым признаком болезни было покраснение лица и всего тела. Через двадцать четыре часа пришло сообщение, что в Чикаго зарегистрирован такой же случай. В тот же день стало известно, что в Лондоне, самом крупном, уступающем лишь Чикаго городе, вот уже две недели тайно борются с чумой. Все сообщения подвергались цензуре, то есть запретили говорить остальному миру, что в Лондоне началась чума.
Дело, по-видимому, принимало серьезный оборот, но мы в Калифорнии, как, впрочем, и всюду, нисколько пока не тревожились. Все были убеждены, что бактериологи найдут средство против этой болезни так же, как в прошлом они находили средства против других болезней. Но беда в том, что микробы, попавшие в человеческий организм, убивали человека с поразительной быстротой. Не было ни одного случая выздоровления. Это как азиатская холера: сегодня вы ужинаете с совершенно здоровым человеком, а завтра утром, если подниметесь пораньше, видите, как его везут на кладбище мимо вашего дома. Только эта неизвестная чума поражала еще быстрее, гораздо быстрее. Через час после появления первых признаков заболевания человек умирал. Иные протянули несколько часов, но многие умирали и через десять – пятнадцать минут.
Сначала учащалось сердцебиение, поднимался жар, затем на лице и по всему телу мгновенно выступала алая сыпь. Мало кто замечал жар и сердцебиение: настораживала лишь сыпь. В это время обычно начинались судороги, но они длились недолго и были не очень сильными. После того как человек перенес судороги, он больше не мучился и единственно – чувствовал потом, как быстро, начиная с ног, немеет тело. Сначала ступни, затем колени, затем поясница, а когда онемение доходило до сердца, человек умирал. Он не бредил, не спал. Он до конца, пока не останавливалось сердце, находился в полном сознании.
И еще странная вещь – до чего быстро разлагался труп! Как только человек умирал, тело его начинало распадаться на куски и словно таять прямо на глазах. Вот одна из причин, почему чума распространялась так быстро: миллиарды микробов, находившиеся в трупе, немедленно попадали в воздух.
Поэтому-то бактериологи и имели так мало шансов на успех в борьбе с этой болезнью. Они умирали в своих лабораториях во время исследований микробов Алой смерти. Они показали себя героями. Вместо одних, умерших, тут же заступали другие. Впервые изолировать бациллы чумы удалось в Лондоне. Телеграф повсюду разнес эту весть. Этого ученого звали Траск, но через сутки с небольшим он умер. Ученые в своих лабораториях бились над тем, чтобы найти средство, поражающее чумные бациллы. Все известные лекарства не помогали. Найти средство, сыворотку, которая убивала бы микробов, но не причиняла вреда человеку, – вот в чем была загвоздка. Пытались даже применить других микробов, вводить в тело больного человека таких микробов, которые были врагами чумных микробов…
– Но ведь их же не видно, эти штуки, микробы! – возразил Заячья Губа. – А ты мелешь всякий вздор, будто они есть на самом деле! Того, что не видно, нет вообще. Драться против того, чего нет, тем, чего нет, – скажешь же тоже! Дураки они все были в те времена! Потому и загнулись. Так я и поверил в эту чепуху!
Дед снова заплакал, но Эдвин тут же взял его под защиту.
– Послушай, Заячья Губа, ты ведь и сам веришь в то, чего не видишь.
Заячья Губа замотал головой.
– Ты вот веришь, что мертвецы встают из могил. А разве ты их видел?
– Да, видел, я же говорил тебе. Прошлой зимой, когда мы с отцом охотились на волков.
– Ну ладно! Но ты всегда сплевываешь через левое плечо, когда переходишь ручей, – наседал Эдвин.
– А это от сглазу, – отбивался Заячья Губа.
– Значит, ты веришь в сглаз?
– Ну а как же!
– А ведь ты ни разу его не видел! – торжествовал Эдвин. – Ты хуже деда с его микробами! Сам веришь в то, чего не видел. Давай рассказывай, дед, дальше!
Заячья Губа, подавленный поражением в этом метафизическом споре, прикусил язык, и старик продолжал повествование.
Не станем утяжелять рассказ излишними описаниями того, как то и дело пререкались внуки, перебивая старика, как, чуть понизив голос, обсуждали услышанное и строили всевозможные догадки, пытаясь постигнуть тот исчезнувший и неведомый мир.
– …Наконец Алая смерть вспыхнула и в Сан-Франциско. Первый человек умер утром в понедельник. К четвергу в Окленде и Сан-Франциско люди гибли как мухи. Они умирали всюду: в постели, на работе, на улицах. Во вторник я сам увидел, как умирает человек от чумы. Это была мисс Колбрен, моя студентка. Она сидела прямо передо мной в аудитории, и вот, читая лекцию, я увидел, как лицо у нее внезапно стало алым. Я замолчал и только смотрел на нее: все мы были уже напуганы слухами о чуме. Девушки закричали и кинулись вон из комнаты. За ними последовали молодые люди – все, кроме двоих. У мисс Колбрен начались судороги, правда, несильные, и длились они всего минуту. Один из юношей принес ей воды. Она выпила совсем немного и вдруг воскликнула:
– Я не чувствую своих ног! – Потом, через минуту: – Ноги совсем отнялись. Как будто их и нет. И колени холодные. Я едва чувствую их.
Она лежала на полу, мы подложили ей под голову стопку тетрадей. Ничем другим мы не могли ей помочь. Тело ее холодело, онемение захватило поясницу, а когда оно достигло сердца, девушка умерла. Прошло каких-нибудь пятнадцать минут – я заметил по часам, – и она скончалась прямо в аудитории. Красивая, здоровая, полная сил женщина! С появления первых признаков болезни до момента смерти прошло всего четверть часа – вот как быстро поражала Алая чума.
За эти несколько минут, пока я оставался в аудитории с умирающей, паника охватила весь университет; студенты толпами покидали аудитории и лаборатории. Когда я вышел, чтобы доложить о случившемся декану факультета, то обнаружил, что университетский городок пуст. Лишь несколько человек, почему-то задержавшихся здесь, спешили к своим домам. Двое из них бежали.
Декан Хоуг был один в своем кабинете, он словно сразу постарел, лицо его покрылось морщинами, которых я не замечал у него прежде. Увидев меня, он с трудом поднялся на ноги и заковылял во внутренний кабинет; захлопнув за собой дверь, он быстро запер ее на ключ. Он знал, что я мог заразиться, и испугался. Он крикнул мне через дверь, чтобы я уходил. Никогда не забуду, что я чувствовал, когда шагал по пустынным коридорам, через вымерший городок. Мне не было страшно. Да, я мог заразиться и считал себя уже мертвецом. Но угнетала меня не мысль о смерти, а чудовищность всего происходящего. Жизнь остановилась. Казалось, настал конец мира, моего мира. Ведь с самого рождения я дышал воздухом университета. Мой жизненный путь был предрешен. Мой отец был профессором этого университета и дед тоже. На протяжении полутораста лет университет работал как хорошо смазанная машина. И вдруг в один миг эта машина остановилась. У меня было такое ощущение, будто на священном алтаре угасло священное пламя. Я был потрясен до глубины души.
Когда я вошел к себе в дом, экономка вскрикнула и убежала. Я позвонил, но никто не отозвался, и я понял, что горничная тоже скрылась. Я обошел дом. В кухне я нашел кухарку, которая собиралась уходить. Увидев меня, она завизжала, выронила чемодан со своими вещами, выскочила за дверь и, не переставая визжать, побежала к воротам. До сих пор стоит у меня в ушах этот пронзительный визг. Ведь при обыкновенных болезнях мы никогда не вели себя так. Мы спокойно посылали за доктором и сиделками, которые отлично знали свое дело. Но теперь все обстояло иначе. Человек заболевал внезапно и тут же умирал. Чума не щадила никого. Алая сыпь на лице была словно печать смерти. Мне неизвестно ни одного случая выздоровления.
Я остался один в своем огромном доме. Я уже сказал вам, что мы тогда умели разговаривать друг с другом по проводам или через воздух. Раздался телефонный звонок – это был мой брат. Он сказал, что не вернется домой, так как боится заразиться; он сообщил также, что две наши сестры будут жить пока в доме профессора Бэйкона. Брат посоветовал мне никуда не выходить до тех пор, пока не выяснится, что я не заболел.
Я согласился на все это, остался дома и в первый раз в жизни попытался приготовить себе что-нибудь поесть. Признаков чумы не появилось. Я мог разговаривать по телефону с кем угодно и узнавать новости. Кроме того, мне приносили газеты – я распорядился оставлять их у входной двери. Таким образом, я знал, что происходит в мире.
В Нью-Йорке и Чикаго царил полнейший хаос. То же самое творилось во всех крупных городах. Уже погибло около трети нью-йоркских полицейских. Умерли начальник полиции и мэр города. Никто не заботился о соблюдении закона и поддержании порядка. Трупы людей валялись на улицах не погребенные. Перестали ходить поезда и пароходы, доставлявшие в крупные города продукты, и толпы голодных бедняков опустошали магазины и склады. Повсюду пьянствовали, грабили и убивали. Население бежало из города: сначала состоятельные люди на собственных автомобилях и дирижаблях, за ними огромные массы простого люда, пешком, разнося чуму, голодая и грабя на пути фермы, селения, города.
Мы узнавали новости от человека, который засел со своим передающим аппаратом на самом верхнем этаже высокого здания. Оставшиеся в городе – он полагал, что таких несколько сотен тысяч, – буквально посходили с ума от страха и спиртных напитков. Повсюду полыхали пожары. Он геройски остался на своем посту до конца, – наверное, какой-нибудь незаметный репортер.
Он сообщил, что в течение последних двадцати четырех часов в город не прибыло ни одного трансатлантического воздушного корабля и не поступало никаких сообщений из Англии. Ему удалось, правда, связаться с Берлином – это был город в Германии. Оттуда передали, что Гофмейер, бактериолог, последователь Мечникова, открыл противочумную сыворотку. Это было последнее сообщение из Европы: с тех пор мы, американцы, не получали оттуда вестей. Даже если Гофмейеру и посчастливилось открыть сыворотку, все равно было, очевидно, поздно, иначе сюда бы непременно прибыли европейские исследователи. Остается заключить, что в Европе произошло то же самое и лишь несколько десятков человек избежали Алой смерти.
С Нью-Йорком связь поддерживалась еще в течение суток. Потом она оборвалась. Тот человек, который передавал сообщения из высокого здания, верно, погиб от чумы или пожаров, бушевавших, по его описаниям, вокруг. Что случилось в Нью-Йорке, повторилось в других городах. Так было и в Сан-Франциско, и в Окленде, и в Беркли. К четвергу погибло уже столько людей, что некому было убирать трупы, и они валялись повсюду. В ночь на пятницу жители начали в панике покидать город. Вообразите огромные, миллионные толпы народа – точно косяки лосося на Сакраменто, которые вам доводилось видеть во время нереста, – хлынувшие за город в тщетном стремлении убежать от вездесущей смерти. Ведь они несли микробов в своей крови. Даже воздушные корабли, на которых состоятельные люди пытались спастись, укрывшись в неприступных горах и диких пустынях, являлись разносчиками чумы.
Сотни воздушных кораблей взяли курс на Гавайи, неся туда чуму, однако болезнь уже свирепствовала на островах. Мы успели узнать об этом до того, как в Сан-Франциско воцарился хаос и стало некому принимать и передавать сообщения. Потерять связь с внешним миром – это немыслимо, невероятно! Мир словно перестал существовать, исчез без следа. Шестьдесят лет прошло с тех пор. Я знаю, что должны быть на свете Нью-Йорк, Европа, Азия, Африка, но за все это время никто ни разу не слышал о них. С приходом Алой смерти наш мир безвозвратно распался. Тысячи лет культуры исчезли в мгновение ока, «прошли, как дым».
Я уже говорил вам, что состоятельные люди пытались спастись на воздушных кораблях, но в конце концов все они, куда бы ни скрывались, погибли, потому что микробы были даже на их кораблях. Я знаю лишь одного такого человека, который выжил, – это Мангерсон. Он потом стал Санта-Роса и женился на моей старшей дочери. Мангерсон пришел в племя через восемь лет после чумы. Был он тогда девятнадцатилетним юношей, и ему пришлось ждать двенадцать лет, прежде чем он смог взять себе жену. Дело в том, что все женщины в племени были замужем, а девочки постарше обручены. Так что он ждал, пока моей Мери не исполнилось шестнадцать. В прошлом году его сына, Кривую Ногу, задрал кугуар.