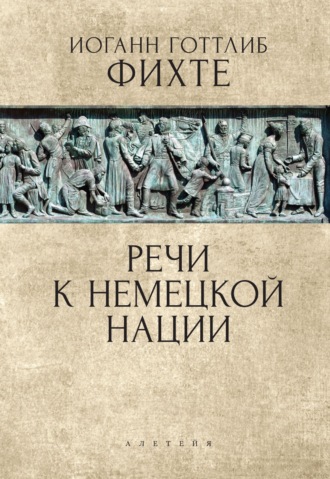
Полная версия
Речи к немецкой нации
Но, далее, в эти символические выражения, уже и в чистом виде своем возникшие у римлян на весьма низкой ступени их нравственного образования, или прямо означавшие у них низость характера, в ходе дальнейшего развития новолатинских языков привнесли еще значение несерьезности в отношении к общественным делам, самоунижения, бездушного легкомыслия, и внедрили эти оттенки смысла также в немецкий язык, чтобы, представляя нам картины древности и заграницы, втихомолку и так, чтобы никто не мог ясно заметить, о чем идет речь, доставить всему только что названному почет и вес и в нашем обществе. Такова была всегда цель, и таков результат, всякого вмешательства: погрузить сперва слушателя из непосредственной понятности и определенности, какая свойственна всякому изначальному языку, в темноту и непонятности; затем обратиться к возникшей в нем от этого слепой вере с объяснением смысла новых слов, в котором он теперь нуждается; а в этом объяснении так смешать, наконец, добродетель с пороком, чтобы слушателю нелегко было вновь отделить их друг от друга. Если бы то, чего собственно должны хотеть эти три иностранных слова (если они вообще чего-нибудь хотят), немцу, на его языке и в привычной для него сфере символов, выразили так: «человеколюбие», «общительность», «благородство», то он бы нас понял, а названные выше низменные значения никогда бы не удалось подтасовкою вложить в эти словесные обозначения. На всем пространстве, где звучит немецкая речь, подобное облачение слов покровом непонятности и темноты происходит либо от неумелости оратора, либо же от его злого умысла. Этой темноты нужно избегать, а для того у нас всегда наготове подспорье – перевод этих слов на настоящий и подлинный немецкий язык. В новолатинских же языках эта непонятность естественна и изначальна, и там ее не избежать решительно никакими средствами, потому что эти народы не располагают вообще никаким живым языком, которым они могли бы поверить мертвый язык, и у них, строго говоря, вовсе нет родного языка.
Изложенное на этом отдельном примере (что мы легко могли бы проверить на всем объеме слов языка и что всюду оказалось бы в точности таково же) прояснит для Вас сказанное мною до сих пор настолько, насколько это здесь вообще возможно. Речь идет здесь о сверхчувственной части языка; о чувственной, поначалу и непосредственно, вовсе не говорим. В языке, всегда бывшем живым языком народа, эта сверхчувственная его часть является символической, подытоживая в себе на каждом шагу развития всю целокупность чувственной и духовной, зафиксированной в языке жизни нации в совершенном единстве, чтобы дать обозначение понятию, которое также не произвольно, но с необходимостью возникло из всей прежней жизни нации, из которого – и из его обозначения – зоркий глаз непременно сумеет воссоздать вновь, шаг за шагом, всю историю образования этой нации. А в мертвом языке, в котором, когда он был еще жив, эта часть была в точности такова же, после его насильственной смерти эта часть языка становится бессвязным собранием произвольных и не допускающих никакого дальнейшего объяснения знаков для столь же произвольных понятий, так что и те, и другие годятся именно только на то, чтобы просто заучить их на память.
Таким образом, ближайшая наша задача – найти основную черту, отличающую немцев от других народов германского происхождения – теперь решена. Это различие возникло сразу при первом же разделении общего племени, и заключается в том, что немец говорит на языке, который оставался живым с тех самых пор, как впервые проистек из силы природы, все же прочие германские племена – на таком языке, который лишь на поверхности подвижен, в корне же своем мертв. Только в этом обстоятельстве – живости или смерти языка – мы полагаем, состоит все различие; но мы нисколько не имеем в виду какой-либо иной внутренней ценности немецкого языка. Между жизнью и смертью не может быть никаких мировых соглашений, и ценность первой, сравнительно с последней, бесконечна; поэтому все непосредственные сопоставления немецкого языка и новолатинских языков совершенно ничтожны, и вынуждены вести речь о таких вещах, которые не стоят обсуждения. Если бы зашла речь о внутренней ценности немецкого языка, то, по крайней мере, нужно бы было противопоставить ему язык, равный ему достоинством, язык столько же изначальный; но подобное сопоставление намного превосходит нашу нынешнюю задачу.
Сколь огромное влияние на всю совокупность человеческого развития известного народа оказывает свойство его языка, – языка, который сопутствует человеку, в мысли и воле, повсюду, вплоть до потаеннейших глубин его души, и окрыляет его или ставит ему преграды, который соединяет все множество говорящих на нем людей в населяемой ими области в один единый разум, который составляет подлинную точку взаимного излияния мира чувственного и духовного, и в котором концы обоих миров сплавлены друг с другом настолько, что нам решительно невозможно сказать, к которому из этих миров относится он сам; сколь различны будут последствия этого влияния, там, где языки относятся друг к другу так, как жизнь и смерть, – это в общем угадать нетрудно. Прежде всего оказывается, что у немца есть средство для того, чтобы еще глубже понять свой живой язык, через сопоставление его с законченным в себе языком римлян, весьма отличным от его собственного по степени развития в нем символизма, а равно и понять таким способом с большей ясностью этот последний язык, что не так уже просто для человека новолатинского языка, который, в сущности, остается пленником в области одного и того же единого языка; что немец, изучая корневой латинский язык, получает одновременно, в известном смысле в придачу к нему, и все от него производные, и если он выучит латинский основательнее иностранца (что, по вышеуказанной причине, ему вполне по силам), он в то же самое время научится понимать и собственные языки этого иностранца гораздо основательнее, и владеть ими гораздо свободнее, чем сам говорящий на них иностранец; что поэтому немец, если только он воспользуется всеми своими преимуществами, сможет во всякое время проницательнее видеть и вполне понимать его, лучше даже, чем он сам себя понимает, и переводить его на свой язык во всем объеме его смыслов; иностранец же, если он не приложил прежде великих стараний, чтобы выучиться немецкому языку, никогда не сможет понять настоящего немца, и подлинно немецкие выражения останутся у него, без всякого сомнения, непереведенными. То, чему в этих языках можно научиться только от самого иностранца – это, чаще всего, лишь явившаяся от скуки и частной прихоти новомодная манера речи, и тот поистине весьма непритязателен, кто станет прислушиваться к наставлениям на этот счет. В большинстве случаев мы могли бы показать им вместо этого, как, соответственно корневому языку и закону его преобразования, следовало бы им говорить, и показать, что эта новая мода ничего не стоит и оскорбляет старинные добрые обычаи. – Все это множество следствий вообще, как и упомянутое только что следствие в частности, являются здесь, как мы уже сказали, сами собою.
Наше же намерение состоит теперь в том, чтобы постичь все эти следствия в целом, из глубины и в их общей связи, чтобы дать тем самым основательное описание немцев, в противоположность прочим германским племенам. Эти следствия я укажу Вам предварительно вот как: 1) У народа с живым языком образование духа влияет на самую жизнь; в противоположном же случае жизнь и духовное образование идут порознь, каждый своим путем. 2) По этой же причине народ первого рода воспринимает любое образование духа с полной серьезностью, и он хочет, чтобы это образование вмешалось в его жизнь; между тем как для народа второго рода это образование есть скорее некая игра гениев, и занимаясь им он решительно ничего более не желает. Последние остроумны; первые же, помимо остроумия, еще и душевно богаты. 3) Из этого второго момента следует: первые честно прилежны во всех делах и готовы к тяжелому труду, вторые же идут на поводу у своей счастливой натуры. 4) Из всего вместе следует: в нации первого рода великий народ восприимчив к образованию, и образователи этого народа испытывают свои открытия на своем народе и желают иметь на него влияние; в нации же второго рода образованные сословия отделяются от народа, и этот народ считают разве только слепым орудием для осуществления своих планов. Дальнейшее обсуждение этих, указанных сейчас, отличительных признаков я оставлю до следующего раза.
* * *Пятая речь
Следствия указанного различия
В прошлый раз, чтобы описать своеобразие немцев, мы указали Вам основное различие между ними и другими народами германского происхождения: а именно то, что первые остались верными непрерывному течению своего изначального языка, развивающегося, как и прежде, на основе действительной жизни, последние же приняли чуждый им язык, который и умертвили своим влиянием. В конце прошлой речи мы указали другие явления в этих народностях, обнаруживающих подобное различие, которые с необходимостью должны были последовать из этого основного различия между ними, а сегодня намерены развить описание этих явлений более подробно и еще прочнее обосновать их в общей их основе.
Исследование, заботящееся о том, чтобы быть основательным, может избавить себя от нужды вступать в иные споры и опровергать иных завистников. И как мы поступали прежде в том исследовании, продолжением которого служит наше теперешнее рассуждение, так поступим мы и теперь. Мы станем шаг за шагом логически выводить все, что следует из указанного нами основного различия, и при этом следить лишь за тем, чтобы этот вывод был неизменно правилен. Возникают ли в действительном опыте все те многоразличные явления, которые должны наступить согласно этой нашей дедукции, или же нет – это я предоставляю решать лишь Вам и любому наблюдателю. Хотя, что касается в особенности немца, я покажу в свое время, что он действительно оказался таким, каким он и должен был быть согласно нашей дедукции. Но что касается германца-иностранца, то я не стану возражать, если один из этих иностранцев действительно поймет, о чем здесь собственно идет речь, и если впоследствии ему удастся доказать нам, что его соотечественники как раз были именно тем же самым, чем были немцы, и он сумеет совершенно снять с них любые подозрения в том, что свойства их противоположны. Вообще наше описание даже и этих противоположных свойств отнюдь не станет рисовать их в резком и невыгодном свете, ибо это сделает нам победу легкой, однако бесславной, но укажет лишь на необходимые последствия, и выразит их в выражениях настолько благопристойных, насколько позволяет нам уважение к истине.
Первое указанное мною следствие представленного основного различия было следующее: у народа с живым языком образование духа вторгается в саму жизнь; у народа же противоположного духовное образование и жизнь идут порознь, каждое своей дорогой. Полезно будет обстоятельнее объяснить вначале смысл высказанного нами положения. Прежде всего, коль скоро здесь идет речь о жизни и о вмешательстве духовного образования в эту жизнь, то под этим следует понимать изначальную жизнь и непрерывное ее проистечение из истока всякой духовной жизни, из Бога, дальнейшее образование человеческих отношений в соответствии с их прообразом, и тем самым – сотворение жизни новой и никогда прежде небывалой. Но отнюдь не идет речи о простом поддержании этих отношений на той ступени, на которой они уже находятся, не о предохранении их от возможного упадка, и тем более не о помощи только отдельным членам общества, отставшим в своем развитии от всеобщего образования. Далее, коль скоро здесь идет речь о духовном образовании, то под этим образованием следует понимать, прежде всего, философию (мы вынуждены назвать его иностранным именем, ибо немцы не позволили нам ввести в оборот давно уже предложенное немецкое название15): Философию, говорю я, нужно прежде всего понимать под таким образованием; ибо именно философия постигает в научной форме вечный прообраз всякой духовной жизни. И вот в ней, и во всякой основанной на ней науке, мы и хвалим теперь то в особенности, что у народа с живым языком она вмешивается в самую жизнь его. Между тем, и в кажущемся противоречии с этим утверждением, нередко говорили – и говорили, в том числе, наши же земляки, – что философия, наука, художество и тому подобное суть самоцели и не служат жизни, и что оценивать их по их полезности на службе этой жизни значит унижать их достоинство. Здесь уместно будет подробнее определить смысл этих выражений и защитить их от всякого неверного толкования. Эти суждения истинны, в следующем двояком, однако ограниченном смысле: верно, во-первых, что наука или искусство, как думали некоторые, не должны стремиться служить жизни на известной низшей ее ступени, например, земной и чувственной жизни, или пошлой назидательности; верно, во-вторых, что человек может, уединившись лично сам от всего духовного мира, совершенно предаться этим частным отраслям всеобщей божественной жизни, не нуждаясь в каком-либо мотиве вне их самих, и находить в них совершенное удовлетворение. Но эти суждения совершенно неверны в строгом смысле, ибо не может быть нескольких самоцелей, точно так же как не может быть нескольких абсолютов. Единственная самоцель, кроме которой не может быть никакой другой, это духовная жизнь. И вот эта духовная жизнь обнаруживается и является отчасти как вечное проистечение из себя самой, как исток, т. е. как вечная деятельность. Эта деятельность вовеки получает себе прообраз от науки, умение оформлять себя согласно этому образу – от искусства, и постольку может показаться, будто наука и искусство существуют как средства для деятельной жизни как цели. Но жизнь в этой форме деятельности сама никогда не бывает завершена и закончена как единство, но продолжается бесконечно. Если жизнь должна все-таки существовать в подобном законченном единстве, то она должна существовать как такое единство в некоторой иной форме. Эта форма есть форма чистой мысли, которую дает описанное в третьей речи религиозное постижение; форма, которая, как законченное единство, пребывает в абсолютном распаде с бесконечностью поступков и в этом последнем – в деянии – никогда не может быть выражена вполне. Поэтому обе – как мысль, так и деятельность, – суть лишь распадающиеся в явлении формы, а по ту сторону явления они, – и одна, и другая, – суть та же единая абсолютная жизнь; и вовсе нельзя сказать, что мысль существует, и именно такова, ради поступков, или же поступки существуют и именно таковы ради мысли, но можно лишь сказать, что и то, и другое безусловно должно быть, ибо жизнь и в явлении так же должна быть законченным целым, как она есть законченное целое и по ту сторону всякого явления. А значит, в пределах этой сферы и вследствие этого рассуждения, сказать, что наука влияет на жизнь – значит сказать еще совсем немного: скорее сама наука есть жизнь, и жизнь в себе самосущая. – Или можно еще соотнести то же самое с одним известным выражением. Что толку во всем вашем знании, – слышим мы порою, – если человек не действует соответственно ему? В этом высказывании знание рассматривается как средство для действия, а это последнее – как подлинная цель. Можно было бы, напротив, сказать: как же можно хорошо поступать, не зная, в чем состоит добро? А в этом высказывании знание рассматривалось бы как условие действия. Однако оба эти высказывания односторонни; а истина состоит в том, что и то, и другое – как знание, так и действие, – суть одинаково неотъемлемые элементы разумной жизни.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
1
Первое издание: Berlin 1808. Im Verlage der Realschulbuchhandlung. Второе издание: Leipzig 1824, bei Herbig. Fichtes sämmtliche Werke Bd. VI, S. 257–302.
2
«Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters» – публичные лекции Фихте в Берлине зимой 1804–1805 гг., напечатаны в 1806 г. Имеется русский перевод (Фихте И. Г. Основные черты современной эпохи. СПб., 1906), в последние годы переизданный. В настоящих примечаниях цитируется по изданию: Fichte J. G. Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters. Hg. v. Alwin Diemer. 4. Auflage. Hamburg, Meiner, 1978. (Philosophische Bibliothek Bd. 247).
3
«Über Macchiavelli als Schriftsteller, nebst Auszügen aus seinen Schriften» (1807) – работа, написанная Фихте во время его пребывания в Кенигсберге, с целью убедить современных ему князей в необходимости широкого политического взгляда на свои задачи и в гибельности узкого лжегосударственного эгоизма.
4
«История Флоренции» – сочинение итальянского политического мыслителя Николо Маккиавелли (1469–1527). Русский перевод: Макиавелли Н. История Флоренции. Л., 1973.
5
«Il Principe» («Государь») (1532) – наиболее известное и влиятельное из сочинений Маккиавелли, посвященное созданию сильной власти при отсутствии гражданской добродетели в народе; как частное лицо государь подлежит моральной норме, как политический деятель он может ею пренебречь во имя достижения мощи и благосостояния государства. Это убеждение Маккиавелли сделало самое понятие макиавеллизма нарицательным словом для обозначения имморальной политической философии. «Рассуждения на первую декаду Тита Ливия» – трактат Маккиавелли, где выясняется отношение древних римлян к государству и доказывается, что этот гражданский, республиканский дух римлян является идеалом и для современного Маккиавелли, по его убеждению упадочного, состояния итальянского государства. См.: Макиавелли Н. Сочинения. Том 1. M.-Л., 1934.
6
«Желая удовлетворить воле честного мужа Антонио» (лат.)
7
«Der Patriotismus und sein Gegenteil» (Патриотизм и его противоположность) – два диалога из наследия Фихте, написанных в 1806–1807 году. См.: Fichte J. G. Sämmtliche Werke. Band 11, S. 221 и след.
8
«Что касается меня, я полагаю, что настоящее время находится как раз в середине совокупного мирового времени… в настоящем времени соединяются концы двух миров, совершенно различных по своему принципу, – мира ясности и мира тьмы, мира принуждения и мира свободы, не принадлежа однако же ни одному из этих миров. Или еще так: настоящее время находится, по моему мнению, в эпохе, которая, по указанному мною выше исчислению, была третьей – в эпохе освобождения непосредственно – от повелевающего человеком внешнего авторитета, а косвенно – от подчинения инстинкта разума, и вообще разума в какой бы то ни было форме: эпохе абсолютного равнодушия ко всякой истине, и полной раскованности без какой-нибудь путеводной нити; состоянии законченной порочности… для эпохи, которая освобождается от власти первого (инстинкта разума), не получая вместо него разума в иной форме, не может остаться решительно ничего реального, кроме жизни индивида и того, что связано с нею и относится к ней» (S. 21, 25–26). «Мы все зачаты и рождены в эгоизме, и жили в нем, и нам стоит труда и борьбы умертвить в себе эту свою вторую природу» (S. 39).
9
См. «Наставление к блаженной жизни», речи первая, четвертая, десятая: «подлинная жизнь и блаженство жизни состоят в соединении с неизменным и вечным; вечное же можно охватить единственно и только мыслью… Итак, подлинная жизнь и блаженство ее состоят в мысли, т. е. в известного рода определенном воззрении на нас самих и на мир, как на происшедшие из внутренней и в себе сокрытой Божественной сущности… Источник жизни – в духе, в основанной на самой себе жизни мысли» (Фихте И. Г. Наставление к блаженной жизни. М., 1997. С. 15); «кроме Бога решительно ничто не существует поистине и в собственном смысле этого слова, не считая лишь знания; а это знание есть само божественное существование, прямо и непосредственно, и насколько мы суть знание, мы сами, в глубочайшем корне нашем, суть это божественное существование… Для блаженной жизни требуется, чтобы эта живая религия достигла по меньшей мере того, что укрепила бы в нас сердечное убеждение… в бытии нашем единственно в Боге и благодаря ему, чтобы мы по крайней мере всегда и непрерывно чувствовали эту связь и чтобы она… была… определяющим основанием всех наших мыслей, чувствований, движений и побуждений (Там же. С. 49–50).
10
«Первый, самый низший, поверхностный и спутанный способ восприятия мира есть тот, при котором мы считаем миром и действительно сущим то, что дается внешним чувствам, считаем это высшим, подлинным и для себя существующим… Второе воззрение, рождающееся из изначального дробления возможных мировоззрений, есть такое, когда мир постигают как закон порядка и равного права в системе разумных существ… Закон… есть для этого воззрения нечто подлинно реальное и для себя самого существующее, – то, с чего начинается мир и в чем заключается его корень… реальность и самостоятельность человека доказывается лишь царящим в нем нравственным законом и… лишь благодаря последнему человек становится чем-то сам по себе» (Наставление к блаженной жизни. С. 65, 66, 67).
11
«Цель земной жизни человечества состоит в том, чтобы в этой земной жизни оно свободно устроило все свои отношения в соответствии с разумом… Эта свобода должна явиться в совокупной жизни человечества, и выступить в его жизни как его собственная свобода, как подлинное действительное деяние, и как порождение рода» (Основные черты современной эпохи. S. 11). «Но весь путь, который… проходит здесь человечество, есть не что иное, как возвращение в ту точку, в которой оно находилось уже в самом начале, и не имеет в виду ничего, кроме возврата к его истоку. Только человечество должно пройти этот путь своими собственными ногами; оно должно собственной своей силой вновь сделать себя тем, чем оно было без всякого своего сознательного содействия; и поэтому оно должно было перестать быть этим» (Ibid. S. 15).
12
Книга пророка Иезекииля, 37, 1–10.
13
Исследователи отмечают значительную близость этого и многих других ключевых положений философии языка у Фихте к философским и языковедческим воззрениям Вильгельма фон Гумбольдт, и даже говорят о прямом влиянии Фихте на Гумбольдта в этом отношении. Ср., например: «Он (язык) обладает некоторой зримо открывающейся нашему взгляду самодеятельностью, и с этой стороны он есть не создание наций, но дар, доставшийся им силою их внутренней судьбы» (Humboldt W. von. Gesammelte Schriften. Bd. 7. Berlin, 1921. S. 17). «Всякая речь, начиная с самой простейшей, есть присоединение отдельного восприятия к общей человеческой природе» (Ibid. S. 56).
14
Имеется в виду целый ряд мест в Библии, где в немецком Лютеровом переводе стоит Gesicht – видение, вид. Русский перевод не обнаруживает, конечно, того именно, на что хочет указать здесь Фихте, но сохраняет живую конкретность этого пророческого видения, в противоположность пустому лже-видению лжепророков. Особенно близко место из Книги пророка Иоиля, 2, 28: «И будет после того, излию от духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения». Также следующие места ветхозаветного текста: Книга Чисел, 12, 6 («И сказал: Слушайте слова Мои: если бывает у вас пророк Господень, то Я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним»); Книга пророка Иезекииля 1, 1 («разверзлись небеса, И я видел видения Божии»); Книга пророка Даниила 1, 17 («И даровал Бог четырем сим отрокам знание и разумение всякой мудрости, а Даниилу еще даровал разуметь и всякое видение, и сны»); 4, 6–7; («Видения же головы моей на ложе моем были такие»); Книга Иова, 7, 14 («Ты страшишь меня снами и видениями пугаешь меня»); Книга пророка Иезекииля 40, 2 («В видениях Божиих привел он меня в землю Израилеву»); 8, 31 («и принес меня в видениях Божиих в Иерусалим»); 12, 24.
15
«Немецкое название» для философии есть предложенное самим Фихте слово «наукоучение». См. первое упоминание термина: «вопрос ставится так: Как возможно вообще содержание и форма науки, т. е. как возможна сама наука? Нечто, в чем будет дан ответ на этот вопрос, будет само наукой и именно наукой о науке вообще… Наименование подобной науки, возможность которой до сего времени проблематична, произвольно… Нация, которая найдет эту науку, будет, конечно, достойной дать ей имя из своего языка; и она может называться тогда просто наукой или наукоучением. Так называемая до сих пор философия стала бы таким образом Наукой о науке вообще» (Фихте И. Г. О понятии наукоучения или так называемой философии // И. Г. Фихте. Избранные сочинения. Том 1. М., 1916. С. 16–18).




