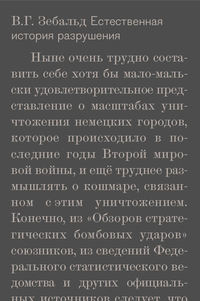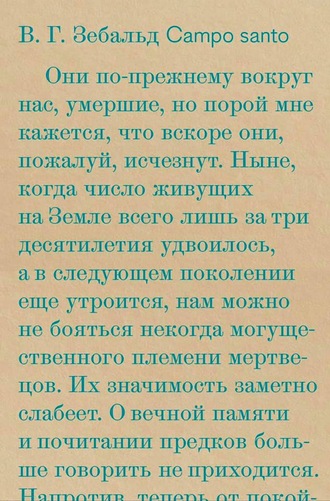
Полная версия
Campo santo
Альпы в море
Когда-то в давние времена Корсику целиком покрывали леса. Ярус за ярусом в ходе тысячелетий они в схватке с самими собой вырастали до высоты пятидесяти метров и более, и кто знает, быть может, возникали бы все более и более высокие виды, деревья до неба, если бы не явились первые поселенцы и с присущим их племени страхом перед местом своего происхождения не принялись оттеснять леса все дальше и дальше.
Процесс деградации самых высоких видов растений начался, как известно, в окрестностях так называемой колыбели нашей цивилизации. Некогда достигавшие до далматинских, иберийских и североафриканских морских берегов высокоствольные леса в начале нашего летосчисления были большей частью уже вырублены. Лишь в центральных районах Корсики сохранялись отдельные, намного превосходящие высотой нынешние леса сообщества деревьев, которые с благоговением описывались еще путешественниками XIX века, но с тех пор почти полностью исчезли. От белых пихт, которые в Средние века принадлежали к преобладающим на Корсике видам деревьев и росли в горах повсюду, где стоит туман, на теневых склонах и в ущельях, сейчас уцелели только немногочисленные реликты в долине Мармано и в forêt de Puntiello[26], в котором как-то во время похода мне вспомнился лес в Иннерферне, где я ребенком однажды гулял с дедом.
В опубликованной в годы Второй империи хронике французских лесов Этьенна де Латура сообщается об отдельных пихтах, которые на протяжении своей более чем тысячелетней жизни достигли почти шестидесятиметровой высоты и, как пишет де Латур, только и могут дать нам представление о том, сколь могучими были некогда европейские леса. Де Латур сетует на уже отчетливо наметившееся в его время разрушение корсиканских лесов par des exploitations mal conduites[27]. Дольше всего сохранялся древостой самых недоступных районов, например большой лес Бавеллы, который примерно до конца минувшего столетия почти нетронутый пересекал корсиканские Доломиты между Сартеном и Соленцарой.
Английский пейзажист и писатель Эдвард Лир, путешествовавший по Корсике летом 1876 года, сообщал об огромных лесных массивах, что поднимались в ту пору из синего сумрака долины Соленцара вверх по кручам до самых отвесных утесов и скал, на уступах, карнизах и верхних ступенях которых, словно плюмаж на шлеме, стояли небольшие группы деревьев. На более ровных участках ближе к перевалам мягкую почву под ногами покрывал густой ковер всевозможных кустарников и трав. Земляничные деревья, множество папоротников, вереск и можжевельник, травы, царские кудри и карликовые цикламены росли повсюду, и из всех этих низкорослых растений поднимались серые стволы пиний Ларицио, чьи зеленые зонтики, казалось, свободно парили высоко-высоко в чистейшем воздухе.
С плато над перевалом, куда я поднялся, пишет Лир, я охватил взглядом весь лес, обрамленный сияющими каменными обрывами, ярус за ярусом нисходящий на сотни метров к незримой сцене природный амфитеатр, на заднем плане которого, над устьем долины Соленцара каждое утро было видно море, а за морем, словно мазок кистью по бумаге, – итальянское побережье. За исключением, пожалуй, лишь таинственных скальных твердынь и колонн Джебельсераля на Синайском полуострове, передо мною нигде еще в многочисленных моих путешествиях, пишет Лир, не открывались столь роскошные, целиком заворожившие меня картины, как здесь, в лесу Бавеллы. Но в своих записках Лир отмечает и повозки, запряженные шестнадцатью мулами и везущие вниз по узким серпантинам отдельные бревна длиной от ста до ста двадцати футов, подтверждение чему я нашел в изданном в 1879 году Вивьеном де Сен-Мартеном «Dictionnaire de Géographie»[28], где голландский кругосветный путешественник и топограф Мельхиор ван де Велде пишет, что никогда не видел более красивого леса, чем в Бавелле, ни в Швейцарии, ни в Ливане, ни на островах Индокитая.
Bavella est ce que j'ai vu de plus beau en fait de forêts, говорит ван де Велде и предостерегающе добавляет: Seulement, si he touriste veut la voir dans sa glorie, qu'il se hâte![29] La hache s’y promène et Bavella s’en va! Топор разгулялся, и Бавелла исчезает. Действительно, ныне в Бавелле все уже не так, как раньше. Хотя, когда впервые поднимаешься с юга по перевалу, приближаясь к иссиня-фиолетовым и пурпурным утесам, на половине высоты нередко завешенным кольцами тумана, и с края Бокки глядишь вниз на долину Соленцара, то поначалу кажется, будто чудесные, воспетые ван де Велде и Лиром леса по-прежнему существуют. На самом же деле здесь растут лишь деревья, высаженные лесничеством на гари после огромного лесного пала летом 1960 года, хилые хвойные деревца, которые вряд ли проживут дольше человеческого возраста, не говоря уж о десятках поколений.
Почва под тщедушными соснами большей частью голая: упомянутого давними путешественниками обилия дичи – le gibier y abonde, как пишет ван де Велде, – нет и в помине. А ведь когда-то здесь в огромных количествах водились каменные козлы; над скальными обрывами кружили орлы и коршуны; сотни чижей и зябликов скакали в лесных верхушках; перепела и куропатки гнездились под низким кустарником, и повсюду тучами порхали бабочки. Животные на Корсике отличались на удивление небольшими размерами, как подчас бывает на островах.
Фердинанд Грегоровиус, путешествовавший по Корсике в 1852 году, сообщает о некоем дрезденском исследователе бабочек, который повстречался ему среди холмов повыше Сартена и в разговоре обронил, что этот остров, в особенности из-за мелких размеров обитающих на нем видов, уже при первом посещении показался ему райским садом, и в самом деле, пишет Грегоровиус, вскоре после встречи с саксонским энтомологом он несколько раз видел в лесах Бавеллы давно вымершего теперь тирренского благородного оленя, Cervus elaphus corsicanus, низкорослого, словно бы восточной наружности, с непропорционально большой головой и пугливыми глазами, широко распахнутыми в постоянной готовности к смерти.
Хотя некогда столь многочисленная в островных лесах дичь ныне почти без остатка истреблена, на Корсике каждый сентябрь, как и прежде, разгорается охотничья лихорадка. Во время вылазок во внутренние районы острова мне снова и снова казалось, будто все мужское население участвует в давно уже бесцельном губительном ритуале. Пожилые мужчины, обычно в синих рабочих комбинезонах, стоят на посту по обочинам дорог до самого высокогорья, мужчины помоложе, в полувоенной экипировке, колесят по округе на джипах и внедорожниках, будто оккупировали страну или ожидали вражеского вторжения. Небритые, с тяжелыми ружьями и грозным видом, они напоминают хорватских и сербских ополченцев, которые безрассудными действиями загубили собственную родину, и, подобно мальборовским героям в югославской гражданской войне, корсиканские охотники, если кто забредет на их территорию, тоже шутить не станут.
Не раз при подобных встречах они недвусмысленно давали мне понять, что не желают обсуждать с прохожим чужаком свое кровавое дело, и дорогу указывали жестом, который не оставлял сомнений, что, если спешно не убраться из опасной зоны, можно ненароком схлопотать пулю. Однажды, чуть пониже Эвизы, я попробовал завести разговор с таким вот явно исполненным сознания серьезности своей задачи охотником-караульным; этот мужчина лет шестидесяти, с коротким торсом, сидел, положив на колени двустволку, на низком каменном парапете, защищавшем здесь дорогу от двухсотметровой пропасти ущелья Спелунка. Патроны, какие он имел при себе, были большущие, а пояс-патронташ до того широкий, что, словно кожаный жилет, достигал ему до середины груди. Когда я спросил, чего он здесь ждет, он лишь коротко сказал: sangliers[30], будто этого вполне достаточно, чтобы отделаться от меня. Сфотографировать он себя не позволил, протестующе выставил вперед растопыренную руку, точь-в-точь как партизан перед камерой.
В сентябре в корсиканских газетах так называемое ouverture de la chasse[31] — наряду с информацией о постоянных попытках взорвать казармы жандармерии, общинные кассы и прочие публичные учреждения – представляет собой чуть ли не самую актуальную тему, затмевая даже ежегодную шумиху вокруг нового учебного года, охватывающую всю французскую нацию. Выходят статьи о состоянии охотничьих угодий в различных регионах, об охоте минувшего сезона и перспективах нынешней кампании, а также об охоте вообще, со всех мыслимых точек зрения. Печатаются фотографии мужчин воинственной наружности, которые с ружьем за плечами выходят из маки или картинно стоят возле убитого кабана. Главным же образом газеты сетуют, что год от года удается добыть все меньше зайцев и куропаток.
Mon mari, к примеру, жалуется репортеру «Корс-матен» супруга охотника из Виссавоны, mon mari, qui rentrait toujours avec cinq ou six perdrix, on a tout juste pris une[32]. Сквозящее в этих словах презрение к мужу, вернувшемуся из похода в леса с пустыми руками, неоспоримая смехотворность охотника без добычи в глазах издревле отлученной от охоты женщины, – в известном смысле это заключительный эпизод истории, которая уходит далеко в наше темное прошлое и еще в детские годы внушала мне недобрые предчувствия.
Вот и теперь мне вспоминается, как однажды, морозным осенним утром, по дороге в школу я проходил мимо двора мясника Вольфарта, когда с телеги аккурат сгружали десяток оленух, швыряли прямо на мостовую. Я долго не мог двинуться с места, так меня заворожил вид убитых животных. И уже тогда мне казалось подозрительным, почему охотники устраивают столько шума вокруг елового лапника и почему по воскресеньям в чисто вымытой, белокафельной витрине мясной лавки выставляют пальму. Пекарям подобные декорации явно были ни к чему.
В Англии я позднее видел маленькие, дюймовой высоты ряды зеленых пластиковых деревьиц, обрамляющие выставленные в витринах так называемых family butchers[33] куски мяса и ливер. Это неопровержимое свидетельство, что сей вечнозеленый пластиковый декор выпускается на фабриках исключительно затем, чтобы смягчить наше чувство вины ввиду пролитой крови, было для меня, как раз в силу своей полной абсурдности, знаком того, насколько сильно в нас желание примирения и как дешево оно издавна нам доставалось.
Все это вновь ожило у меня в мозгу, когда однажды после полудня, сидя у окна гостиничного номера в Пьяне, я открыл старый томик «Bibliothèque de la Pléiade»[34] – он обнаружился в ящике ночного столика – и начал читать до сих пор неизвестную мне у Флобера легенду о святом Юлиане, странную повесть, где одно и то же сердце разрывают неутолимая страсть к охоте и призвание к святости. Повесть вызывала у меня неприятие, она и завораживала, и приводила в смятение.
Уже описание убийства церковной мыши, прорыва насилия в прежде добром мальчике, потрясло меня до глубины души. Он нанес легкий удар, говорится о караулящем у мышиной норки Юлиане, а потом в замешательстве стоял перед маленьким тельцем, которое более не шевелилось. Капелька крови виднелась на полу. И чем дальше развивалась история, тем шире растекалась кровь. Раз за разом приходится скрывать преступление за новой смертью. То голубь, убитый Юлианом из рогатки, трепеща лежит на кусте бирючины, и когда мальчик окончательно душит его, от наслаждения у него кружится голова. И едва только он научился у отца искусству охоты, его неодолимо тянет в лес. Теперь он без устали охотится – то в лесу на кабанов, то в горах на медведей, то в оленьих угодьях, то в чистом поле. Барабанная дробь вспугивает животных, собаки мчатся по склонам, соколы взмывают ввысь и, точно камни, падают с неба.
Перепачканный грязью и кровью, охотник приходит вечером домой, так продолжается смертоубийство, но вот однажды, студеным зимним утром, Юлиан отправляется на охоту и целый день, словно в дурмане, убивает все, что шевелится. Стрелы, пишет Флобер, летят будто струи дождя в грозу. В конце концов настает ночь, багровая средь лесных ветвей, как пропитанный кровью платок, и Юлиан, прислонясь к дереву, широко открытыми глазами видит невероятный размах бойни и не понимает, как он мог учинить такое. После этого он впадает в душевный ступор и начинает свое долгое странствие по миру, выпавшему из благодати, нередко в таком зное, что волосы на его голове сами собой вспыхивают от солнечного жара, или, в другое время, в такой ледяной стуже, что она просто ломает ему члены. Охотиться он себе теперь воспрещает, но во сне ужасная страсть порой еще охватывает его, и, подобно нашему праотцу Адаму, он видит себя средь райского сада в окружении всех и всяческих животных – ему достаточно лишь протянуть руку, и они уже мертвы. Или видит, как они парами проходят мимо, начиная от туров и слонов и кончая павлинами, цесарками и горностаями, как в тот день, когда ступили в ковчег. Из мрака пещеры он бросает меткие копья, а они все идут, и нет им конца.
Где бы он ни был и куда бы ни глянул, повсюду с ним духи животных, которых он лишил жизни, и вот наконец после несчетных тягот и мучений какой-то прокаженный на краю света перевозит его через воды. На другом берегу Юлиану приходится разделить ночлег с перевозчиком, и после того как он, обнимая покрытую рубцами и язвами, местами узловато отвердевшую, а местами гнойную плоть, грудь к груди, рот ко рту проводит всю ночь с этим омерзительнейшим из людей, его избавляют от мучений, позволяют воспарить в синий простор небес.
Ни единого разу во время чтения я не мог оторвать взгляд от этой повести о нечестивости человеческого насилия, которая с каждой строкой проникала все глубже в кошмар и была в корне извращенной. Лишь милостивый акт трансфигурации на последней странице позволил мне поднять глаза.
Вечерние сумерки уже затопили половину комнаты. Но над морем еще висело закатное солнце, и в слепящих волнах его света трепетал весь мир, видимый из моего окна и в этом фрагменте не искаженный ни улицей, ни малейшим поселением. Отшлифованные в ходе миллионолетий ветром, соленым туманом и дождем, на три сотни метров вздымающиеся из глубины гранитные громады Каланки сияли огненно-красной медью, словно сам камень стоял в огне, раскаленный изнутри. Временами я будто различал в трепетном сиянии контуры пылающих растений и животных или целой груды горящих человеческих тел. Даже вода внизу словно бы стояла в огне.
Только когда солнце опустилось за горизонт, морская гладь потухла, огонь в скалах поблек, сделался сиренево-синим, а с побережья надвинулись тени. Лишь спустя довольно долгое время глаза привыкли к мягкому полусвету, и я разглядел корабль, который вышел прямо из пожара и теперь направлялся к гавани Порто, так медленно, что мнилось, будто он не двигается. Это была белая пятимачтовая яхта, не оставлявшая на недвижной воде ни малейшего следа. На грани остановки, она все же неудержимо шла вперед, как большая стрелка часов. Корабль плыл, можно сказать, по линии, отделяющей то, что мы способны воспринять, от того, чего никто пока не видел.
В дальней дали над морем иссякал последний блеск дня; в отдалении от берега тьма на острове все густела, пока у черных кряжей мыса Сенино и полуострова Скандола на борту белоснежной яхты не вспыхнули огни. В бинокль я видел теплый свет в иллюминаторах кают, фонари на палубных надстройках, сверкающие гирлянды, протянутые от мачты к мачте, но более ни единого признака жизни. Пожалуй, около часа яхта, спокойно сияя, стояла во мраке, будто ее капитан ждал разрешения войти в скрытую за Каланки гавань. Затем, когда над горами уже высыпали звезды, она легла на другой курс и так же медленно, как пришла, вновь направилась прочь.
La cour de l'ancienne école[35]
Эту картинку вместе с любезным предложением сочинить к ней подходящий текст мне прислали в декабре минувшего года, потом она несколько недель лежала на письменном столе, и чем дольше она там лежала и чем чаще я ее рассматривал, тем больше она как бы замыкалась в себе, пока пустяковая, в сущности, задача не стала для меня неодолимым препятствием. Затем, ближе к концу января, эта картинка, к моему немалому облегчению, неожиданно исчезла с того места, где лежала, и никто не знал куда. По истечении некоторого времени, когда я уже почти забыл о ней, она внезапно опять вернулась, причем в письме из Бонифачио: мадам Серафина Акуавива – с минувшего лета мы состоим в переписке – сообщала, что без комментариев приложенный к моему письму от 27 января рисунок, о котором ей было бы интересно узнать, как он попал мне в руки, изображает двор старой школы Порто-Веккьо, где она училась в тридцатые годы. В ту пору, говорилось далее в письме мадам Акуавивы, Порто-Веккьо представлял собой постоянно страдающий от малярии, полумертвый город, окруженный солончаками, болотами и дремучими зелеными зарослями. Не чаще одного раза в месяц из Ливорно приходил ржавый грузовой пароход, чтобы загрузить у стенки дубовые балки. Больше не происходило ничего, разве что все уже столетиями разрушалось и сгнивало. На улицах всегда царила зловещая тишина, ведь половина населения, дрожа в лихорадке, влачила свои дни в домах или с желтыми, осунувшимися лицами сидела на лестницах и у дверей. Мы, школьники, писала мадам Акуавива, ничего другого не знали, а потому, конечно, понятия не имели, насколько бесперспективна наша жизнь в этом городе, который из-за болотной лихорадки, как тогда говорили, стал форменным образом непригоден для житья. Подобно другим детям в более счастливых краях, мы учились письму и счету, узнавали кой-какие истории о взлете и падении императора Наполеона. Порой мы смотрели в окно, за стену школьного двора и поверх белой каймы лагуны в слепящий свет, трепещущий вдали над Тирренским морем. Ничего больше о своих школьных годах, так закончила свое письмо мадам Акуавива, я не помню, разве только, что наш учитель, бывший гусар по имени Туссен Бенедетти, склонясь над моей работой, снова и снова твердил: Ce que tu écris mal, Séraphine! Comment veux-tu qu'on puisse te lire?[36]
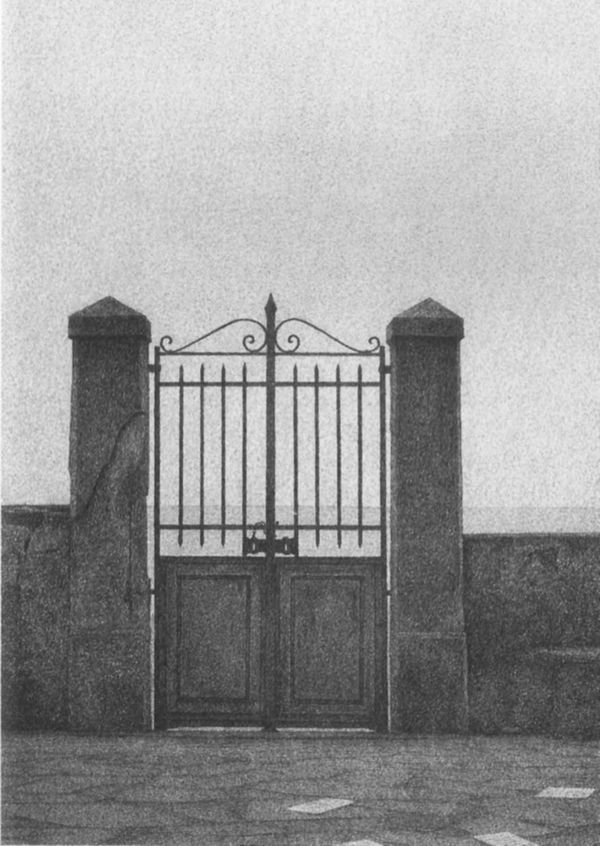
Квинт Бухгольц. Сомнение в перспективе, III. 1989
2
Чуждость, интеграция и кризис
О пьесе Петера Хандке «Каспар»
Итак, надо бы склонить внимательное ухо к толкам мира и попытаться воспринять множество образов, не нашедших отражения в поэзии, множество фантазмов, никогда не достигших красок бодрствования. Без сомнения, это задача невозможная в двойном смысле; во-первых, она бы заставила нас реконструировать пыль той конкретной боли, тех бессмысленных слов, какие ничто во времени не удерживает; во-вторых, эта боль и эти слова существуют прежде всего в жесте разлуки.
Мишель Фуко. История безумия в классическую эпохуКогда после нескольких панических попыток Каспар через задний занавес выбирается на сцену, он сначала замирает в незнакомом пространстве как «воплощенное удивление»1. Такое ощущение, что в конце долгого бегства он попадает на прогалину, загнанный, обложенный со всех сторон, без возможности выхода, отданный во власть реальности, о которой не имеет ни малейшего представления. О нас он не знает ничего. А нам он в своей цветной блузе, широких штанах и шляпе с лентой напоминает разве что глазастых деревенских простофиль, над которыми некогда потешалась венская публика. Эти лукавые провинциалы, правда, ориентировались если не в comme il faut[37] городского общества, то, по крайней мере, на сцене, где не стеснялись ни спросить, ни отыскать выход. Но Каспар и здесь покуда чужой, без товарищей. Поэтому предмет пьесы – не кратковременные и в итоге удачные блуждания комического персонажа, но запутанная внутренняя история о приручении дикаря. Но таким образом критически раскрывается то, что динамика внешнего действия в его данном и историческом ходе всегда содержала в себе: превращение бунтарского скоморошества в добропорядочный кукольный театр, в весьма унылую попытку буржуазного улучшения индивида, нецивилизованного по меркам общества.
Что до предшествующей жизни Каспара, нам остается лишь строить догадки. «Никто не знал, откуда он взялся», – так говорится в романе Якоба Вассермана, а сам Каспар, не владея речью, ничего сообщить не мог2. Его столь же нежданное, сколь и беззащитное присутствие означает, однако, живую провокацию общественного ресентимента. Возникает подозрение, что безъязыкое, доселе обойденное всякими поучениями существо владеет собственной тайной, а не то и райским блаженством. А это, поясняет прозорливый в подобных вещах Ницше, «очень тягостно. <…> Человек может, пожалуй, спросить животное: „Почему ты не говоришь мне о твоем счастье, а только смотришь на меня?“ Животное не прочь ответить и сказать: „Это происходит потому, что я сейчас же забываю, что хочу сказать“, – но тут же забывает и этот ответ и молчит <…>»3. Примерно так дело обстоит с Каспаром и его суфлерами. Они завидуют неописанной жизни, какую он представляет, его способности – еще раз Ницше – «чувствовать неисторически»4 и абсолютно. Это особое качество есть одновременно основа Каспаровой чуждости. Гофмансталь связал подобные конъектуры со своим понятием о предсуществовании, состоянии безболезненности по ту сторону травмы, когда едва замечаемое счастье, простое счастье бытия, сохраняется постоянно. Роман Вассермана тоже пытается воспроизвести это состояние как нечто совершенно отличное от депривации плена. «Он не чувствовал, – говорит Вассерман о Хаузере, – никакого телесного преображения, не желал, чтобы что-нибудь стало иначе, нежели было»5. Прояснению безмятежной Каспаровой жизни служит «белая деревянная лошадка <…> в которой смутно отражалось его собственное бытие <…> Он с нею не играл, даже не вел с нею безмолвных разговоров, и хотя она стояла на дощечке с колесиками, он и не думал возить ее туда-сюда»6. Из такого статичного, неисторического бытия, в каком овладевают, скажем, искусством «издалека слышать, как гниет древесина»7 или «в глубокой тьме различать цвета»8, Каспара выпускают на свет сценических подмостков – шок, болезненный переход в качественно абсолютно новую обстановку, где «изначально установленная гармония»9 утрачивается и внутренний бюджет оказывается дефицитным. Антропология предполагает, что нахождение в пространстве без деревьев, где любое бегство наверх исключено, привело к придумыванию мифологем. У Кафки обезьяна, перемещенная в человеческое общество, сообщает аналогичные сведения в своем отчете для Академии. Именно безвыходность заставила ее, у которой «до сих пор <…> было сколько угодно выходов»10, стать человеком. Вот и дикарю Каспару не остается ничего другого, кроме как развиваться. Только в его случае, как и в случае обезьяны по имени Красный Петер, мифологему изобретать уже незачем: ее предоставляют профессиональные суфлеры. Их бесплотные голоса не имеют почти ничего общего с конгениальной педагогикой, которая в XVIII веке и позднее надеялась воспитать из Каспара Хаузера освобожденного, невинного человека, природное чудо. Если эти эксперименты уже отличались наивной идеальностью, то затеи вокруг Каспара вообще сводятся к чистейшей иллюзии освобождения в полном приспособлении к обстоятельствам как таковым. Образуется «я», пока в конце концов, как описывал Гофмансталь, оно не соскальзывает в другую идентичность, не становится «злобным псом»11.
Анонимные голоса СМИ, которые ни на минуту не оставляют Каспара, означают для него «отчуждение в смысле пассивного подчинения вторжению других12. Что-то в нем дает трещину, он становится восприимчив и начинает учиться. На первых порах опыт у него клоунский – от коварства окружающих вещей и от собственной некомпетентности как человека. Руки Каспара застревают в щели дивана, ящик стола падает ему под ноги, он задевает за кресло, опрокидывает качалку и в ужасе убегает, ведь каждый новый урок – это новый испуг. То, что комик лишь изящно обыгрывает в «напряженности меж благоприобретенным серьезным владением предметами и своей намеренной неловкостью»13, для неумелого Каспара – непредсказуемые случайности, которые относятся не столько к владению предметами, сколько к его собственной дрессировке. О цирке Хандке писал, что восторженность зрителей в нем никогда не бывает свободна, «потому что изначально всегда присутствует готовность к стыду или к испугу»14, ведь что-то в номере вполне могло пойти не так. У комика же «неудача, которая в любых других цирковых действах так неприятна, запланирована заранее <…> Его неудача не неприятна, а смешна. Неприятно скорее уж, если ему невольно удается ловко владеть предметами. Вид клоуна, который не спотыкается о скамейку, который способен без приключений сесть в кресло <…> неприятен»15. Неуклюжесть Каспара никоим образом не добровольна, и происходящее с ним только выглядит как смешные lazzi[38], которых он быстро учится избегать. Но в них он уже настолько приспособился к клоунскому поведению, что его подлинные реакции в дальнейшем производят едва ли не неприятное впечатление. То, что выдает себя за успешный прогресс, есть, вообще говоря, всего лишь постепенное унижение дрессируемого, который, приближаясь к усредненному человеку, начинает походить на обезумевшее животное. Каспарово éducation sentimentale[39] — это и история его болезни, в итоге приводящая нас к пониманию патологической связи, в какую неизбежно вступают собственность и образование. Ведь разве вещи имеют названия не просто потому, чтобы удобнее было ухватить их, точно так же как белые пятна в составленном нами атласе реальности исчезают лишь затем, чтобы колониальная держава духа приросла в объеме. «Ребенком, – вспоминает Хенни Портен в «Прогулке верхом по Боденскому озеру», – мне всегда, если я чего-то хотела, приходилось сперва сказать, как это называется»16. Уже вскоре Каспар понимает, что в этом-то и заключается тайна владения вещами; он подпадает под власть информации, чтобы чуточку увеличить свою маленькую власть. Утверждение Музиля, что «знание сродни корысти; что оно представляет собой жалкое накопительство; что это чванливый внутренний капитализм»17, есть критика развития, какое начинает Каспар, уразумев смысл учения. Не то чтобы он сознательно выбирал между наивностью и просвещенностью, но незнакомые слова, с помощью которых он одолевает незнакомые предметы, действуют на него как приказы и отложенные угрозы, и противостоять им он не в силах. К тому же он пока не распознает голоса общества как что-то другое, находящееся вне его; скорее они резонируют в нем как часть его самости, ставшая ему чуждой, когда он очутился в новом, слишком светлом окружении. Общественные максимы и рефлексии неодолимо наваливаются на него, будто его собственное, индивидуальное безумие. Потому-то он им подчиняется.