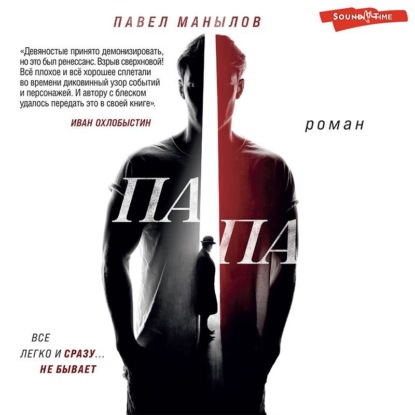Полная версия
Грот, или Мятежный мотогон
– А ты разве не знаешь, что и меня когда-то добрые люди взяли на поруки и от тюрьмы избавили? Я ведь по глупости, по недомыслию угодил. Я им по гроб благодарен буду. И на мне теперь, как ни крути, долг – тот, что платежом красен. Я теперь должен за кого-то ручаться, разве нет? К тому же Вялый-то – он ведь в Бога верует. И в Афганистане со мной служил. А это свято.
Саньку эти слова как будто убедили, хотя и не до конца: в мыслях осталось сомнение.
– А ты с ним совладать-то сможешь, если он Любу начнет бить?
– Так жена его… Бывает, муж и побьет.
– А-а-а. Жена. Значит, не сможешь. Вялый сам тебя по рукам свяжет. Вот тебе и поруки. Не зря она на брата надеется.
Отец Вассиан насупился оттого, что ему нечего возразить. Между губ зачернелся давний ожог. Решил разговор со свистухой свернуть, перевести на другое.
– Брат ей не поможет. Пусть у старца нашего Брунькина для начала укроется. Тот приютит. Я ей об этом скажу. А к Полине Ипполитовне заглянула? И что она?
– Сказала, что в среду ты обещал почитать из своих записок. Всем уже разосланы приглашения. Придется тебе быть…
– Нет, на Страстной не могу. Еще раз забеги и скажи ей. Пусть перенесет на Пасхальную. – Отец Вассиан достал из подрясника, помял в кулаке и стыдливо протянул дочери деньги на ресторан.
– Здесь не хватит. – Санька плаксиво сморщила веснушчатый нос, насупила треугольнички бровей – такие же, как у отца.
– Хватит, хватит. – Отец Вассиан добавил немного мелочи. – Только рыбу возьми. Мясо – не смей.
– Мясо от дьявола?
– Во время поста – от дьявола.
– А помнишь, я в детстве глупенькой была, совсем дурочкой и тебя спрашивала: «А козявки в носу отчего бывают? От дьявола?» А ты мне отвечал: «От дьявола».
– Ты хоть и выросла, а у тебя в мыслях – те же козявки. Ну, беги, свистуха, – сказал он и снова выключил радио – повернул до упора ребристую ручку.
Глава пятая
Пугач
В ресторане Санька расположилась за столиком у окна, чтобы есть и поглядывать. Просто есть (особенно суп) ей всегда было скучно. Санька нуждалась в добавке, но не той, что подкладывают в тарелку, а той, что дает пищу жадно раскрытым глазам, утоляет не столько голод, сколько любопытство ко всему на свете, позволяет почувствовать, что она не только ест, но и живет.
Жить она была согласна даже впроголодь, даже тогда, когда урчит в животе (кошачьи концерты). Если же жизни не хватало, с унынием вспоминала о еде, но предпочитала отдаваться ей не дома, а в гостях или в ресторане, где было легче получить добавку – ту самую, ради поисков которой она сейчас и уселась у окна ресторана.
Но на этот раз добавка сама нашла ее – и какая! Причем нашла не где-нибудь за окном, а здесь, в ресторане. За несколько столиков от нее сидел школьный учитель математики, добрый, близорукий (подставлял к глазам лупу вместо очков), не верящий в Бога – Казимир Адамович Мицкевич.
Он, конечно, сразу заметил ее и махнул рукой, подзывая к себе. Санька аж вся зарделась от такой чести и мигом перебралась со своими мисками (в тарелках еду подавали только вечером) к нему за столик.
Когда Санька передавала Любе Прохоровой записку, Казимира Адамовича дома не было. Но ему, видно, потом сказали, и он знал о ее приходе. И о содержании записки тоже, конечно, знал, иначе бы не смотрел на нее так затравленно, встревоженно и безнадежно.
– Ну и новости ты нам принесла, Григорьева. Апокалипсис! Конец света! – При своем неверии Казимир Адамович любил ссылаться на Библию, как, впрочем, и на художественную литературу, которую знал не хуже математики, хотя ценил в ней не туманные и расплывчатые описания (красивости), а точные формулировки. – От таких новостей, знаешь ли, срываются гроба шагать четверкою своих дубовых ножек.
Санька воспользовалась поводом ему польстить и его задобрить.
– Как вы хорошо сказали, Казимир Адамович! – Она сделала мечтательные глаза.
– Это не я, а Маяковский, дуреха. Из школьной программы, между прочим.
– Простите. – Санька не без жеманства опустила глаза: устыдилась.
– Бог простит.
Она подняла глаза, округлившиеся от удивления.
– Бога же нет, вы нас учили.
– Ну, кто-то же прощать должен… Ладно, Григорьева, о Боге после поговорим. Ты мне скажи, когда его ждать-то?..
– Конца света? – по наивности осведомилась Санька.
– Футы, господибожемой! Какого конца света! Этого Вялого, Вялого. Кстати, как его зовут-то по-человечески?
– Сергей Харлампиевич…
– … этого Сергея… как бишь его? – Казимир Адамович отчества с первого раза не запоминал.
– Харлампиевича. Отец полагает, что уж на Пасху…
– Вот будет подарочек к празднику. Крашеное яичко. Несчастная Люба сама не своя… Побежала брату в Питер звонить, чтобы приехал…
– Брат Евгений не поможет, – сказала Санька словами и голосом отца: так было авторитетнее. – У старца нашего надо укрыться.
– У Брунькина? А ты у него бывала?
– Я – нет, отец бывал.
– И где ж там укроешься?
– В скиту.
– А то Вялый с Камнерезом этот скит не найдут. Мигом разнюхают и отыщут.
– Он заговоренный, скит-то. Не всякому открывается. Иной станет искать и в лесу заплутает или в болото ухнет, провалится. Утопнет.
– Ой, Григорьева. Горазда ты небылицы сочинять. Ты еще Китеж-град сюда приплети. Или Беловодье. А то уж вовсе замахнись на Шамбалу.
– На что замахнуться? – Санька то ли не расслышала, то ли не очень поняла.
Казимир Адамович счел безнадежным делом ей что-либо объяснять. Он зачерпнул ложкой борща, любуясь, как он стекает струйкой обратно в миску. Санька из подобострастия тоже зачерпнула и полюбовалась.
– Ладно, с Шамбалой проехали и забыли… У меня к тебе один вопрос.
– С придурью? – деловито осведомилась Санька, словно от наличия придури в вопросе зависело, под какую разновидность он подпадал.
Казимир Адамович аж охнул от такой дерзости.
– Ты что себе позволяешь, Григорьева! Я все-таки учитель. Когда это я придуривался?
– Ой, простите, – спохватилась она, вспомнив, что собеседник не посвящен во все тонкости великого и могучего школьного языка. – Это на нашем жаргоне. С придурью – значит с прицепом.
– А прицеп что такое?
– Ну, нечто… вроде прикола.
– Так вот, Григорьева. – Казимир Адамович как бы подвел черту под числителем, чтобы вписать итоговый знаменатель. – Я тебя спрашиваю серьезно – без прицепа и прикола. У кого из наших старшеклассников есть пугач? Я однажды видел, они в школу приносили. Совсем как настоящий. Чей он?
– Казимир Адамович… – Санька посмотрела на него с красноречивым упреком. – Я своих не выдаю. Я девушка с понятиями.
– Мне нужно. Мне очень нужно. – Казимир Адамович весь зашевелился, задвигался, завертелся на своем стуле, не зная, как донести до нее всю степень того, что он называл нужностью. – Я не просто так спрашиваю. Не беспокойся, к директору доносить не побегу.
– Правда?
– Господибожемой, клянусь. Я человек чести и обещаниями не бросаюсь. Во мне, между прочим, польская кровь. К тому же я потомок великого поэта.
– Маяковского?
– Темнота же ты, Григорьева. Мицкевича.
– А я думала, что вы однофамилец. Все в классе так думали.
– Ну, однофамилец, атам кто знает… Может, и потомок. Санька вернулась к заданному им вопросу.
– Это пугач Яна Ольшанского. Ему отец из Бельгии привез. У него же отец предприниматель. Между прочим, он обещал пожертвовать на ремонт придела Святой Троицы. Мне мой отец шепнул на ухо. Это пока секрет.
Но Казимиру Адамовичу до Троицы и связанных с ней секретов не было никакого дела.
– А не даст ли Ян на время свой пугач? Я верну, разумеется. Брат Витольд очень просил. Для самозащиты.
– От Вялого и Камнереза? Я спрошу у Яна, хотя мы не очень дружим. Ему такие, как я, девушки не очень нравятся. – Санька попыталась упомянуть о своем, надеясь, что учитель станет подробно расспрашивать и ей удастся поплакаться и посетовать на свою судьбу (в школе она никому по большому счету не нравилась, а нравиться по малому счету считала ниже своего достоинства).
Но того заботило лишь одно и, видно, очень заботило, раз он ни о чем другом думать не мог.
– Спроси, спроси, Григорьева. Или пришли его ко мне в математический кабинет. Я сам с ним поговорю.
Санька разочарованно (никакой добавки к обеду!) пообещала:
– Попробую. Боюсь только, что не согласится. Он со своим пугачом не расстается. Любимая игрушка. А еще ему отец к окончанию школы пообещал свой старый мессершмитт подарить.
– Какой еще мессершмитт?
– Ну, мерседес, мерседес, – произнесла Санька с таким отвращением, словно для полного счастья ей не хватало лишь всем состроить злючую рожу, показать язык, а затем поездить на мессершмитте или полетать на мерседесе.
Глава шестая
Измучила
Отец Вассиан не допускал и мысли о том, что ему может нравиться – и даже очень (чертовски) нравиться – Люба Прохорова. Он убеждал себя, что у них совсем другие отношения, что Люба – усердная прихожанка, не пропускает ни одной службы, терпеливо выслушивает все проповеди и наставления, принимает из его рук причастие.
К тому же он ведет с ней долгие беседы на лавочке в церковном саду, под зарослями черемухи и рябины, посаженных его руками, отвечает на ее часто наивные, смешные, но всегда пытливые и вдумчивые вопросы, дает советы.
И она может считаться его ученицей, даже более того – духовной дочерью.
При этом он подчас ловил себя на том, что Люба очень уж хороша, и лицом, и гибким станом, и крупными, пунцовыми (словно запекшимися и надтреснутыми от горячего дыхания) губами, и пшеничного отлива косой, уложенной венком на голове. Высокая, с запавшими, резко очерченными глазницами, фиалковой дымкой огромных глаз, она особенно влекла и притягивала. Притягивала, морочила, даже бесила (прости господи) чем-то затаенно неправильным – преувеличенно красивым – в удлиненных чертах.
И что-то татарское было в разрезе глаз, резко очерченных скулах.
Шамаханская царица!
И, конечно же, ему нравилась – до бешенства, до мучительного стона, до зубовного скрипа.
Номысли отец Вассиан все равно не допускал, поскольку чего уж там: он намного старше, ему далеко за сорок, женат уже столько лет, у него трое детей. Санька, младшая, слава богу, при нем; сын Аркадий служит дьяконом в дальнем приходе (его не рукополагают лишь потому, что заменить некем: слишком хорош дьякон). А старшая дочь Павла в интернате трудных подростков перевоспитывает…
Словом, подобная мысль унижала его в собственных глазах, а главное, роняла достоинство сана, опускала его, как новичка в тюремной камере (отец Вассиан за полтора года отсидки всего насмотрелся). Что это он, священник, иерей, себе позволяет! Этак еще и разговоры пойдут среди прихожан, толки, перешептывание в храме, на службе.
Да и матушка станет ревновать, поддаваться соблазну. Поэтому лучше уж без мысли: нравится немножко и все.
Так оно и продолжалось два с лишним года – до той поры, пока Люба не влюбилась. И не в него, грешного и окаянного, а в одного из братьев-близнецов – Витольда Мицкевича, а к нему примчалась исповедоваться. Все ему выложила, расписала в подробностях, как это с ней случилось (при живом-то муже).
Тут-то ему кровь в лицо бросилась, между сомкнутых губ зачернело.
И явилась отцу Вассиану крамольная мысль, что, оказывается, не просто нравится ему Люба, а влюблен он в нее – влюблен гибельно, смертельно (вот когда ему открылась библейская «Песнь»), до удушья и мучительно ревнует к этому полячишке. И готов осудить, возненавидеть Любашу и все ей тут же простить, лишь бы она его тоже хотя бы немного любила.
…После вечерней службы сели они в церковном садике на лавочку, под черемухой и рябиной. Вдали серела между деревьев Ока, похожая на ползущий вдоль берегов мутный, проволглый дым от сырого костра. Под ногами дотаивал хрупкий ледок, смешанный с глиной.
Люба потуже завязала платок и натянула на колени юбку.
– Получила записку? Прочла?
– Прочла. Что ж теперь делать-то?
– Евгению своему в Ленинград-то уже позвонила?
– В Петербург…
– Для меня он по-прежнему Ленинград.
– Позвонила. Что могла, сказала. Об остальном напишу.
– Напиши, напиши. Ты длинные письма-то любишь строчить. Ну и как он – приедет тебя защищать, порядок наводить?
– Обещал на Пасху.
Отец Вассиан стал долбить каблуком большого сапога льдинку, стараясь искрошить ее в кашицу.
– На брата особо-то не надейся. Уповай на Бога и на старца нашего Брунькина. Он – божий человек.
Люба смотрела прямо перед собой, словно заставляя себя не слышать сказанного им и при этом самой высказать то, что он наверняка не пожелает услышать.
– Отец Вассиан…
– Да, милая…
У нее резко обозначились татарские скулы.
– Вы меня простите ради бога… Не корите только.
– Говори, говори…
– Ведь вы нарочно моего мужа сюда из тюрьмы вызвали. Наказать меня хотели, а может, и отомстить мне.
Отец Вассиан тоже стал смотреть прямо перед собой.
– Ты сама до этого дошла? Или матушка Василиса тебе нашептала? Она большая любительница на меня всякую напраслину возводить.
– Простите… – Люба опустила голову.
– Ведь ты мне как дочь… За что же мстить-то?
– За то, что полюбила… Вы хотели, чтоб вас, а я вот – вопреки вам – другого.
– Что значит – я хотел? – Он осуждающе повел бровью. – Любовь с тобой крутить?
– Я ведь ваши томные и откровенные взгляды на себе ловила. И не раз.
– Врешь. Не было этого.
– Да чего уж там не было – было, – сказала Люба так просто, что у него отпало всякое желание ей возражать и оправдываться.
– Может, и так. Прости меня грешного. Ведь я лишь поп, а не праведник. Хорошо бы, конечно, если бы попы были праведниками, ведь когда-то предлагалось… Но где ж их столько возьмешь. На все приходы не напасешься. – Отец Вассиан нарочно отвернулся, чтобы не смотреть на Любу после того, как она уличила его в томных взглядах. – Ну, нравишься ты мне. Я же мужик, как ни крути, хотя и в рясе. Но разве я что-нибудь лишнее себе позволял?
Люба и хотела бы признать, что не позволял, да не смогла.
– А однажды, когда я заснула?..
– Ну, поцеловал тебя. Был грех. – Он по-прежнему от нее отворачивался.
– А когда больная лежала, а вы Псалтырь принесли мне читать, а сами стали коленку гладить?
– Не сдержался. Рука сама потянулась. Красивая ты. – Отец Вассиан повернулся к ней, чтобы эти слова подтвердить взглядом, каким бы он ни был откровенным.
– Красивый сосуд греха? – спросила она с нехорошей усмешкой.
– Из-му-чи-ла ты меня, – произнес он с каким-то странным горловым, булькающим голосом, похожим на сдавленное рыдание. – Вот как есть, так и говорю: измучила. Бьюсь о тебя, как одуревшая муха о стекло.
– Сами себя вы измучили.
– Сам – не сам. Молчала бы ты… Мне бы прогнать тебя с глаз долой, запретить появляться, всюду посты расставить, охранников, часовых, а я, дурак, не могу. Я ведь в Серпухов ездил, к владыке Филофею. Умолял, чтобы меня перевели, услали в другой приход, спасли от наваждения бесовского. А они отказали. Велели терпеть и искушению не поддаваться. Сейчас приходы открываются, где им взять священников – не хватает.
– Меня и гнать не надо. Сама теперь уйду. – Люба хотела встать, было приподнялась, но передумала и снова села.
– А-а-а. Вот ты как повернула. Не нужен стал глупый поп. Замена ему нашлась. Только как ты их различаешь, близнецов-то? Она ведь как две капли воды друг на друга похожи.
– Уж знаю как… – Люба не стала распространяться про знание, принадлежавшее ей одной.
– Неужели так любишь своего Витольда? Ведь он не из красавцев… Гонору, правда, много. Польской спеси.
– Это не гонор.
– А что? След многолетнего страдания под игом деспотической России?
– Не будем об этом, а то поссоримся.
– А без ссоры у нас с тобой не получится. Нет уж, милая, не надейся. Буду с тобой ссориться. Я ведь поп-то скандальный. Недаром меня столько по приходам гоняли и в самую глушь упрятали.
– Значит, все-таки мстите, – произнесла Люба так, словно до этого еще сомневалась в его мести и лишь теперь до конца в ней уверилась.
– А ты как хотела. Мне отмщение, и аз воздам, как говорится. – Он широко расставил ноги в больших сапогах и накрыл колени ладонями.
– Для этого и Вялого вызвали вместе с Камнерезом. – Люба повторила сказанное раньше так, словно теперь в нем не оставалось ничего недосказанного.
– Не Вялого, а нашего Сергея… Сергея Харлампиевича.
– Ахметович он.
– Да пусть кто угодно, а муж твой законный. Я сам и венчал вас. Правда, оступился он, но полсрока отсидел, кое-что уразумел, кое-чему научился. Заживете с ним по-новому.
– Я к нему не вернусь. Уж лучше горло себе серпом… Вам тогда меня отпевать придется.
– Самоубийц не отпевают. Церковь не велит.
– А вы самовольно, со скандалом. Скандалить-то вы умеете, – сказала Люба так, словно после этого ничто не мешало ей встать со скамейки.
Глава седьмая
Вакуум
Встать-то отец Вассиан ей позволил, а вот уйти не дал.
– Подожди… Малость задержись-ка, Люба.
Она остановилась, не поворачиваясь, стоя спиной к нему и ничего не произнося в ожидании того, что он ей скажет.
– Не за тем я вызвал твоего мужа, чтобы мстить или наказывать тебя. Не за тем. Я сейчас тебе все растолкую… попробую растолковать, хотя толкователь-то, признаю, не ахти. Заливаться соловьем не умею, как некоторые.
– Это кто же у нас соловьем заливается? – спросила Люба о том, о ком можно было не спрашивать.
– Да хотя бы Витольд твой. Братец-то его – Казимир молчун, а сам он речами пламенными всех заворожил. Витольд-Демосфен! Витольд-оратор. Правда, я его Витьком называю.
– Не будем о нем. – Она пожалела, что спросила.
– Согласен, не будем. Так о чем бишь я? Ах, да! О том, что толкую я плохо. Не толкую, а токую, ха-ха! Но – никуда не денешься – попробую. Ты только побудь со мной, побудь. Хочешь, сядь на скамейку, а я встану, если уж так противен тебе. Или вместе еще посидим.
Люба спросила о том, что мешало ей снова сесть с ним рядом:
– А разве вы не все сказали?
– Да мы с тобой все о личном, о томных взглядах и поцелуях, а есть вещи и поважнее. Общественные! Церковные и государственные! О них желаю потолковать. Уж ты уважь. Посиди.
Он широко смахнул полой подрясника пыль с того места, куда приглашал ее сесть. Но Люба присела лишь на краешек скамейки.
– Какие же вещи?
– Не бойся, не краденые, – пошутил он с хохотком и за этот хохоток усовестился, смутился: вышло не совсем к месту.
Люба даже не улыбнулась на эту шутку: в выражении красивого лица ничего не изменилось. Он засуетился, стал оправдываться, даже слегка заискивать:
– Я это к тому, что не из чужих книг. Сам допер. Своим умом. Я в «Записках» об этом пишу. Может, и коряво пишу, нескладно, но сейчас писателями, как и солдатами, не рождаются. Ими становятся. Вот и я, считай, стал им, писателем-то: нужда заставила. Но могу сказать и по-простому.
– Скажите по-простому. – Люба вздохнула: она стала уставать от их затянувшегося разговора.
Он это понял, торопливо собрался с мыслями.
– Ты только не перебивай. Ты же всегда умела слушать.
– Я слушаю… – сказала она глухим и отчасти враждебным голосом.
– Ну вот, ну вот… – Отец Вассиан весь вскинулся, встрепенулся. – Ты о времени когда-нибудь думала? О нашем времени? О девяностых?
– Время как время. Что о нем думать.
– А я думал и очень много. Вот смотри… – Он выставил перед ней ладонь и стал пальцем рисовать на ней круги. – Запреты на веру сняли, народ ломанулся в церкви. Ломанулся не только младенцев в купель окунать, но и грешную душу спасать. Пускай и креститься толком не умеют, и свечки ставить, и поклоны класть… И на исповеди такой бред несут, что слушать тошно. Пускай…
– Ты только к сердцу никого не допускай, – вспомнилось Любе, и она сама удивилась: зачем вспомнилось?
Отца Вассиана это слегка сбило с толку.
– Я что-нибудь не так сказал?
– Нет, нет, все так. Простите, – стала оправдываться Люба.
Но он все равно не сразу совладал с сумятицей и разбродом в мыслях. Покашлял, прочищая горло. Собрал в кулак рыжую поросль, закрывавшую ожоги на подбородке.
– Так вот я и говорю: народ ломанулся. Казалось бы, только радуйся. Празднуй победу, торжество православия. Но не очень-то празднуется, однако… не очень. Ведь это торжество лишь на виду, на поверхности, это еще не суть. Суть-то внутри, глубоко запрятана.
– И в чем же она, по-вашему?
Он слегка воодушевился, почувствовав в ее вопросе прежний пытливый интерес.
– А в том, что образовался вакуум. Вакуум, Люба, пустота, ничем не заполненное духовное пространство.
– Не понимаю я, – сказала она, и его воодушевление спало.
– Да как же ты не понимаешь. Возьмем прежние времена, нашу совдепию. Веры в Бога не было, но была другая вера – в коммунизм, партию, светлое будущее. А вместе с ней – и знамена, и хоругви, и иконописные лики, на Красной площади вывешенные, прямо по фасаду ГУМа. Все честь по чести, как и полагается. Но вот светлое будущее стало подмокать, загнивать, покрываться коростой, а там и вовсе захирело и сгинуло. Никто в него больше не верит, кроме полоумных стариков и старух, бывших коммуняк со стажем. А что на его месте? Вера православная, глубинная, истовая? Какое там – мелкая рябь на поверхности, а по сути – вакуум. Вакуум же при полной свободе очень опасен. У нас ведь сейчас свобода-то – что твое гуляй-поле. Ночной мятежный мотогон с включенными фарами. Грабь, воруй, убивай. Думай себе, о чем хочешь и что хочешь – никто не запретит. – Отец Вассиан подергал рыжую поросль на подбородке. – И при такой свободе в этом вакууме, Люба, скоро начнут плодиться всякие химеры, возникать миражи, причудливые видения. Кому-то привидится, что он – сатана. Кому-то – что чуть ли не сам Христос. Зачастили к нам проповедники со всего света. Один миляга Билли собирает стадионы. Вон секты уже появились, народец наш наивный и неискушенный заманивают, но это еще не самое страшное. Сектам можно и хвосты поприжать, если слишком разохотятся и обнаглеют. Куда страшнее – ереси. Ереси, Люба. Причем явятся они не в натуральном – голом – виде, свой срам прикрывая, а облаченные в роскошные одежды, с претензией на философские поиски и интеллектуальные прозрения. Это же ох как соблазнительно – искать и прозревать. Не молиться ночи напролет перед лампадкой мигающей, а, развалившись в удобном кресле, искать, видите ли. А заодно и прозревать. Попутно же поругивать нашу церковь за всякие там отжившие суеверия, вековые заблуждения и предрассудки. За котлы с кипящим маслом и раскаленные сковороды: я и сам подчас ими грешу. Да и мало ли за что. Вон кружок нашей Полины Ипполитовны – там уже раздаются голоса, слышатся призывы. И Витек твой усердствует – то великодержавную деспотию лягнет, то чиновничий произвол, то казенное православие.
– Витольд умный и образованный человек, – строго и вдумчиво произнесла Люба.
– Не спорю. Пускай. Но лягаться это никому и никогда не мешало. С умом-то оно и лучше.
– К чему вы это все?.. К чему вы мне это говорите?
– А к тому… – отец Вассиан вдруг стал лицом другой, на себя непохожий – не тот, что сыпал шутками и прибаутками, а серьезный и уклончиво-многозначительный, – к тому, что Вялого и Камнереза я вызвал, чтобы горячие головы знали: управа на них есть, и не очень-то хорохорились. А то распетушатся – ничем их не остановишь. Свобода – то же море разливанное: волны, брызги, пена. Вялый же и Камнерез – как два волнолома. Волны-то набегут, в них ударят и откатят. Муж твой хоть и Ахметович, но верит по православному и за веру стоять будет. И спуску никому не даст.
– Чуть что – и ножик к горлу приставит.
– Оставь это – ножик… На ножики вон милиция есть. Сразу на нары вновь отправят. Охота кому? Да и я с ним буду строго. Не забалует. – Отец Вассиан счел, что последнее слово им сказано, и поэтому лишь спросил: – Теперь уразумела, зачем мне Вялый и Камнерез нужны?
– Уразумела. – Люба приподнялась со скамейки, и он не стал ее удерживать.
– Ну, ступай. Витольду Адамовичу… Витьку твоему мое нижайшее почтение.
– И вам не болеть, – ответила ему Люба словами, которые от него же и слышала.
Глава восьмая
Близнецы
Казимир Адамович долгое время жил один – на самой окраине городка, где дымил кирпичный завод, зияли пустыми глазницами заброшенные бараки и тянулся пустырь, отданный под огороды, но заросший бурьяном и лебедой, поскольку ничего прочего там не росло: пустырь он и есть пустырь. Дом у Казимира Адамовича, хоть и понизу кирпичный (кирпич брали тут же рядом и за полцены), был ветхий, покосившийся, крытый проржавевшим и местами задранным от ветра, скатавшимся валиком железом, но с колоннами. Уж откуда взялись эти колонны и как их пристроили – приткнули – к фасаду, подперли ими карниз, чтоб они худо-бедно держались и не падали, никто не мог сказать (сие было неведомо).