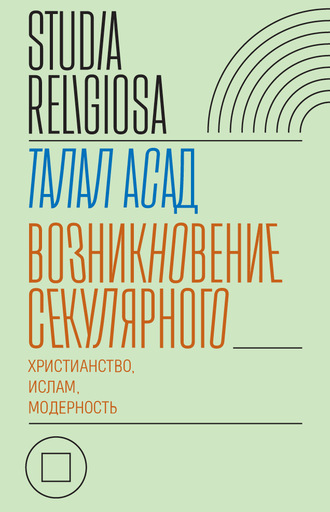
Полная версия
Возникновение секулярного: христианство, ислам, модерность
Далее будет представлена не социальная история секуляризации и даже не история идеи. Мы занимаемся исследованием эпистемологических гипотез секулярного, что поможет нам более ясно увидеть, что именно может войти в антропологию секуляризма. Я утверждаю, что секулярное не является неотделимым от религиозного, которое предположительно ему предшествовало (то есть не является позднейшей формой развития священного), и не представляет просто разрыв с религиозным (то есть не является противоположностью, сущностью, которая исключает священное). Мне представляется, что светское является концепцией, которая связывает определенные типы поведения, знания и эмоциональности, существующие в современном мире. Недостаточно показать, что кажущееся необходимым на самом деле случайно, что в некоторых аспектах «секулярное» очевидно пересекается с «религиозным». Задача состоит в том, чтобы показать, как случайность соотносится с изменением грамматики концептов, то есть, как изменение концепта формирует изменения в поведении28. Моей целью в этой главе, следовательно, является не обзор исторического нарратива, а проведение серии исследований аспектов явления, называемого нами «секулярное» (светское). С моей точки зрения, секулярное не едино с точки зрения происхождения и не стабильно с точки зрения исторической идентичности, хотя и функционирует в рамках целого ряда оппозиций.
Материал я почти полностью черпаю из истории Западной Европы, ведь именно она оказала определяющее влияние на способы осмысления и претворения в жизнь доктрины секуляризма по всему модернизирующемуся миру. Я пытаюсь понять секулярное, осмыслить, как именно оно возникло, стало реальным, было сопряжено и оторвано от конкретных исторических условий.
Предлагаемый мной анализ представляет собой противоположность триумфалистской истории секулярного. Я принимаю взгляд, как до меня делали и другие, что «религиозное» и «светское» по своей сути не являются фиксированными. Тем не менее, я не считаю, что если убрать все наносное, то можно увидеть, что некоторые очевидно светские институты на самом деле являются религиозными. Напротив, я предполагаю, что сущностно религиозного просто не существует, как не существует универсальной сущности, определяющей «священный язык» или «опыт священного». Я также предполагаю, что имели место разрывы между христианской и светской жизнью, когда слова и действия были реструктурированы, а новые дискурсивные грамматики сменили старые. Мне кажется, что необходимо предпринять более подробное исследование результатов этих сдвигов. Поэтому я рассматриваю фрагменты истории дискурса, о которых часто говорится, что они являются неотъемлемой частью «религии» – или по меньшей мере близко с ней связаны, – чтобы показать, как сакральное и светское зависят друг от друга. Я коротко останавливаюсь на вопросе о том, как именно религиозный миф содействовал формированию современного исторического знания и современной поэтической эмоциональности (вскользь также показывая, как эта эмоциональность была воспринята некоторыми современными арабскими поэтами), но, с моей точки зрения, это не сделало ни историю, ни поэзию по сути «религиозными».
Сказанное верно и в отношении недавних заявлений либеральных мыслителей, для которых либерализм – это своего рода искупительный миф. Я указываю на присущую ему жестокость, но необходимо быть очень осторожным, чтобы не спутать его с искупительным мифом христианства, несмотря на их сходство. Само собой разумеется, моей целью не является ни критика, ни поддержка этого мифа. В более широком смысле, я не намерен атаковать либерализм ни как политическую систему, ни как этическую доктрину. Здесь, как и в других случаях, я только хочу избавиться от идеи, что секулярное – это маска для религии, что секулярные политические действия часто имитируют религиозные. Я завершаю кратким обзором двух концепций «секулярного», которые, мне кажется, доступны антропологии сегодня, а делаю я это, дискутируя с текстами Поля де Мана и Вальтера Беньямина.
Чтение об истоках: миф, истина и власть
В западноевропейские языки слово «миф» пришло из древнегреческого, а истории о греческих богах были парадигматическими объектами критических размышлений, когда мифология стала академической дисциплиной в раннее Новое время. По этой причине необходимо привести короткую историю термина и концепции.
Брюс Линкольн открывает книгу «Теория мифа» замечательной историей греческих терминов «миф» (μῦθος) и «логос» (λόγος). Мы читаем, что Гесиод в «Трудах и днях» связывает речь-миф с истиной (ἀλήθεια), а речь-логос с ложью и лицемерием. Речь-миф – это мощная речь, речь героев, привыкших побеждать. У Гомера, как указывает Линкольн, λόγος обычно относится к речи, целью которой является или успокоить кого-либо, или отговорить воинов от поединка.
В контексте политических собраний μῦθοι предстают в двух видах: «правильном» и «испорченном». Μῦθοι функционируют в контексте права так же, как λόγοι в контексте войны. Μῦθος у Гомера «это обозначающее власть речь-действие, совершаемое обстоятельно, обычно на публике, с полным вниманием к каждой детали»29. Оно никогда не обозначает символическую историю, которую необходимо расшифровывать, или, если уж на то пошло, ложную историю. В «Одиссее» Одиссей превозносит поэзию, утверждая, что она истинна, воздействует на эмоции слушателей, способна улаживать разногласия, и заканчивает он свой поэтический рассказ, заявляя, что он только что «изложил μῦθος»30.
Первоначально поэты приписывали собственные речи божественному вдохновению, называя их μῦθος (что современные люди называют на новый манер сверхъестественным миром), позже софисты учили, что любая речь рождается у человека (который живет в этом мире). «В то время как христианское мировоззрение совершенно отделяет Бога от мира, – пишет Ян Бреммер, – греческие боги не были трансцендентны и напрямую участвовали в природных и социальных процессах… Именно эти связи между человеческим и божественным мирами в недавнем исследовании греческого мировоззрения назывались „взаимосвязанными“ относительно нашей собственной „разделительной“ космологии»31. Однако здесь поставлено на карту гораздо больше, чем вопрос об имманентности или трансцендентности божества относительно мира природы. Само понятие «природа» внутренне трансформируется32. Представления о христианском Боге, помещенном в отдельный мир «сверхъестественного», указывают на возникновение светского пространства, которое начинает появляться в раннее Новое время. Это пространство позволяет переосмыслить «природу» в качестве поддающегося воздействию материала, детерминированного, гомогенного и подчиняющегося законам механики. Все за пределами этого пространства, следовательно, является «сверхъестественным» – местом, которое многие считают фантастическим продолжением реального мира, населенным бессмысленными событиями и воображаемыми существами33. Эта трансформация оказала значительное влияние на значение слова «миф».
Μῦθοι поэтов, как говорили софисты, не только негативно воздействуют на эмоции, но еще и лживы, поскольку говорят о богах, хотя даже в качестве лжи они могут оказывать благотворительный эффект на аудиторию. Эта мысль была развита Платоном, который придал ей новое звучание: с его точки зрения, прежде всего философы, а не поэты ответственны за моральное развитие. Атакуя поэзию, Платон изменил смысл слова «миф»: оно стало означать социально полезную ложь34.
Основатели мифологии как дисциплины в эпоху Просвещения, например Фонтенель, перенесли представления Античности на собственных богов. Как и для многих образованных людей своего времени, исследование мифа представлялось ему возможностью поразмышлять об ошибках человека. Он писал: «Хотя мы являемся несравненно более просвещенными, нежели те люди, грубый разум которых из лучших побуждений сочинил Мифы, мы легко понимаем то направление ума, которое делало Мифы настолько привлекательными. Люди поглощали Мифы, поскольку в них верили, мы поглощаем их с не меньшим удовольствием, хотя в них и не верим. Не существует лучшего доказательства того, что воображение и разум мало связаны и что вещи, относительно которых разум лишился всяких иллюзий, при этом не теряют привлекательности для воображения»35. Фонтенель проделал большую работу, придя к выводу о возможности естественного, природного объяснения «сверхъестественных» явлений во время, когда «природа» возникла как отдельная сфера опыта и исследования36.
При этом в целом в эпоху Просвещения мифы не были исключительно объектами «веры» (belief) и «рационального исследования». В качестве элементов высокой культуры в раннее Новое время в Европе они были неотъемлемой частью характерной для этой культуры эмоциональности: культивируемой способности к тонким чувствам, особенно симпатии, и способности взволноваться от трогательного в изобразительном искусстве и литературе. Стихи, картины, театр, общественные памятники и убранство частных домов богатых людей впрямую изображали или намекали на качества или приключения греческих богов, богинь, чудовищ и героев. Знание этих историй и фигур было необходимой частью образования высшего класса. Мифы позволяли писателям и художникам представлять современные события и чувства, как мы бы сказали сегодня, в виде беллетристики. Мифологический стиль в равной степени способствовал идеализации земной любви и преувеличенному восхвалению суверена, что в свою очередь способствовало появлению сатиры, стремившейся к разоблачению или удалению символического смысла. Таким образом обходными путями можно было критиковать церковные власти, не опасаясь сразу же быть обвиненным в богохульстве. В целом резкая критика мифических фигур и событий в литературе продемонстрировала, что люди предпочли разумную жизнь счастья героическому идеалу, который с течением времени воспринимался все менее и менее приемлемым в буржуазном обществе. Однако, как нам напоминает Жан Старобинский, миф был больше чем декоративным или сатирическим языком, который использовался для отдаления от героического социального идеала. Для великих трагедий и опер XVII и XVIII веков мифы предоставляли материал, на основании которого можно было исследовать человеческие страсти37.
По этой причине вопрос, верили ли люди в эти древние нарративы, или, как предполагает Фонтенель, воображение сделало их не-истины привлекательными, не вполне касается сферы, в которой мифический дискурс существовал в этой культуре. Миф был не просто представлением/искажением реальности. Он был материалом, формирующим возможности и границы действия. В целом можно сказать, что миф достиг этого, удовлетворяя желание людей обнаруживать реальное: желание, которое стало все сложнее удовлетворять с ростом числа эмпирических возможностей, предоставляемых модерностью.
Некоторые современные комментаторы заметили, что высказывания в духе Фонтенеля обозначили смену старой оппозиции между сакральным и профанным на оппозицию между воображением и разумом, то есть принципы, которые ознаменовали начало секулярного Просвещения38. По их мнению, это изменение необходимо рассматривать как смену религиозной гегемонии секулярной. С моей точки зрения, здесь мы сталкиваемся с чем-то более сложным.
Прежде всего, в новой оппозиции Разум наделяется основными функциями по защите, оценке и регуляции воображения человека, к которому и был приписан «миф». Марсель Детьен пишет об этом так: «Процедуры исключения множатся в дискурсе науки о мифах, языке сплетен, который осуждает любое проявление инаковости. Мифология находится на стороне примитивных, низших рас, народов природы, языка начала, детства, первобытности, сумасшествия – всегда в качестве исключаемой фигуры представляет иное»39. Однако священное не было наделено такими функциями в прошлом, и не существовало единой сферы социальной жизни и мысли, которую организовывала бы концепция «сакрального». Вместо этого были хаотичные места, объекты, время, каждое со своими качествами и требованиями определенного поведения и слов по отношению к нему. На этом необходимо остановиться подробнее, поэтому я обращусь к анализу оппозиции сакральное/профанное, а затем вернусь к теме мифа.
Отступление о «сакральном» и «профанном»
В латинском языке времен Римской республики слово sacer относилось к любому объекту в собственности божества, который был «изъят из сферы профанного действием Государства и переведен в сферу сакрального»40. Однако даже тогда существовало занимательное исключение: термин homo sacer использовался в отношении любого, кто в результате проклятия (sacer esto) становился вне закона и которого можно было безнаказанно убить. В то время, пока священность отданной богу собственности делала ее неприкосновенной, священность homo sacer неминуемо делала его жертвой насилия. Это противоречие классицисты (с благодарностью за помощь коллегам-антропологам) объясняют через «табу», которое представляется как примитивное понятие, смешивающее идеи сакрального с идеями нечистого, идеи, которые «духовная» религия позже должна была различить и использовать более последовательно41. Концепция, что «табу» является первичным источником «сакрального», имеет долгую историю в антропологии, где ее позаимствовали не только антиковедение для понимания античной религии, но и христианская теология для реконструкции «истинной» религии. Антропологическая часть этой истории критически рассмотрена в работе Франца Штайнера, где он показывает, что понятие «табу» выстраивается на весьма шатких этнографических и лингвистических основаниях42.
Согласно Оксфордскому словарю английского языка, «священное» в английском языке раннего Нового времени относилось к индивидуальным вещам, людям и событиям, которые были отделены и получили право на почитание. При этом, если мы рассмотрим примеры из словаря, в строке «Как могла священный, заповедный плод сорвать кощунственно?»43, посвящении «священной памяти Самюэля Батлера» (sacred to the memory of Samuel Butler), формальном обращении «ваше святейшество» (your sacred majesty), фразе «концерт духовной музыки» (sacred concert) практически невозможно сказать, что отделение или почитание во всех этих случаях направлено на один и тот же акт. Субъект, по отношению к которому эти вещи, события или люди заявляются как священные, не находится в одном и том же отношении к ним. Именно в конце XIX века антропологическая и теологическая мысль свела множество пересекающихся контекстов использования понятия, укорененного в меняющихся и неоднородных формах жизни, в единую неизменную сущность и заявила, что она является универсальным объектом человеческого опыта, называемым «религиозное»44. Представляемой как универсальной оппозиции «сакрального» и «профанного» не существует в книгах, написанных до начала Нового времени. В средневековой теологии превалирующие антиномии заключались в «божественном» (divine) и дьявольском (satanic) (оба представляют трансцендентные силы) или духовном (spiritual) и мирском (temporal) (оба представляют земные институты), а не в сверхъестественном священном и естественном профанном.
Во Франции, например, слово sacré не использовалось в языке простых христиан в Средние века и раннее Новое время45. Оно использовалось только в среде образованных людей и могло отсылать к определенным вещам (сосудам), институтам (Коллегии кардиналов) или людям (телу короля), однако никакого уникального опыта в отношении объектов, к которым это понятие отсылало, не предполагалось, а сами вещи не отделялись одинаковым способом. Sainteté – это слово и концепт, который был значим для народной религии всего исторического периода – как относительно практической, так и эмоциональной стороны – и который характеризует способность делать добро, присущую некоторым людям и их реликвиям, близко связанным с простым народом и их обыденным миром. Слово sacré становится актуальным во время революции и приобретает пугающие отзвуки секулярной власти. Так, в преамбуле «Декларации прав человека» (1789) говорится о «естественных, неотчуждаемых и священных (sacrés) правах человека». Право собственности также называется sacré в статье 17. Фраза «священная любовь к отечеству» (L’amour sacré de la patrie) имела всеобщее распространение в XIX веке46. Очевидно, личный опыт, на который указывают приведенные значения, и поведение, которое ожидается от гражданина, заявляющего, что он имеет этот опыт, являются совершенно отличными от того, что обозначал термин «священное» в Средние века. Теперь он стал частью дискурса, неотделимого от функций и стремлений модерного секулярного государства, в котором сакрализация отдельных граждан и коллективов выражает форму ассимилированной власти47.
Французский социолог Франсуа Исамбер детально описал, как дюркгеймианская школа, основываясь на идее Робертсона Смита, что «табу» является типичной формой примитивной религии, пришла к концепции «священного» как всеобщей сущности48. Священное стало отсылкой ко всему, что вызывало интерес общества – коллективным состояниям, традициям, эмоциям, – которые последнее развивало как представления, было даже заявлено, что священное – это источник развития когнитивных категорий49. Священное, первоначально сформированное антропологами и затем захваченное теологами, стало скрытым в вещах универсальным качеством и объективным пределом мирских действий. Священное сразу же стало трансцендентной силой, навязывающей себя субъекту, и пространством, которое ни при каких обстоятельствах и под страхом катастрофических последствий не могло быть нарушено, то есть подвергнуто профанации. Коротко говоря, «священное» было сформировано как таинственная, мистическая сущность50, фокус моральной и административной дисциплин.
Именно в контексте новой рождающейся дисциплины – сравнительного религиоведения – антропология развивала понятие трансцендентного священного. Интересную версию этого процесса можно найти в работе Р. Маретта51, который предложил считать, что ритуал обладает функцией регулирования эмоций, особенно в критических для жизни ситуациях. Из этой идеи выросло его хорошо известное антропологическое определение таинств: «В антропологических целях определим таинство как любой обряд, конкретной целью которого является освящение или наделение священным статусом. Или более однозначно: подразумевается любой обряд, который посредством утверждения или положительного благословения наделяет природную функцию собственной сверхъестественной властью»52.
Такое понятие о таинствах как об институте, призванном облечь жизненные кризисы («брак», «смерть» и т. д.) «сверхъестественной властью», которая, как пишет Маретт, фактически являясь «религиозной психотерапией», в целом может применяться для сравнения. Однако в обозначенной сфере оно совершенно контрастирует со средневековым христианским пониманием таинства. Теолог XII века Гуго Сен-Викторский, отвечая на вопрос, что такое таинство, первоначально предлагает обратиться к общепринятому определению: «Таинство – это знак священной вещи», но затем замечает, что это определение не хорошо, поскольку многие статуи и картины, а также слова Священного Писания являются по-своему знаками священного, не будучи священными. Далее он предлагает более качественное определение: «Таинство – это телесный или материальный элемент [звуки, жесты, облачения, инструменты], представленный нашим чувствам вовне, обозначающий по схожести, символизирующий через институцию и содержащий по освящению некоторую незримую и духовную благодать». Например, вода крещения обозначает очищение души от грехов по аналогии с очищением тела от грязи, имеет символическое значение для верующего, отсылая к жизни Христа, открывающей новые вехи, и передает – посредством слов и действий проводящего обряд крещения священника – духовную благодать. Все три функции не являются самоочевидными, но они должны быть установлены и истолкованы обладающими властью. (Христиане Средних веков понимали смысл используемых в мессе сложных аллегорий из авторизованных комментариев.) Таким образом, согласно Гуго, таинство с момента его освященного авторитетом возникновения представляло сложную сеть означаемых и означающих, которая, подобно иконе, работает как памятный знак. Икона одновременно является и самой собой, и представлением того, что уже присутствует в должным образом дисциплинированном сознании участников, она отсылает и назад, к воспоминаниям, и вперед, к ожиданиям христиан53. Не имеет смысла высказывание с отсылкой на мнение Гуго, что в таинствах «естественные» функции наделены «сверхъестественной» силой (то есть трансцендентным даром); еще меньше смысла в утверждении, что таинства – это вид психотерапии, помогающей людям в периоды кризисов (полезный миф). Гуго настаивает, что в жизни существуют ситуации, когда таинства не считаются таковыми: «Именно поэтому безбожники видят только видимые вещи и гнушаются почитать таинства спасения, видя только низкое без невидимых образов, они не могут распознать невидимой добродетели внутри и плодов послушания»54. Авторитет таинств уже сам по себе является соприкосновением христианина с тем, что он понимает как воплощение божественной благодати55. Благодать воспринимается как состояние неосознанности в отношениях с богом, а не как плата за ритуальное усердие.
Что поспособствовало эссенциализации «священного» как внешней трансцендентной силы? Предварительно я бы сказал, что новые теоретические построения были связаны с фактами столкновений европейского и неевропейского миров, что в просвещенном времени и пространстве было засвидетельствовано созданием «религии» и «природы» как универсальных категорий. Начиная с раннего Нового времени, в течение периода, который затем ретроспективно стал называться эпохой Просвещения, и весь долгий XIX век как в самой христианской Европе, так и в ее владениях по всему миру вещи, слова и деятельность, отличающие и ставшие специфическими для «естественных народов», рассматривались европейцами как «фетиш» и «табу»56. Что называлось в XVI и XVII веках в теологических терминах «идолопоклонством» и «культом сатаны»57 (служением ложным богам), в рамках обращенной к эволюционизму мысли XVII–XVIII веков стало секулярной концепцией «суеверия» (бессмысленного выживания)58, однако продолжило восприниматься как объекты и отношения, ошибочно наделенные статусом реальных и имеющих действенную силу. Перед тем как освободить людей от своего влияния, они должны были стать категориями иллюзии и угнетения, как это зафиксировал Фрейд, используя категории «фетиш» и «табу» для определения симптомов примитивного вытеснения в психопатологии современного человека.
Можно, таким образом, предположить, что «профанация» – это вид насильственной эмансипации от ошибок и деспотизма. Разум требует, чтобы ложные вещи были запрещены и уничтожены или же перефразированы и перемещены как объекты, которые нужно рассмотреть, увидеть или потрогать правильно сформированными органами чувств. Успешно срывая маски с мнимой власти (профанируя ее), универсальный разум демонстрирует собственный легитимный статус. При наделении властью новых вещей этот статус только укрепляется. Таким образом, «священное право собственности» стало универсальным после того, как церковная собственность и общинная земля потеряли особый статус. «Неприкосновенность совести» стала означать универсальный принцип в противовес церковной власти и казуистически получившим одобрение правилам. В тот самый момент, когда они могли стать секулярными, эти притязания стали восприниматься как трансцендентные и породили правовые и моральные дисциплины для защиты себя (с применением жестокости там, где это необходимо) в качестве универсальных понятий59. Хотя и может казаться, что профанация смещает фокус с трансцендентального на повседневное, на самом деле она реконструирует барьеры между иллюзорным и реальным.
Развивая идеи Дюркгейма, Ричард Камсток выразил идею, что «священное как тип поведения – это не просто ряд внешних признаков, но и набор правил: предписаний, разного рода запретов, которые определяют форму поведения и решают вопрос, попадает ли ситуация под действие рассматриваемой категории»60. Это замечание полезно, хотя, мне кажется, также необходимо принимать во внимание следующие три момента: 1) любое управляемое правилами поведение несет в себе социальные санкции, однако 2) жесткость этих санкций варьируется в соответствии с той опасностью, которую нарушение правила представляет для определенного общественного порядка, при этом 3) оценка опасности не остается одинаковой и исторически изменяется. Это должно переключить нашу поглощенность определениями «священного» как объекта опыта на более широкие вопросы, каким образом формируется гетерогенный ландшафт власти (морали, политики, экономики), какие дисциплины (индивидуальные и коллективные) для этого необходимы. Сказанное не означает, что «священное» нужно рассматривать как маску власти, однако мы должны обратить внимание на то, что именно делает определенные практики концептуально возможными, желательными и обязательными, включая повседневные практики, которые упорядочивают опыт субъекта61. Я заявляю, что такой подход поможет нам лучше понять, как священное (и, следовательно, профанное) может стать объектом не только религиозной мысли, но и секулярного подхода.



