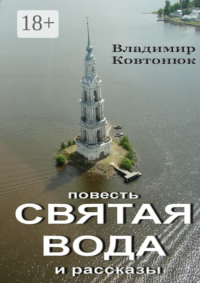Полная версия
Разъезд Тюра-Там, или Испытания «Сатаны»
Топливные магистрали двигателя через сильфоны соединяются со стендовыми трубопроводами. Мотористы через технологические трубки подключают к многочисленным штуцерам двигателя датчики для измерения параметров, проверяют герметичность стыков.
Особого контроля требует установка трубок к датчикам на камере сгорания. Дело в том, что температура газов в камере достигает 3500 градусов по Цельсию, и понятно, что даже кратковременный проток по измерительной трубке газов с такой высокой температурой приведет к прогоранию штуцера на камере сгорания и взрыву двигателя..
Чтобы этого не случилось, мотористы в соответствии со стендовой инструкцией перед установкой измерительных трубок на двигатель должны заполнить трубки спиртом.
Но это – если бы работали немецкие мотористы. Те всё сделали бы точно по инструкции на проведение огневых стендовых испытаний.
Наши же доморощенные умельцы построили график замерзания спиртоводной смеси взависимости от температуры окружающей среды и успешно им пользуются, не давая напрасно пропадать такой стратегически важной жидкости, как спирт.
Мотористы, работающие на стенде, в основном бывшие матросы – подводники Северного флота, то есть те люди, у которых пофигизм уничтожен на корню трудной долей подводника и принципом «все за одного, один за всех». Дисциплинированность и чувство ответственности у таких ребят въелись в кровь.
Вот и ведёт пальцем по графику, в который раз, чтоб не ошибиться, Валерий Вахтин, вот и доливает он бережно, по капле, бесцветную, заменяющую валюту, жидкость со знакомым, веселящим запахом из одной мензурки в другую. И уж тут можно быть уверенным, все будет сделано точно по графику, лишь бы по непредвиденной причине не перенесли испытание на вечер, когда мороз станет забирать всё круче и круче.
Огневые испытания в те времена проводились сразу же, по готовности двигателя и стенда. Единственным аргументом в пользу задержки пуска было направление ветра в сторону Москвы. В этом случае, даже если двигатель стоял на стенде, с подключением трубок к датчикам можно было подождать.
Если направление ветра не менялось в течение суток, то испытание все равно проводили. Тогда грохот работающего двигателя был слышен даже на Соколе. Струя раскалённых газов, под наклоном вылетающая из сопел двигателя, ударялась в железобетонный отражатель на дне оврага, рядом с Химкой, и взлетала ввысь уже невидимая глазом, может быть, на километр.
И только через несколько минут на близлежащий прекрасный дубовый лес с шуршанием начинал осыпаться дождь черных крупинок прореагировавших компонентов.
Пуск двигателя, наблюдение за его работой и останов осуществляются из пультовой – бетонного сооружения со стенами такой прочности, что не под силу никакому взрыву.
Пожалуй, только взрыв атомной бомбы только мог бы перевернуть его, да и то, если бы эпицентр располагался в непосредственной близости.
Пусками руководил Марк Маркович Рудный. На этом человеке, ставшем начальником стенда всего через пару лет после окончания института, лежала вся ответственность за испытание.
Техническим заданием на огневое стендовое испытание задавалось время работы двигателя и диапазоны изменения давления в камере сгорания. Как правило, время работы устанавливалось от ста до двухсот секунд, это в том случае, если двигатель работал нормально. Если же в процессе работы появлялась «высокая частота», Рудный должен интуитивно, в доли секунды, по одному ему ведомым признакам, нажатием кнопки попытаться выключить двигатель до взрыва и таким образом спасти его.
Выключать же двигатель беспричинно раньше заданного времени недопустимо, в этом случае задание на испытание считалось невыполненным.
На каждом испытании Марк Рудный, находясь в состоянии невероятного напряжения, наблюдал через бронестекло за работой двигателя. И уж если он нажал аварийную кнопку, то можно быть уверенным -необходимость выключения двигателя обязательно подтверждалась впоследствии записью параметров на осциллограммах.*
По мере достижения успехов в доводке двигателей, их производство и испытания перекочёвывали в Днепропетровск на Южный машиностроительный завод.
И тут ЖРД вновь показали свой неуёмный характер: двигатели, прекрасно, без замечаний, работавшие в Химках, на стендах в Днепропетровске вновь начинали взрываться.
Те же материалы, такие же высокоточные детали, точно такие же двигатели – в Химках работали, а в Днепропетровске взрывались.
Южмаш делал двигатель за двигателем, специалисты из Химок, находясь в командировках безвылазно, месяцами работали от зари до зари, на стенде перебывало руководство самого высокого ранга, а двигатели всё равно взрывались.
Наконец, в Министерстве общего машиностроения, образованном вновь после снятия Хрущева, не выдержали, и на Южмаш прилетел Сергей Александрович Афанасьев, человек могучего телосложения и двухметрового роста, с искривлённым, и, может быть, перебитым носом, отчего его лицо выглядело свирепым и бескомпромиссным. Он собрал в кабинете Главного конструктора ракеты Михаила Кузьмича Янгеля совещание. На совещание был вызван и Главный конструктор двигателей академик Валентин Петрович Глушко.
Афанасьев незадолго до командировки в Днепропетровск прошёл процедуру утверждения в должности министра на Политбюро ЦК КПСС:
– Если допустишь отставание от Америки, я тебе голову оторву! – по-товарищески, как коммунист коммунисту, пообещал Леонид Ильич Брежнев на заседании Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, утверждавшего Афанасьева на должность Министра общего машиностроения. – Или поставлю к стенке!
Фраза, произнесённая Генеральным секретарём, отнюдь не была шуткой, упакованной в устрашающую форму. Несколько лет тому назад Афанасьев уже имел возможность прочувствовать на собственной шкуре, как выглядит «отрывание головы» на практике.
Дело в том, что в стране существовал порядок, соблюдаемый всеми неукоснительно, в соответствии с которым кандидаты на должности начальников отделов и цехов обязательно утверждались парткомами предприятий; назначить подходящего человека на должность главного специалиста директор завода имел право только заручившись согласием министерства, а получив согласие всё равно кандидатуру утверждал партком предприятия. Чем выше была должность, на которую назначался человек, тем более высокой партийной инстанцией утверждалась его кандидатура.
Как видим, кандидата на должность министра утверждало Политбюро.
Непременное условие назначения на руководящую должность – кандидат должен быть членом Коммунистической партии. Если же специалист в силу убеждения или иных причин был беспартийным, то будь он хоть «семи пядей во лбу», стать руководителем ему было не суждено. Он так и «пахал» всю жизнь рядовым сотрудником.
Процессом утверждения в должности, отработанным в течение многих лет, партия демонстрировала своё доверие тому или иному человеку, поручала ему надлежащим образом исполнять производственные обязанности, осуществляла и укрепляла свою руководящую роль в советском обществе.
Надо сказать, эта отработанная система подбора кадров, несмотря уравниловку по заработной плате и полое отсутствие материальной заинтересованности работников в результатах своего труда, всё же давала положительные результаты. На ведущих должностях оказывались целеустремлённые и высококлассные специалисты.
В давнее довоенное время ещё «докипали» остатки революционных процессов, понятия «диктатура пролетариата» и «военный коммунизм» постоянно освежались многочисленными судебными процессами над врагами народа, саботажниками и шпионами, которыми объявлялись зачастую совершенно невиновные люди, а многие из тех, кто занимал руководящие должности, почитали за честь заявлять с гордостью:
– Мы академиев не кончали!
Иными словами, гордились тем, что добились высокого положения, несмотря на отсутствие образования.
Безусловно, эти люди были умными и талантливыми самородками. Одних революция заставила в мальчишеском возрасте командовать полками с тем, чтобы в уже юном возрасте сделать их комбригами. Других, обладавших ораторским талантом, она научила играть с трибун на чувствах народных масс, завлекая их в сторонники коммунистической идеи, и некоторые из этих товарищей, так удачно заманивших народ в царство свободы, равенства и братства, позже стали крупными государственными руководителями. Многих, может быть, самых талантливых агитаторов, расстреляли, чтобы не составляли конкуренции тем, кто добрался до самых вершин верховной власти.
Но время шло, ожидание грядущих потрясений буквально витало в воздухе страны, разорённой революцией и гражданской войной. Спешно строились многочисленные заводы, фабрики, металлургические комбинаты, электростанции, железные дороги.
Стало очевидным, что без высокообразованных специалистов стране не выжить.
Для людей, взлетевших на высокие должности на гребне революционной волны, чтобы они не выглядели смешными в глазах нового образованного поколения, неизбежно идущего им на смену, спешно создавали всевозможные «высшие» ускоренные курсы. А для того, чтобы быстрее вручить таким руководителям дипломы о высшем образовании, с ними индивидуально работали специально назначенные преподаватели.
Сергей Александрович Афанасьев принадлежал к послереволюционному поколению молодых людей, познавшему в полной мере голод, лишения и тяготы, присущие жизни того времени, но движимому невероятной тягой к знаниям. Он окончил с отличием Московское Высшее техническое училище им. Баумана и попал по распределению на артиллерийский завод в Подлипках.
В Великую Отечественную войну завод эвакуировали в город Молотов, которому позже вернули историческое название Пермь, и Афанасьев проработал всю войну вначале мастером на сталеплавильных печах, а позже, по мере приобретения опыта, технологом, конструктором, начальником цеха и заместителем главного механика завода. Там, на Мотовилихе, и впитал в себя Афанасьев все качества, присущие советскому руководителю – производственный и жизненный опыт, целеустремлённость при решении сложных задач, чувство ответственности перед заводом и страной, некоторую грубоватость в отношениях с подчинёнными и ещё многое из того, что выделяло его из многих тысяч молодых специалистов.
Всё-таки ещё раз надо воздать должное тому, как находящаяся у власти Коммунистическая партия умела находить и отбирать кадры.
Командно-административная система работала в условиях постоянного дефицита времени, при низких, жёстко установленных, расценках, незаинтересованности работников в достижении максимальной производительности труда, и поэтому основывалась на страхе.
– Когда дашь? – к этому вопросу в адрес исполнителя сводилось, в конечном счёте, всё искусство управления. Этот вопрос задавался министром директору завода, а тот переадресовывал его начальникам своих цехов и отделов.
Исполнителями назывались сроки, а руководитель, опираясь на свои знания, жизненный и производственный опыт, оценивал реальность выполнения работы в эти сроки и утверждал их. Сам он при этом находился, что называется, между молотом и наковальней – с одной стороны, объективно существующие на предприятии возможности, а с другой стороны – требования министра, с которого, в свою очередь, жёстко спрашивают руководители страны.
После войны Афанасьев приказом Наркома вооружения был переведен в Москву в Главное техническое управление Наркомата, переименованного позже в Министерство вооружений.
Там-то министр Дмитрий Фёдорович Устинов и назначил молодого заместителя начальника главного технического управления ответственным за запуск в серийное производство ракеты на заводе в Днепропетровске.
Двигатель ракеты, близкий конструктивно мотору ракеты ФАУ-2, как на стенде в Химках, так и на лётных испытаниях ракеты, работал без замечаний, но взрывался на контрольно-технологических испытаниях в Днепропетровске.
По программе серийного производства Днепропетровский завод сделал даже несколько ракет, но оснастить их моторами не было никакой возможности. Начать серийное производство изделий, как в целях секретности придумали называть ракеты, никак не удавалось. А слово «изделие» так прижилось в лексиконе, что очень скоро стало синонимом слова «ракета», полностью сводя на нет все усилия по засекречиванию.
В Днепропетровске собирали двигатели даже из деталей и узлов, сделанных в Химках. Но моторы упорно не желали работать.
Афанасьев сидел в своём маленьком кабинете в глубоком раздумье над тем, что ещё следует предпринять для доводки двигателя. Он только что вернулся из Химок с бывшего авиационного завода N84, который в июле 1946 года был передан Валентину Петровичу Глушко под опытное производство ЖРД. Напряжение было столь велико, что мысли постоянно переключались с чисто технических проблем к возникшему некоторое время назад и постоянно нараставшему ощущению опасности.
Афанасьев вдруг непроизвольно вспомнил, что перед принятием этого решения, Сталина спросили:
– Будем возвращать в Химки авиазавод из Ташкента?
– Нет, – ответил Иосиф Виссарионович. – Пусть остаётся в Ташкенте, поднимает культуру местного населения.
В Химках Афанасьев встретился с главным конструктором Валентином Петровичем Глушко:
– Валентин Петрович, что будем делать с двигателем? В Днепропетровске двигатель не работает.
Глушко по возрасту был старше Афанасьева, как один из основоположников ракетного двигателестроения в Советском Союзе пользовался непререкаемым авторитетом и уважением конструкторов-ракетчиков. Поэтому Афанасьев вынужден был вести беседу с ним на почтительных тонах, не прибегая к резким выражениям и оборотам речи, которым он быстро научился, поработав в министерстве, и которые он допускал в общении со многими директорами заводов.
Афанасьев знал, что перед войной Глушко арестовали, как врага народа. Но не расстреляли и не сослали на Колыму копать золото, как это проделали с тысячами людей. В НКВД уже придумали, как рационально использовать интеллект таких заключённых, а не пускать их в распыл.
Были созданы «шарашки», и после ареста Глушко работал в той из них, что называлась «Конструкторская группа четвёртого Спецотдела НКВД при Тушинском авиамоторостроительном заводе». К нему приставили часового с винтовкой. По удивительному единодушию работники «шарашек», даже если эти «шарашки» были в самых удалённых друг от друга местах страны и не имели никакой связи между собой, прозвали такого часового «свечкой».
В 1940 году Валентина Петровича перевели в Казань на должность главного конструктора четвёртого Спецотдела НКВД. В августе сорок четвёртого его освободили, переодели в форму полковника и направили в Германию, где к тому времени наступающие части Красной Армии захватили образцы немецкой ракетной техники.
Долго, можно сказать, всю оставшуюся жизнь, инженеры, работавшие с Глушко в послевоенной Германии, вспоминали, какое потрясающее впечатление произвели на них успехи немцев в создании ФАУ-2 и то, как далеко ушли немецкие инженеры в этих разработках.
Несмотря на очевидные успехи в проектировании отечественных ракетных двигателей на базе немецких разработок, Глушко до сих пор не был реабилитирован. Это могло означать только одно – он по-прежнему находится под пристальным наблюдением всесильного ведомства Лаврентия Павловича Берии. А раз так, то Валентин Петрович прекрасно понимает, что может последовать, если затянется запуск двигателя в серию. Поэтому и «агитировать» его не было никакой необходимости.
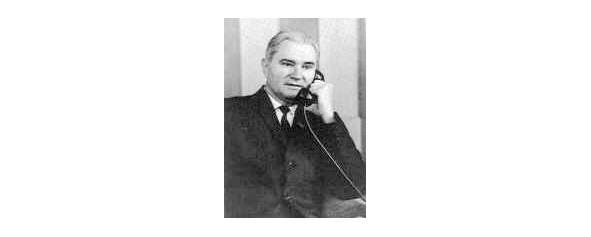
Валентин Петрович Глушко
– А что с ним делать? Двигатель доведен и прекрасно работает. И у нас на стенде, и на ракете – спокойно ответил Глушко.
– Оттого, что двигатель взрывается на контрольных испытаниях, мы никак не можем запустить его в серию, – возразил Афанасьев. – Может быть, немцы что-нибудь порекомендуют? Атмосфера накаляется. И если мы не найдём причин в ближайшее время, за нами снова могут прийти ночью. И это может случиться очень скоро.
Глушко понимал, чего опасается Афанасьев.
– Немцы тоже в недоумении разводят руками. Говорят, что они сделали мотор, и не понимают, почему он там взрывается, – ответил Глушко.
– Но вы же не можете самоотстраниться от решения проблемы, мотор-то ваш.
Глушко, помолчав, предложил: – Хорошо, давайте пошлём на серийный завод бригаду наших специалистов. Пусть поищут причину совместно с заводскими товарищами.
«Завтра они сколотят бригаду, выпишут командировочные удостоверения, в лучшем случае, бригада уедет послезавтра, – думал Афанасьев. – А после этого, ещё через день, или в лучшем случае, только послезавтра ближе к вечеру, они приступят к работе.
А время не ждёт. Дмитрий Фёдорович вызывает на доклад по этому вопросу каждый день. И ежедневно он докладывает об этом наверх. У самого «хозяина» на контроле сроки запуска ракеты в серию. A Сталин не терпит пустых обещаний. Того и гляди нагрянут ребята от Лаврентия Павловича, – Афанасьев поднял глаза на висевший на стене портрет Берии. Бывший Нарком внутренних дел был изображён в форме маршала. – Подбородок плоский, как у ящерицы или змеи, – мелькнуло в голове Афанасьева. – И пенсне. Ни дать, ни взять – рафинированный интеллигент. Все изуверы почему-то обожают очки. Удивительно, но и Гиммлер носил очки или пенсне. Родство душ. И хотя он теперь он член Политбюро, который курирует все отрасли оборонной промышленности, его влияние на органы чрезвычайно велико. Один его звонок бывшим соратникам, и они будут здесь!»
Афанасьев тут же, словно испугавшись, что Берия пристальным взглядом с портрета прочтёт крамолу, поспешил прогнать эти мысли.
Но помимо его воли мозг продолжал рисовать одну мрачную картину за другой:
– «Пришьют» саботаж, поставят к стенке или на край ямы и поднимут стрельбу. А там, говорят, такие специалисты, что на спор между собой одним выстрелом из нагана не только убивают человека, но и укладывают тело в нужное положение. Нет, не дай Бог, – усилием воли Афанасьев пытался заставить себя перестать думать в этом направлении. – Я же знаю, что мысль материальна».
Но воображение никак не удавалось укротить:
«И тогда за дверью послышится необычный шум.
– Секретарша кого-то не пускает, – решит Афанасьев. – Но уж совсем бесцеремонно кто-то себя ведёт.
Дверь в кабинет распахнулась, резко усилив голос секретарши:
– К нему нельзя! Он очень занят!
– Ничего, нам можно, – уверенно произнёс первый вошедший в кабинет.
– Нам можно везде и в любое время! – поддержал его второй. Он даже не стал прикрывать за собою дверь.
– Афанасьев? Сергей Александрович? Мы за Вами! Вася, – распорядился тот, кто вошёл первым, обращаясь к своему спутнику. – Прикрой дверь и проверь всё, что есть в столе, в сейфе, изыми записные книжки, тетради и листки с пометками и записями. Не забудь забрать настольный календарь. Там тоже может быть кое-что нужное нам.
Потом, словно вспомнив, зачем пришёл, он вновь спросил:
– Так вы, что ли Афанасьев? – И, увидев утвердительный кивок, перешёл на «ты»: – Тебе придётся проехать с нами. Тебя вызывает сам Лаврентий Павлович!
«Ничего не поделаешь, мысль действительно материальна» – промелькнёт в голове Афанасьева.
Афанасьев увидит секретаршу, застывшую с выражением ужаса на лице, и неожиданно для самого себя скажет ей:
– До свидания!
На что негромко спокойным голосом, но так твёрдо, что не допускалось никаких возражений, тот, кто первым вошёл в кабинет, скомандует:
– А ну-ка руки за спину! Прекратить разговоры! Предупреждаю, чтобы без провокаций! Шаг влево, шаг вправо, а также прыжок вверх считаю попытками побега! Буду стрелять без предупреждения.
И с оттенком искреннего удивления покачает головой:
– Надо же! До свидания! Неужели думаешь вернуться сюда? Ха-ха-ха, – усмехнётся чекист, – таким огромным вымахал, а до сих пор не знает, что от нас не возвращаются. Учат вашего брата, учат, да так и не научили ничему.
Афанасьев, пригнув голову, пойдёт по коридору, и встречные сослуживцы, молча провожая его взглядами, как можно плотнее будут вжиматься спинами в стену.
– Ты не знаешь, Серёга, как мы справимся с таким амбалом? – спросит тот, который шёл позади.
«Ага, значит, один из них Василий, а тот, что впереди, мой тёзка», – понял Афанасьев.
– А чего такого особенного? – откликнется Серёга лениво. На его правом боку, прижимаясь к ягодице, слегка оттягивая ремень, висит кобура из яркой жёлто-оранжевой кожи, заполненная наганом. От рукоятки нагана свисает узкий страховочный ремешок, который огибая кобуру снизу, крепится к поясному ремню чекиста.
– Как так чего? В нём же метра два росту, не меньше, – продолжит Вася, поглядывая на Афанасьева. – Да и силищи в ём, видать, не меряно! Я к тому, что придётся повозиться.
Вася привычно остановит взгляд на той точке затылка арестованного, в которую обычно вкатывает пулю:
«Если не промахнуться, то кровь почти не брызнет. Хоть в парадной форме исполняй. Правда, у Серёги это лучше получается. Но это пока. Пока я руку не набил», – подумает Вася.
– Перед девятью граммами все равны. И крепкие, и плюгавые, – философски заметит Серёга и, пнув сапогом маленький камешек, лежавший на тротуаре, потянет за ручку, распахивая правую заднюю дверцу «Победы».
– Слушай, Серёга, по-моему, я его когда-то встречал, – неуверенно скажет Вася после того, как разместится на заднем сидении «Победы» рядом с Афанасьевым, перекрыв собою выход через правую дверь. Выход через левую дверь заблокирован тем, что с её внутренней стороны заблаговременно сняли все ручки. Даже стекло невозможно опустить.
– Да ну! – не поверил Серёга. – Где ты его мог встречать? Он птица вон какого высокого полёта! Почти что замминистра! А ты кто? Считай, что хрен собачий! Всего лишь рядовой исполнитель.
– Ну и что? – обидится Василий. – Перед тем, как отправиться на тот свет, мне сапоги лизали и не такие шишки! Академики, мать ихнюю, глядя в бездонную дырку нагана, обоссывались от страха, как дети малые!
Афанасьева, молча слушавшего развязную профессиональную болтовню чекистов, от отвращения к обсуждаемой теме невольно начнёт бить мелкая дрожь, и он брезгливо отодвинется к двери так, чтобы бедро его правой ноги не соприкасалось с ногой Васи.
– Во! – воскликнул Вася. – И этот уже готов! Быстро же ты пересрал, – удивится Вася. – Мы ещё не начинали с тобой беседовать по настоящему, а ты уже и готов! А-а-а, вспомнил! А ты, случаем, не клинский парень? Не там ли мы встречались? – и толкнёт Афанасьева локтем в бок.
Афанасьеву не хочется разговаривать с хвастливым Васей, и он только согласно кивнёт.
– Да ты, оказывается, мой земеля! Я тоже, считай, клинский. Только из деревни Белавино, рядом с Клином. Недалеко от аэродрома. Прямо над моей хатой самолёты на посадку идут. На том аэродроме даже сын самого Сталина летал! – скажет Вася таким тоном, будто в том, что на Клинском аэродроме летал Василий Сталин, есть и его заслуга. – А ты в какой школе учился?
Афанасьев назвал школу.
– Так и я в ней учился, – искренне, даже как-то по-детски, обрадуется Вася. – Но я, наверное, после тебя учился. Ты в каком году окончил? Я тогда в третьем классе учился, – скажет задумчиво Вася после того, как Афанасьев назвал год, когда окончил школу. – Вот тогда я тебя и встречал. Только помню смутно. Ты, видать, хорошо учился, раз достиг такой большой должности в твои-то годы. Сколько тебе сейчас? Лет тридцать?
Афанасьев, соглашаясь, кивнёт.
– А я хреново учился. Потому, что жрать всё время хотелось. Отец с матерью в колхозе, сам понимаешь, шиши зарабатывали. Не до учёбы было. Да и то, что особо надрываться учёбой совсем ни к чему, я сразу понял. Не то, что ты. Я правильный путь выбрал. Пошёл на службу в органы, таких, как ты, отлавливать. И даже более великих. Вредителей. И в моих руках ваши судьбы. Хоть вы все и учёные, – убеждённо скажет Вася.
И Афанасьеву покажется, что Вася гордится своей службой.
Река автомобилей поднималась на вершину холма, там, на площади Дзержинского, раздваивалась. Одна часть потока уходила резко вправо, другая, включавшая в себя «Победу» с Афанасьевым, шла на разворот, а потом вновь раздваивалась. И теперь «Победа» держалась в той части потока, который устремлялся в сторону улицы Кузнецкий мост. Конвоиры теперь безмолвно и неподвижно сидели на своих местах, словно внутренне готовились к чему-то очень важному.
Здесь, свернув за угол самого известного в стране здания, машина доедет до ворот и едва остановится перед ними, как ворота медленно раздвинутся, словно подчёркивая, что в этом ведомстве никуда не спешат, и взору откроется замкнутый внутренний двор.
– Вот и всё! – решит Афанасьев и вдруг почувствует себя виноватым. – Но разве я смог бы обвинить кого-нибудь с Днепропетровского завода в том, что движок не желает работать у них на стенде? Нет, не смог бы, – ответит он сам себе. – Требовать иногда даже невозможного, угрожать, наказывать, лишать премий – это всё я допускал. Но обвинить кого-либо – никогда! И всё же есть моя недоработка, раз мотор взрывается. Значит, я не все возможности использовал, не все умственные ресурсы специалистов подключил к разгадке причин, не всё сумел предусмотреть, и в этом я виноват!