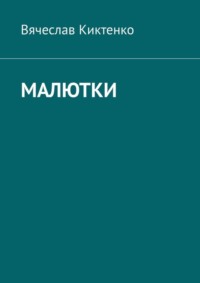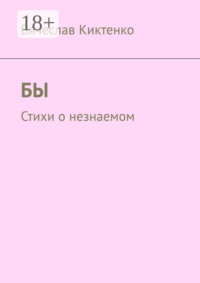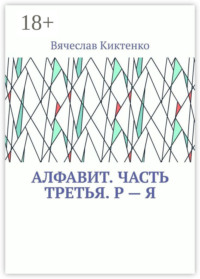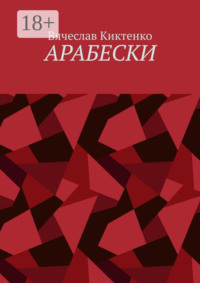Полная версия
Литературные фантазии, эссе

Литературные фантазии, эссе
Вячеслав Киктенко
© Вячеслав Киктенко, 2020
ISBN 978-5-0051-6489-6
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Вячеслав Киктенко
СОДЕРЖАНИЕ книги ЛИТЕРАТУРНЫЕ ФАНТАЗИИ. ЭССЕ:Маленький ПОЭЗОДЕТКТИВНаписана грамотка по синему бархатуРусский КОНСчастье России – дураки и дорогиКоррупции в России нетЛев Толстой… а возможен ли он?Бежин луг как судьба РоссииЛысенковщина в поэзииСтоит, значит стоитПо графоману тоскуюВенок БулгаковуРоссия – Европа. Песня как элемент геополитикиРога врага и «шорох листьев». О духовном состоянии времениДополнение:Записки старой алмаатинкиМаленький ПОЭЗОДЕТЕКТИВ…и всё-таки по-собачьи они с людьми изъяснялись – как в стихах, так и в прозе —наши любимые декаденты, наши безумно талантливые пифии, герои «Серебряного века». Словно бы только (или в основном) для «своей стаи», которая уж конечно понимала всё, все детали и намёки, вещали они и пророчествовали. – Да, стая мгновенно понимает любые гримасы, условные знаки, звуки, телодвижения не только вожака, но и каждого члена своей стаи, так сказать – «посвящённого». А как же быть с «непосвящёнными»? Вот тут-то и понимаешь, почему самые великие писатели и поэты отнесены не к «Серебряному», а к «Золотому веку» нашей литературы. Классики 19 века додумывали всё до конца, говорили открыто и ясно, не маскируя пустот, они выражали лишь самое главное. Вот и выходит, что к рядовому читателю относились они гораздо уважительнее, чем их блистательные (это безо всякой иронии) потомки.
А вот нынешним читателям просто непонятно порою: так о чём же у них шла речь тогда, столетие назад, что они имели в виду, что таилось в тех или иных строках, эпиграфах, упоминаниях имён и событий столетней давности, о чём они перешёптывались, перемигивались, перекликались между собою, эти утончённые эстеты, ворожеи, туманные тайновидцы… и почти через одного – гении, собаки этакие! Нет, тут очень часто нужен специалист. Литературовед. Исследователь эпохи. Или – «кинолог», по нашей грубой, но, надеюсь, не оскорбительной аналогии. А что ещё остаётся делать «простому читателю», как не обращаться к специалисту за тем или иным разъяснением? Уж если они так цинично относились к «простым смертным», к «непосвящённым»? Уж не цензура ли царская их так давила? Нет…
Тут вспомнилось, по ходу, что одна из философских школ древности именовалась именно так – «Киники». Или, попроще – Циники. Собаки-философы. Это не было оскорбительно, самого знаменитого из них так и звали: «Собака-Диоген». Да и сам он так себя называл. Выражался притчами, облечёнными в действия, порою не шибко приличные. Быть может, наши декаденты чем-то близки древнегреческим? Ну это в порядке бреда…
А моё предварительное «ворчание» (надеюсь, незлобное) вырвалось потому, что совсем недавно довелось провести личное, почти детективное поэтическое расследование, и вновь углубиться в эпоху «Серебряного века» из-за одной только строчки…
Мы сидели в небольшой, но приятной компании очень искушённых в литературе людей, знатоков поэзии начала 20 века. По ходу занимательной беседы я высказал предположение, что в творчестве Ахматовой очень многих мучает одна строчка, а именно:
«Что знает женщина одна о смертном часе?».
В этой строке мерцает некая неясность, смута души и сердца, ведомая только женщине – так почему-то думается. И, кажется, действительно, именно такая женщина, как Ахматова, должна была знать о смерти более, нежели другие. Да она ведь и реально умирала каждую весну от туберкулёза, от которого умерли её родные сестры. Она совершенно серьёзно предупреждала читателей о том, что в теме ранней смерти нет никакой позы, этот рок стоял над нею и сёстрами с самой юности!..
Сёстры умерли, а сама Анна Андреевна выжила – буквально чудом – и после рождения сына болезнь её совершенно оставила. И она прожила потом долгую жизнь…
Со мною согласились – да, эта строка по-особому волнует каждого, но вот впрямь ли Ахматовская это строка? Не какого ли другого поэта, скорее всего мужчины?..
Немного посомневавшись, я действительно вспомнил, что строка эта – эпиграф к одному из стихотворений. Но вот кто автор эпиграфа, над каким именно стихотворением Ахматовой он поставлен? – В теперешней беседе, без книг, мы не могли определить
этого с уверенностью. Я торжественно пообещал разобраться поподробней на досуге, а собеседники мои в ответ дружно согласились – да, чья бы это ни была строка, у всех она прочно ассоциируется именно с ахматовским творчеством, она уже намертво вписана в целостный облик поэтессы и неотделима от всего корпуса её стихотворений…
Дома я достал знаменитый «чёрный» томик Ахматовой издания 1976 года – самый полный на то время том её стихов, прозы и статей, хорошо мне знакомый, привычный томик, потому и не менял его потом на другие, более полные.
Действительно, эта строка поставлена эпиграфом над одним из стихотворений цикла «В сороковом году». Стихотворение небольшое, приведу его здесь целиком, оно, можно сказать, «вводит в тему» нашего поэзодетектива:
ТЕНЬ
Что знает женщина одна о смертном часе?
О. Мандельштам
Всегда нарядней всех, всех розовей и выше,
Зачем всплываешь ты со дна погибших лет
И память хищная передо мной колышет
Прозрачный профиль твой за стёклами карет?
Как спорили тогда – ты ангел или птица!
Соломинкой назвал тебя поэт.
Равно на всех сквозь чёрные ресницы
Дарьяльских глаз струился нежный свет.
О тень! Прости меня, но ясная погода,
Флобер, бессонница и поздняя сирень
Тебя – красавицу тринадцатого года —
И твой безоблачный и равнодушный день
Напомнили… А мне такого рода
Воспоминанья не к лицу. О тень!
А почему не к лицу? – тут же подумалось невольно – знаменитая «Соломинка», Саломея Николаевна Андроникова, о которой писали, которой бредили влюблённые поэты ахматовского же круга, ничем себя, кажется, не запятнала, так зачем такое отстранение от её образа, или – извинение?..
Это опять к вопросу о «туманах и тайнах», многие из которых, подозреваю, были непременным антуражем эпохи, без них «Серебряный век» оказался бы на поверку пустоватым. Во всяком случае, немало утратил бы в своей «значительности».
Впрочем, это уже стиль, а стиль не оспаривается, как всякий состоявшийся факт, как данность. Тем более, что сами по себе стихи хороши, спору нет. Вопрос тут несколько иного свойства – а почему у Мандельштама как-то не припоминается именно этой строки? Что-то похожее у него вроде бы есть, а вот эта строка насмерть связалась с Ахматовой, и только с ней, почему?..
Тут уже пришлось доставать томик Мандельштама. Знаменитый томик из большой серии «Библиотека поэта», стоивший сумасшедших денег в начале 70-х годов на чёрных рынках. Да разве с таким расстанешься даже теперь, когда есть собрание сочинений? С тем томиком навсегда уже связаны треволнения, за ним стоят кровные усилия, поиски… непомерные для большинства студентов тех лет деньги, в конце концов! Деньги – тоже составная часть детектива, и тут, я думаю, будет простительным ностальгическое отступление. Тем более, что не я один, оказывается, пережил подобное.
Твёрдо осознав, что никакое филологическое образование не будет полным и
плодотворным без хорошей библиотеки, я бросил университет. И пошёл на производство. Зарабатывал тяжелейшим трудом до трёхсот рублей в месяц. Многие ещё помнят, что в 70-х годах это были очень приличные деньги. Больше половины уходило на книги. За три года сколотил отличную библиотеку, предмет зависти многих товарищей-книгочеев.
Теперь это кажется безумством, теперь всё это издано-переиздано, но тогда… Именно тогда эти книги были необходимы, как воздух, без которого не выжить. Но зато и читались они – дай, Боже, нынешнему читателю такой книжной страсти, такого азарта! Нынешнему читателю трудно, плохо в том смысле, что всё издано, всё можно, а потому и пресно для молодых азартных людей. Тем более, что у них теперь есть «Интернет»…
Для меня же, и для моих друзей, с каждой новой, иногда буквально с кровью выдираемой из бездны книгой, был связан свой, неповторимый детектив. Вот и этот поэзодетектив, кажется, лишь аукнулся из далёкого прошлого, окликнул, как милое напоминание о недоговорённом, недопрояснённом тогда…
Я перелистал книгу, и… не нашёл этой строчки! Но ведь что-то знакомое читал у Мандельштама? Читал, помню это отлично. Но где?
Решил внимательнее перечитать «Соломинку», знаменитый цикл из двух стихотворений, посвящённый Саломее Андрониковой…
Увы, там тоже не было этой строки. Обнаружилась похожая, проходившая рефреном через цикл, которая звучит так:
«Двенадцать месяцев поют о смертном часе»
Но ведь это не то, не совсем то? Хотя тема смерти звучит очень отчётливо в цикле, даже навязчиво звучит. Это странно. Тем более странно, что стихи обращены к молодой, редкой красоты женщине:
…соломка звонкая, соломинка сухая,
Всю смерть ты выпила и сделалась нежней,
Сломалась милая соломка неживая,
Не Саломея, нет, соломинка скорей…
Честно говоря, провозившись целый вечер с книгами, я увлёкся сопоставлением текстов, воспоминаниями о раннем их восприятии, и уже несколько подзабыл о первоначальном смысле поиска…
И вот тут мне впервые стало тревожно от этих стихов, которые в молодости воспринимались исключительно лишь как песнь восхитительной женщине, песнь с великолепной звукописью, с неожиданными, загадочными образами, и только. Теперь на первый план проступало иное: почему тема смерти связана с ней?
Современники с неизменным восхищением описывали Саломею Андроникову, всех прельщал её «неземной» облик, она казалась прозрачной в своей утончённости, тонкости… даже в плотской своей худобе, бывшей тогда страшно модной у декадентов. Она словно бы светилась изнутри. Наверное действительно – как соломинка… Но откуда возник этот образ? – Соломинки?.. Смерти?..
И вот здесь уже открывался новый поворот в нашем детективе. Я зарылся в академические примечания и комментарии, где обнаружил не только искомую строку, но вышел на очень значимую для меня тему, на гигантский, и в то же время смутный образ, давно волновавший воображение.
Да, ещё с юности он волновал более всех других, этот образ настоящего гиганта поэзии, оказавшегося словно бы на обочине русской словесности. Тем не менее, почти все крупные поэты-современники ставили его много выше себя. Вот только критика не знала, что с ним делать, в какой ряд определить, с кем соотнести. Соотнести было явно не с кем, вот и «отставили» его в сторону по причине «неудобности» его, крупномасштабности. Он был неуютен, даже опасен для любителей выстраивать чёткие, правильные ряды. Он был неправильный. Он – через тысячелетия истории – воссоздавал великий Русский Эпос. И не только воссоздавал, но и современную революционную Россию полноправно, пугающе масштабно вписывал в непрерывающуюся Историю, в Эпос. Масштабно, и одновременно же скрупулёзно вписывал, с подробнейшими деталями реалий времени, в котором оказался. И оказался в нём словно бы чужим, посторонним, – Странником…
При всей масштабности и серьёзности замысла, он до обидного небрежно, даже как-то занебесно относился к судьбе написанного им. В итоге мы теперь по сохранившимся рукописям, или даже по их обрывкам вынуждены восстанавливать, как мамонта по косточке, целостный Замысел Поэта. Великого русского Поэта.
Может быть, самого великого за всю историю…
Наверно, уже понятно, что речь идёт о Велемире Хлебникове. Собственно, истинными революционерами, будетлянами в полном смысле слова были только двое из всей русской литературы. Это Андрей Платонов и Велемир Хлебников. Даже «великий футурист» Маяковский на их фоне, как революционер, выглядит не вполне убедительно. Его больше волновали дела земные, социальные, сиюминутные. Хлебников и Платонов осознавали революцию прежде всего как переделку мира, как переустройство мира и человека во вселенском масштабе, но одновременно же – на клеточном уровне. Для них Революция означала прежде всего Победу над Смертью. И здесь они смыкались с учением Фёдорова, с его «Философией общего дела», а далее и с Циолковским (чаще всего совершенно независимо!). Более того, они до конца дней были верны тем воззрениям, от которых впоследствии отвернулись революционеры.
Стоит почитать, например, переписку-спор молодых Ленина с Богдановым, чтобы понять – социальная революция в России изначально вовсе не была для них самоцелью. Она мыслилась лишь как ступенька к мировой революции. А та в свою очередь – как ступенька к переделке мира и человека. Ибо хорошо понимали молодые бунтари, что с таким человеком, каков он сейчас есть, со всеми его инстинктами, не построить никакого царства справедливости на земле.
Но не вышло у них.
И когда в 22-м году Ленин в смертельном отчаянии буквально проорал: «Мы построили не социализм, а говно!..» (цитирую дословно), то многие собратья его восприняли это как отбой, как условный сигнал к разворовыванию казны…
Потом, в 30-е годы из них долго и нудно приходилось выбивать наворованное, распиханное по зарубежным банкам. Но это уже другая история, это уже другой, и совсем не поэтический детектив.
А вот наш, поэтический, еще в разгаре.
Мандельштам, безусловно, был одним из тех, кто реально ощущал масштаб Хлебникова. И прекрасно сознавал, что большинство лилипутов-современников просто испугались, ощупав один лишь башмак русского великана. На большее не хватило ни таланта, ни кругозора. Мандельштам же, в отличие от критиков-современников, прекрасно осознавал на каких поэтических орбитах работает великий будетлянин.
И – внимательнейшим образом вглядывался в каждый поворот его поэтической мысли. Он сознавал, что сам работает чаще всего на орбитах изящной словесности, вращающихся вокруг филологии, что стих его базируется на тончайших ассоциативных ходах, нюансах. И здесь ему равных нет – Мандельштам это твёрдо знал. Нередко осмеянный осанистыми современниками за свою не вполне лепую внешность, он в глубине души знал – им до него не дотянуться. Во всяком случае, на той орбите, где он чаще всего кружил, ему равных не было. Знать-то он знал, но, как всякий редкостно одарённый человек, жадно тянулся к большему, к чему-то ещё большему, чем он сам в себе способен обнаружить и выразить в слове.
Друзья-акмеисты тут помочь не могли. И Мандельштам всё внимательнее вглядывался в творчество Хлебникова. И находил, находил для себя очень много!..
Известна его статья 1923 года, где он пишет о трагической буффонаде Хлебникова «Ошибка Смерти», созданной в 1915 году. (Поставить её мечтали многие: и В. Мейерхольд, и В. Татлин, и А. Лурье, который даже написал музыку для постановки. Но поставлена она была лишь однажды, в 1920 году, в Ростове-на-Дону – сам Хлебников увлечённо принимал участие в постановке).
Действие буффонады происходит в «Харчевне весёлых мертвецов». Двенадцать посетителей харчевни пьют по очереди – через соломинку! – из «кубка смерти». (Вспомним тут строку из «Соломинки» Мандельштама: «Двенадцать месяцев поют о смертном часе», а также: «Всю смерть ты выпила». Это писано в 1916 году – словно прямо по свежему хлебниковскому следу!)
Хозяйничает же в харчевне никто иной, как Барышня Смерть. Хозяйничает до той поры, покуда не является – Тринадцатый… И вот тут она, Барышня-Смерть, побеждена. Тема года и двенадцати месяцев здесь очевидна. Менее очевиден образ Тринадцатого. Через него уже просматривается символика не одних только 12 месяцев, но 12 апостолов, возглавляемых Тринадцатым, который и побеждает Смерть.
Известно, что сам Хлебников очень дорожил пьесой. И хотя по жанру это буффонада, и даже в известной степени пародия (в частности на пьесы Блока «Незнакомка» и «Балаганчик», в особенности же на пьесу Ф. Соллогуба «Победа Смерти» – с ней-то и ведётся основной мировоззренческий, пусть и бурлескный по форме, спор), тема слишком серъёзна и значима для Хлебникова. В этой пьесе просматривается ещё более дальняя перекличка – с «Пиром во время чумы» Пушкина, а также и с немецкими романтиками 19 столетия, в частности с «Фантазией в бременском кабачке» В. Гауфа…
Та-ак, узелки нашего детектива, кажется, начали распутываться. – Вон куда протянулись его нити! Но зачем же всё так сложно, так запутано? И что здесь означает сам образ «Соломинки»? Почему выпит ею весь кубок смерти? Не потому ли, что реальная Саломея Андроникова казалась современникам совершенно нереальной, неземной, словно бы не от мира сего, и уж тем более – не от России? Словно бы провиденциально предчувствовалось – «Соломинки» скоро не будет с ними, она не для этой грубой жизни, которая уже грузно набухала революцией? А ведь так и вышло.
В 20-х годах она и впрямь покинула Россию. – То есть как бы выпила всю её смерть и увезла в дальние страны… Но ведь смерть ещё только разгуляется в Гражданскую! И позже… и еще позже… и ещё лютее разгуляется, особенно в сороковые…
Вот и гадай, что знала женщина одна о смерти. Да и не она одна. Что знала о ней Ахматова, поставившая строку в эпиграф? Не хлебниковскую – прямую, кинжальную строку – а витиеватую. Да к тому же ещё и черновую, припрятанную в примечаниях, которые вовсе не обязан знать читатель. Это знала подруга поэта и его современница, а мы – давай, разгадывай, прочёсывай закулисные дебри. Детектив, право слово, – детектив!
Да, масштаб Хлебникова, его прямоговорение явно не акмеистического плана. Его масштаб, быть может, единственный равновелик масштабу самой России. Или – Замыслу Божьему о России. Но на него, на «обочинного» Хлебникова, как-то не принято
ссылаться, ставить в эпиграфы, запутывать читателя, морочить туманами… У Хлебникова не мороки, не изящные игры, у него всё слишком серъёзно и высоко, у него – борьба Жизни и Смерти. Тут «изящно» не поиграешь…
Кстати, в черновиках Мандельшатама строка выглядит так:
И, к умирающим склоняясь в чёрной рясе,
Заиндевелых роз мы дышим белизной.
Что знает женщина одна о смертном часе?
Клубится полог, свет струится ледяной…
Красивые стихи. Но какие всё же туманные! Загадка, а не Тайна остаётся и после него, и после Ахматовой, и после всего «Серебряного века»…
И поневоле спросишь напоследок, точно ребёнок, жаждущий выведать секрет:
а всё же – что знает женщина одна о смертном часе?..
Спросишь, и вновь повторишь в недоумении: а всё же, всё же —
что знает женщина одна?..
И в итоге расширительно укорачиваешь вопрос: а всё же, всё же, всё же —
что знает женщина?..
НАПИСАНА ГРАМОТКА ПО СИНЕМУ БАРХАТУ…
(Заметки о Поэзии, а также о некоторых поэтических странностях, вроде зачистки клемм, проводки и прочией «мелочи»).
«Да это же холуйский трёп! Болтовня рабов, обуянных гордыней и дерзостью в отсутствии (мнимом на поверку) Господина!.. это бессовестно!» – Примерно с такой степенью высокопарности, помнится, хотелось в молодости воскликнуть ввиду разгорающейся очередной дискуссии поэтов о… Поэзии. О той Поэзии, которая сама ведь – божество, не иначе….
И это восклицание не казалось высокопарным.
Тогда, в 60-80-х годах 20-го века недоступны были труды Сергия Трубецкого, Павла Флоренского, не говоря уже о Иоанне Кронштадском… тогда думалось – что ни скажи о Сокровенном, всё будет вздором, пошлостью, и лучше молчать, переживая самое тайное только в себе.
Это и сейчас верно по сути, но теперь, когда всем открыты слова умнейших, деликатнейших и смиреннейших богословов, понимаешь – даже о Творце можно сказать достойные слова, пусть даже они исходят от Его производного, от Его творения – тварного существа.
А что? Если истинно верующий человек – раб Божий, и ни капельки не стыдится этого своего «статуса», то ведь для истинного поэта также несомненна и совсем не оскорбительна его преданность своему божеству – Поэзии. Но когда раб Божий начинает рассуждать о своём Господине, который умонепостигаем, он рискует впадением в грех. Он ведь теперь, рассуждая, даже помимо воли вынужден поминать имя Господа всуе, попросту забалтывать самые высоки сущности. Как заболтали их в начале 20 века декаденты, философы, богоискатели в своих теософских кружках и шабашах.
Но неточно было бы отождествлять поэзию и религию. Сказано умным французом: «Поэзия – сестра религии». И верно, немало известно семей, где одна сестра монахиня, а другая – весьма ветреная особа. Да и сами священники порою склонны приравнивать искусство к греху, к искусу…
Достаточно взять любое каноническое Евангелие, чтобы убедиться – никаких поэтов, художников, музыкантов там нет. Их как будто и вовсе не было в то время. А ведь были, были! Это доподлинно известно. Но Спаситель избирал не их. Кого угодно – мытарей, рыбарей, блудниц… Он не любил фарисеев, книжников, да и всю образованную аристократию недолюбливал. А ведь именно из этой среды нередко возникали художники, философы, поэты. Но их как бы не существовало для Него. Он нёс людям Любовь, Свободу. Но не культуру.
Культура для Него – тот же культ, кумирня. Подозреваю, что именно культура стала самой коварной (прекрасно обольстительной и почти прозрачной) стеной, вставшей меж Ним и нами. Он ценил – простоту, простодушие. Но не изыски.
Я всегда считал, что поэзия – это язычество, пантеизм, детство человечества. И когда в перестройку стали появляться словосочетания вроде «христианская поэзия», «православная лирика», для меня это было дико. Христианство – взросление человека, человечества. Ему не так важны инфантильные, многоразличные эмоции и суждения. Ему нужно другое – трезвое, мужественное отношение к жизни и смерти. То есть, относительно к творчеству, чистый лирический (лироээпический и проч.) тон. Быть может там, в горних, различают лишь тональность сказанного здесь. Вот, к примеру – Минор. А вот – Мажор. И довольно. Полутона, нюансы, переливы остаются уделом и достоянием земным. В горних же слышат лишь: «Ой Дид-Ладо!..», «Таусень, таусень!..», «Эвоа, эвоэ!..»..»… – Гнев. Скорбь. Ликование. Только чистый тон.
Но тут поневоле вспоминается история с великим Велемиром, который и явился-то миру в не самые плохие для поэзии времена, – в революционные! И то всю свою жизнь (жизнь героя, пророка) проходил в чудаках, в белых воронах. Великан оказался не по росту мельчающей эпохе. Истинные поэты его приняли сразу, и даже вознесли безоговорочно выше самих себя, уж конечно же, откровенно любимых собою. Это ведь немалого стоило! И мужества требовало, и предельной честности в жёсткой самооценке.
Но истинных всегда единицы. А публичный бал правят лилипуты. Хлебников лишний на их балу. Он неудобен, громаден, он может разрушить уютную обстановку… он опасен попросту! И его объявляют чем-то неудобоваримым, мало пригодным к восприятию. Вопрос – к чьему восприятию? К восприятию тех, кто диктует лилипутские нормы?
Итог – его, мифотворца, гимнопевца, титана, дерзнувшего воссоздать и возродить великий русский эпос (да, языческий, – народный, а какой ещё он бывает, эпос?), и поныне считают его чем-то сторонним, «обочинным» в русской поэзии. Чуть ли не за юрода выдают. И многие верят, ведь им «взрослые объяснили», – в учебнике, в школе, в институте… и пошло, и поехало по инерции…
«Гнев, о богиня, воспой…» – вот самый сильный и определённый тон. Сильнее потом уже не было в поэзии. Да и гимнопевцы перевелись со временем. Не оттого ли и диагноз этот печальный – общее снижение Поэзии во времени, обраставшем буржуазностью, снижение её полёта, или хотя бы её устремлённости вверх… и, как закономерная неизбежность, понижение самого статуса поэта.
Был пророк, гимнопевец, псалмопевец, а стал… бытописатель. Мастер деталей. Певец альковных утех. Если же и дерзнёт, если и отважится современник на «высокий штиль», на разговор «олимпийский», а не кухонный, общежитейский, – сочтут безумцем. А вернее всего графоманом. О чём публично будет объявлено каким-нибудь критическим «авторитетом». Это в лучшем случае, это лишь в том случае, когда «безумец» окажется достаточно ярким, и не заметить его будет уже невозможно.
Державин днесь не нужен. Он не просто смешон, – его «пипл не хавает».
Николай Рубцов сказал о поэзии: «И не она от нас зависит, а мы зависим от неё». Под этими словами, я думаю, подписался бы каждый, окунувшийся в истинно поэтическую стихию, однажды и навсегда ошеломлённый ею. Ибо понял: вынудить самого себя написать что-либо стоящее без соизволения свыше – невозможно.
Тут возникает мотив служения, божественный мотив. Потому, наверно, и казались мне бессовестными все рассуждение низшего (поэта) о высшем (Поэзии), подчинённого о господствующем. Тем более, что лишь в 20 веке стали возможны хамские уверения – «Я гений…». В веке же18, и даже ещё в 19 приличествовала иная, гораздо более самоосознающая форма: «Мой Гений». Или о ком-то: «Его Гений», «Он осенён (чаще – он осеняем) Гением». А ты, – кто ты, даже пишущий, даже весьма ловко пишущий человек? Ты, по В. Хлебникову – «бревно мяса». Чтобы это «бревно» одухотворилось, задышало, запело, нужно ой как много чего ещё, кроме одного желания публично проораться…