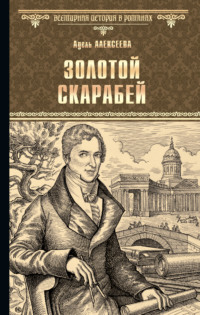Полная версия
Два романа: Прощай и будь любима. Маргарита: утраты и обретения

Адель Алексеева
2 романа: Прощай и будь любима. Маргарита: утраты и обретени
Прощай и будь любима
Выражаю глубокую благодарность за помощь в подготовке рукописи своим проверенным друзьям А. Куликовой, М. Буровой и И. Мерьемовой, к которым автору пришлось обратиться в связи с частичной потерей зрения, а также своим трем внукам, внимательно прочитавшим верстку.
© Алексеева А.И., 2020
© ООО «Издательство Родина», 2020
Прощай и будь любима
Пролог первый
…Когда-то, в годы первой молодости и робкой советской юности, двое друзей – Валя и Саша – вышли из речного трамвайчика у Парка Культуры, побежали по зеленым взгоркам, вдоль узких дорожек и аттракционов. Они решили подняться на «колесе» и полюбоваться Москвой. Не было тогда еще ни Останкинской башни на Аргуновской улице, ни «Триумф-Паласа», а в островерхие сталинские высотки (так похожие на одинокие елки) – не попадешь.
В очереди на «колесо» стояли приезжие, провинциалы, они давно осаждали аттракционы.
Май благоухал тем единственным ароматом, той одуряющей свежестью, которая бывает только в это время года. Валя и Саша Ромадин остановились у кассы гигантского колеса, которое важно и торжественно, дрожа и поскрипывая, двигалось по кругу.
Кабинки замерли, Валя-Валентина сделала шаг и устроилась в уголке. Саша (вольно или невольно) приобнял ее. Оба замолчали, устремив глаза на окрестности. Колесо поднимало их – вверх, вверх!
Но на самой высокой точке что-то вдруг дернулось, заскрежетало, замерло – и кабинка зависла, покачиваясь в растерянности и недоумении. Кто-то ворчал, покрикивал, даже бросал окурки в сторону оскандалившегося механика.
Валя взглянула с опасной высоты вниз и увидела там – неужели она? – девицу, на которую не раз натыкалась в их дворе, да еще и вместе с Сашей. Уж не она ли нажала на кнопку, и движение остановилось? Из ревности, из вредности?
Саша ничего не заметил. Напротив, воспользовавшись остановкой, он крепко заключил в свою ладонь Валину руку и еще ближе придвинулся к ней. Он не спускал косящего взгляда с девичьего лица, а она – то ли от застенчивости, то ли из девичьего упрямства, за которым скрывалось кокетство, – резко отодвинулась.
Он показал вдаль: видишь там желтоватое пятиэтажное здание? Это генштаб. И пустился в рассуждения – о генштабе, где выковывается научная стратегия армии, об экономике, которая все еще хромает, а между тем всюду звучат коммунистические лозунги. Зато есть уже прообраз человеческого братства – военная академия, где учится он вместе со студентами из стран народной демократии.
Совсем рядом пролетела стайка птиц, и Саша вскрикнул:
– Это стрижи, мои любимые! Ты любишь стрижей? Тина-Валентина, моя Валенсия? Отвечай!
– Я отвечаю: какая красота вон там, в Нескучном саду! Бездонное чистое небо, яркий зеленый мир, шумит свежая листва. А из птиц я люблю ласточек и соловьев.
В воздухе звенело – скворцы готовили гнезда, жужжали пчелы, летали бабочки, метались ласточки, свиристели – настоящая птичья симфония! Валя, понизив голос, рассказала, как недавно была в деревне, там возле каждого дома цвела сирень и птиц видимо-невидимо.
– И, знаешь, во второй половине дня все птицы куда-то переместились – послышалось «тьюх-тьюх»: запел-защелкал соловей, а они словно освобождали для него эстраду… И теперь он будет целую ночь, каждую ночь петь, пока мама-соловушка сидит на яйцах, пока не проклюнется последний птенчик.
Саша, глядя на ее порозовевшую щеку, уважительно заметил:
– Какие, однако, познания!
И, чтобы не отстать от спутницы, пустился, как ни странно, в рассуждения об истории, о декабристах.
– Был тогда Южный союз и во главе Пестель, почти диктатор. Но была и северная группа, они носили имя Союз Благоденствия, имели более умеренную программу, хотели покончить с крепостным правом. Как ты думаешь, какая группа победила, стала главной? Ну, конечно, Пестель! Союз Благоденствия оттеснили, а там, между прочим, был замечательный человек Якушкин… Вот так вся история наша идет: крайние, экстремисты берут верх. А это очень худо, ты согласна со мной?
Она кивнула, а он опять задал вопрос:
– Что это вон там? Белое и красное.
– Да это же Новодевичий монастырь! Историю любишь, а про него не знаешь?
– Не надо меня стыдить, упрекать, все я знаю! – и сделал вид, что обиделся.
Она шутя «боднула» его головой и засмеялась:
– Какую ерунду мы говорим, а ведь все еще висим между небом и землей. Когда они починят это чертово колесо?
– Между небом и землей… – серьезно повторил он. – И не есть ли вся наша жизнь между одним и другим? К примеру… Уничтожили капитализм, самодержавие, размечтались о мировой революции на всем земном шаре – и что же?..
Лицо ее приблизилось к его лицу, взгляды карих и серо-голубых глаз слились, губы сблизились – и невозможно было не поцеловаться.
Но в этот момент громадное и неуклюжее сооружение дернулось, задрожало, дрогнуло – и толчками, толчками медленно стало двигаться по кругу вниз, вниз…
Пролог второй
1989 год. Фиолетовые облака надвинулись на город, окутали его сплошной пеленой, и полился быстрый частый дождь. С грохотом поскакал он по улицам, словно кавалерийский полк. А спустя короткое время уже мчались потоки воды, заливая грязные автобусные остановки, подземные переходы. Водяные струи лились по стеклам, по огромным щитам, делая еще более яркой рекламу, которая облепила в последние годы столицу, как осы – ягодный торт.
К одному из окон дома на Басманной подошла все еще моложавая женщина и ахнула: вот это дождь! Ее любимый тополь качался, ветки вздрагивали, рвались, колыхались, – настоящая буйная пляска зеленых лакированных листьев!
Лицо ее дышало энергией, а из-под темных бровей смотрели задумчиво и сосредоточенно светлые глаза.
Раздался телефонный звонок, она проворно выбежала в коридор. В трубке негодовал голос дочери, взволнованный и возмущенный:
– Мам, представляешь, что случилось? Наш семидесятилетний босс оттого, что его любовница-секретарша уволилась, тоже решил уйти. Но! – вместо себя оставил своего человечка, такого хамовато-дубоватого, по фамилии Барабуля… Изъясняется он тремя фразами: «Мне это по барабану», «Войны не будет» и «Нет проблем? Они появятся». Пришел и сразу дал своему приятелю на перевод договор с японцами. Я начала редактировать – ну никуда! – надо переводить заново. Говорю этому Барабуле: «Если правка составляет девяносто процентов, то перевод принимать нельзя». А он – представляешь? – «С вами будут проблемы, а они мне не нужны, так что…» – Я онемела. – «У меня за дверью стоят десять переводчиков…» – Понимаешь? Я ухожу из этой конторы, от этого вампира. Все!
Валентина Петровна осторожно спросила:
– Что же ты будешь делать, как жить?
Та скороговоркой выпалила:
– Ты же знаешь, что со своим английским не пропаду! Мы что, совсем должны забыть о человеческом достоинстве?
– Нет, что ты, что ты! Правильно сделала, – без уверенности отвечала мать; она знала кое-что о частных фирмах, знала и характер дочери. И догадывалась, что сейчас та торопится, как всегда, и не стала ее задерживать – они простились.
Дождь утихал. Любимый тополь успокаивался. Сколько лет она смотрела на эти могучие ветви, то замиравшие, то пускавшиеся в буйный пляс… На ворон, облюбовавших дерево для строительства гнезд, на величавую, пышную крону… Саша тоже любил наблюдать за пышно-зеленым великаном… По стеклу стекали капли воды, оттого вид за окном казался призрачным.
Снова раздался телефонный звонок.
– Аллё-о-о!
Низкий мужской голос – она узнала бы его из сотни. Людей она забывала, а голоса – нет.
– Неужели я слышу тебя, о Рожденная под знаком Венеры!
– Добрый день, здравствуй, Кирик! – Он всегда вот так: то исчезает на годы, на месяцы, то – является, как этот дождь, и затопляет все вокруг. Она хотела спросить, откуда и куда он на этот раз.
Но звучный баритон уже опередил ее:
– Позволит ли мне навестить ее… госпожа Левашова? Или она все же изменила фамилию?
– Нет, фамилию я не меняла, – зачем?.. Заходи – раз ты появился в Москве…
– Ты все так же снисходительна к нарушителю морали? И позволяешь зайти?.. Между прочим, я уже был у твоих дверей, но… они не захотели меня впустить.
– Ты бы еще дольше не показывался! У нас теперь у всех или железные двери, или код.
– Кот? И, конечно, черный? – пошутил он.
Она назвала код и поспешила к зеркалу. Покрасила губы, подправила брови, когда-то густые, «союзные», надела сине-серое платье из тяжелого трикотажа. А он уже звонил в дверь. Тина-Валентина открыла, и ей предстали мокрый плащ-болонья, копна седоватых волос, большие близорукие глаза и насмешливая улыбка. Все тот же Кирик, такой же, как тогда, когда они виделись в последний раз.
Он вошел – и сразу мощный баритон затопил квартиру: «Скажите, девушки, подружке вашей, что я ночей не сплю, о ней мечтаю…»
Голос не только не стал слабее, он стал глубже и лишь чуть-чуть уступал Пласидо Доминго. Второй куплет гость пел, уже аккомпанируя себе на пианино. Играет Шопена, Генделя, Баха, а как поет арии Верди, Чайковского! И все это легко, беспечно, с первой ноты покоряя слушателей. Но – может небрежно бросить арию на середине фразы. Вот и сейчас – уже встал:
– Все та же итальянщина, старье… – повернулся, артистично опустился на одно колено: – Позвольте заметить, сударыня: вы все так же хороши! Имею ли я право вновь изъясниться в любви? О, эти суровые брови, эта серьезность – и нежная, детская улыбка!
– Перестань, Кирик, не надо. – За всю жизнь она так и не поняла, когда ему можно верить, когда нельзя. – Садись лучше за стол. Ешь плов, пей чай.
Легкой, птичьей походкой Кирилл быстро прошел в коридор, достал из кармана видавшего виды плаща бутылку вина. Тина посмотрела на обтрепанные брюки, старенькую ковбойку – неужели все так же беден? Заметила, что слегка пьян. Сердце невольно сжалось.
– Хочешь, я дам тебе плащ? Совсем новый, отец не успел его даже надеть…
– Ни за что! И ни-ког-да! Один умный человек сказал, что комфорт и деньги – это вороватые пришельцы, которые входят в наши души как гости, а потом становятся хозяевами, тиранами. Давай лучше выпьем! За встречу!
Пили чай, вино, и после каждой рюмки гость садился за пианино, пел, постепенно пьянея, и еще легче, невесомее двигался по комнате. Читал чьи-то стихи…
Сунул руку в потертый пиджак и вынул какой-то листочек.
– Хочешь, почитаю? Одного хорошего человека, – в 1941 году он ушел на фронт:
Провожали меня на войну,До дороги большой провожали.На село я прощально взглянул,И вдруг губы мои задрожали…Не закончил и остановился вдруг возле стены с фотографиями. Вперил взгляд и долго рассматривал.
– Хм! – усмехнулся. – Представители славной эпохи? Свет социализма? Что-то мне мало выпадало того света. Все больше тени, тени… Но своей фотографии я не обнаружил. – Обернувшись, печально взглянул на хозяйку: – Да-с, моего фото нет… Значит, ты все-таки меня не любила?
– Как сказать, – неуверенно заметила она.
– Я понял, что Любовь – это не просто чувство, а мы в основном это так воспринимаем. Любовь – это ИноБытие, и это СоБытие с тем, кого любишь! Тогда нет никаких – «а почему он это сказал, а почему он туда пошел» и т. п. Всё то, что люди принимают за любовь, это эмоциональный коктейль, эмоциональная пища, которая им нужна… М-м-да… Между прочим, я уезжаю в Индию.
– Верить – не верить? Надолго?
– Хорошо, если навсегда.
– Что ты говоришь, почему? – она прикоснулась к шапке густых волос.
Он резко вскинул голову:
– Ты считаешь, что я уже более ни на что не гожусь, только гладить? – опустив глаза, тихо заметил: – По-хорошему мне тут не живется, а по-плохому не хочется, надоело. Хорошо, если бы меня взяли к себе индийские боги. Русский бог не берет грешника.
– Что ты говоришь! – она опять провела рукой по седеющей голове.
– Нет, нет, не надо! Гуд бай! – он артистично взмахнул рукой и сразу распахнул дверь. На лестнице раздался могучий бас-баритон: «Пою тебе, бог Гименей, Ты, что соединяешь невесту с женихом!..»
Валентина Петровна подошла к окну и долго смотрела на удалявшуюся неверным шагом фигуру…
Редкие капли дождя стекали по стеклу, словно слезы…
Стемнело. За окном колыхался тополь. Оттого, что в комнате горела лампа, стекло напоминало черное зеркало: в нем отражалась противоположная стена. Этажерка, портрет Сальери, маленький перламутровый веерок, фотографии… Тут ее мать Вероника Георгиевна, отец, а рядом с ним незнакомец и подпись – Н. Строев. Галка с Миланом, навсегда покинувшие родину… Смешной, нелепый Райнер… И Сашка, Саня, Александр… Кого-то уже унесли ветры Времени…
Кирика задело, что не нашел своей фотографии?.. Роман их длился не десять, а более лет, то затихая, то обжигая. То он исчезал где-то, то она выходила замуж, – и всегда ее обуревали сомнения. Ум его, эрудиция, йога восхищали, но – эти женщины, покоренные неотразимым властным пением, женщины одна за другой отрезвляли ее…
Увидел фотографию Саши? Еще бы! Первая любовь, военная академия, вальс-бостон Цфасмана, южная ночь, обнявшая их навсегда…
Долго не отводила она глаз от зеркального окна. Выплывали мгновенья жизни, погружали в размышления… Фотографии, отраженные в черном зеркале, воскрешали прошлое, напоминали о мгновеньях, часах, годах…
Дождь давно кончился, солнце скрылось за длинными тяжелыми облаками, но еще взблескивало в просветах. Тополь, роскошный тополь на этом фоне казался похожим на театральный занавес, за которым разворачивались одна за другой сцены из жизни…
Глава первая, послевоенная
Наивные гордячки пятидесятых
Окрестности просторны, далеко видны. Лениво падают листья… Черная стая птиц, вдруг взвившаяся и так же вдруг опускающаяся в низину… Ласточка, стремительно несущаяся к дому… Высокий полет большой птицы – такой медленный и завораживающий… Все это – так кажется Валентине – сопровождается тихой музыкой.
Как многие девушки послевоенных лет, она была весьма романтична и неприступна. Те, кто мог стать их женихами, мужьями, лежали на полях Отечественной войны или в госпиталях. А в девицах осталась большая доля наивности, несмотря на пережитые военные испытания. Молодые люди боялись притронуться друг к другу, поцеловаться… Ах, эти гордячки! Они не показывали свои чувства, и – избави боже лишиться девственности до ЗАГСа!..
Солнце, щедрое солнце по-летнему лило свои лучи, бросая охапки оранжевых светов на зеленый луг, серебристые крыши домов, на сине-желтую глинистую воду.
А на высоком берегу охристым массивом красовался бревенчатый, обвитый хмелем осанистый дом. Главная хозяйка его – Вероника Георгиевна Левашова. Еще в давние тридцатые годы, когда никто не имел тяги к недвижимости, купила она этот бывший помещичий дом. В отдельной комнатке с тех пор так и осталась жить сестра помещицы. В заморские страны она не двинулась, стала обучать сельских девушек шитью, грамоте, аптекарскому делу.
Почти за бесценок приобретен был этот дом. Собственно, муж Вероники Георгиевны – Петр Васильевич, бывший конник, чекист, мог бы вообще реквизировать его. Но супруга настояла на том, чтобы, во-первых, заплатить, а во-вторых, дать приют сестре помещицы. С «мадам» та разговаривала по-французски, а Петр Васильевич в такие минуты прикидывался глуховатым. Брак его с Вероникой Георгиевной – истинный мезальянс: он мастер на заводе, секретарь партбюро, в некотором роде «язычник», сотворивший идолов из Маркса и Ленина, она – подлинная француженка по материнской линии, училась в институте благородных девиц, к тому же в пятьдесят лет еще красавица. Только мало ли какие браки вспыхивали в те озорные годы?
Деревня была старинная, можно сказать, царская, – тут еще при Алексее Михайловиче селились его люди. Улица – широче-е-нная. По весне она превращалась в мутный поток, мчащийся вниз, к Москве-реке, зато летом всегда сухо, песчано, светло.
На обрыве стояла церковь, окруженная липами, посаженными по вымеренному кругу. В тридцатые годы ампирный храмик, миловидный и ласковый, выглядывал из-за пышных лип, будто свежий белый каравай. Теперь же напоминал он старый обгрызенный сухарь. Однако липы, подстриженные по версальской моде, еще сохранили циркульную форму, хотя и буйно разрослись.
Местные старухи рассказывали:
– Красота тут была! Взойдешь в церковку – золото-серебро так и горит… А батюшка доброты нездешней. Только собрали как-то нас, дураков беспросветных, и говорят: «Бога нет, в городе так установили. Значится, надо скинуть колокола». Что делать? Бабы в слезы, думают, в городе, дескать, умнее нас, кумекают. Иконы растащили, кто, конечно, втайне потом молился, ну, а парни взрослые доделали то грешное дело, колокола – за шею да наземь…
Может, и правда нельзя тут было стоять церкви? Ведь еще в двадцатые годы ретивые умники привезли сюда что-то длинное, закрытое, долго таскали кирпичи, мазали, а потом раз – и поутру предстала каменная фигура: человек приземистый, почти квадратный, пальто распахнуто, в руке кепка. Сказали – это Ленин, тот самый, что теперь заместо Бога станет. Смирились, хотя рождала та фигура в душе беспокойство.
После войны рядом с Лениным соорудили кособокий сарай под названием «Клуб». Вероника Георгиевна послала своего Петра Васильевича по инстанциям; мол, скульптура Ленина – исторический памятник двадцатых годов, потому нельзя с ним рядом такое чудище возводить, позорит оно имя вождя. Петр Васильевич стучался в разные учреждения, писал, но в ответ пришло лишь постановление: покрасить Ленина краской серебрянкой, а клуб – голубой.
Вероника Георгиевна неспешно приблизилась к краю веранды, позвала сына и дочь:
– Филипп! Тина-а!
Высокая стройная девушка, платье в горошек, подбежала к веранде. Остановилась возле умывальника, с неудовольствием всмотрелась в зеркало: строгое лицо, волосы на прямой пробор, косы, ни один волосок не выбился, черные дуги бровей, а ресницы? – торчат, как стрелки, вниз, светлее бровей. И глаза – не поймешь какого цвета, то ли серые, то ли сиреневые… Дома она – покорная Золушка, зато в школе ее называют «воображалой», «гордячкой».
Филипп – прямая противоположность: с лица не сходит рассеянная улыбка, одет небрежно, торчат вихры, очки перекосились, бывает резок, даже груб.
– Филя, займись лошадкой!
Сын и ухом не повел. А Вероника Георгиевна увидела стоявшего без дела мужа:
– Петр Васильевич, почему у нас до сих пор нет дров? Скоро обед, могут приехать гости, а вы прохлаждаетесь. Когда я служила начальником производственного отдела, я никого не заставляла ждать.
Муж улыбнулся в усы:
– Сей миг все будет сделано.
Жена его работала всего года полтора за всю жизнь (она говорила – «служила»), однако то и дело напоминала об этом… «В тебе, Веруша, погиб большой генерал», – добродушно шутил муж, и лицо его покрывалось мелкими морщинками, а глаза, темно-серые омутки, шустро взблескивали из-под бровей.
– Пора выгуливать Роланда, – добавила Вероника Георгиевна, чуть смягчаясь.
Лошадь по имени Роланд – тоже ее причуда. Как-то, полгода назад, старый товарищ мужа рассказал, что в цирке во время родов пала кобыла, из живота ее вынули жеребенка, и он должен пойти на мясо. «Пойти на мясо? – возмутилась мадам. – Ни за что! Несите его к нам!» Новорожденный напоминал смятый кусок коричневого бархата.
Петр Васильевич не хотел его брать, потому что в Гражданскую войну у него был чудный конь в яблоках по имени Серко. Когда конь состарился, пришлось отдать на конный завод в Бутово – там сохранилась конюшня. Бывалый конник чуть не со слезами уводил своего Серко на конюшню. А через год, наведавшись туда, нашел разоренной усадьбу; конюшню упразднили, про Серко, любимого коня, говорили, что он долго бродил по окрестностям, а потом исчез. С тех пор Петр Васильевич зарекся заводить лошадей. Однако в доме верховодила мадам, любимая жена… До него донесся ее голос:
– Филя, не знаешь, приедет сегодня Саша? И один или с очередной пассией?
Сын что-то буркнул, но так тихо, что поняла только мать и тут же накинулась на него:
– Молодец Саша! Не то что ты. У него всегда полно друзей, подруг. А ты? Как бука. Ни одной знакомой девушки!
Возмущенный шепот, похожий на шипение, донесся оттуда, где стоял Филипп:
– Мам, что ты говоришь? У меня же сессия!
– Ах, милый! Когда я училась в гимназии, даже во время экзаменов мы ухитрялись передавать записочки гимназистам.
Филя взлохматил светлые волосы, поправил очки и, не без раздражения взглянув на мать, прошептал:
– При чем тут твои записочки? Может, ты любила флиртовать, а меня это ни капли не занимает.
Хотя Филипп учился в театральном институте, он ни на йоту не был наделен артистизмом (учился он, правда, на театроведческом факультете).
– Мальчишка! – бросила мать и, прямая, с откинутой головой, направилась в кухню.
Там ее ждала дочь, готовая следовать материнским кулинарным советам, да и не только кулинарным. Когда-то, лет десять назад, у Вероники Георгиевны случился инфаркт, вернее, микроинфаркт, и с тех пор муж и дочь жили в постоянном страхе за ее здоровье. В доме всегда пахло ландышевыми каплями и камфарой, ей не смели возражать, боясь нового приступа. По той же причине Валя-Тина-Валентина после десятого класса не пыталась поступать в институт, обучилась машинописи, и отец устроил ее секретарем в заводоуправление.
Вероника Георгиевна достала рис, курицу.
– Как говорят французы, вкусная еда – самое легкое счастье. Ты согласна?
– Да, мамочка, – кивнула Тина.
Ее мать царила в семье, как царят и властвуют больные, как бы приговоренные к скорой кончине. А своими манерами, поведением, нарядами она напоминала заморскую птицу, залетевшую неведомо откуда и жившую по известным лишь ей законам. Впрочем, она и была таковой. Как истинная француженка, она понимала толк в жизни, в еде и недурно кормила домочадцев. Уже были отменены послевоенные карточки, в магазинах можно было купить почти все. Елисеевский сверкал зеркалами, лоснящейся икрой, желтым маслом, вкусно пахло колбасой с фисташками. Возле своего дома на Басманной мадам могла купить и белую осетрину, и янтарного лосося.
– Итак, что мы нынче сотворим?
– Сварим курицу? – предложила Валя.
– Свари-и-ть… – Вероника Георгиевна изобразила кислую мину. – Нет! Мы сделаем французский суп! Как? Две картофелины варим, две жарим с перцем и-и-и протираем сквозь дуршлаг. На второе? Из этой же курицы готовим нечто божественное! Обжарим мясо с луком и сделаем соус. Порядочные люди должны видеть парадный стол, теперь не война, чтобы питаться по-поросячьи.
Мадам умела мгновенно переходить от неумолимо властных тонов к вкрадчивым. И покорная дочь уже чистила лук, терла картофель, а мать сидела на старом венском стуле, курила и рассуждала о сыне Филиппе, который равнодушен к девушкам, о дочери, которая не умеет кокетничать, – как жаль, что оба они ничего не унаследовали от матери!
– Если хочешь знать, самое главное – это флю-и-ды, невидимые токи, лучики, стрелы Амура… Еще дам тебе хороший совет: девушка должна иметь поклонника, который старше ее. Почему? Ну потому… потому что такой человек даст ей возможность почувствовать себя женщиной!.. При этом, конечно, ни в коем случае не терять невинность, но – почувствовать в себе женскую силу.
– Мама, к чему мне старики?
– Ах ты глупышка! Они сделают тебя умнее.
Выглянув в окно, Вероника Георгиевна вновь перешла от таинственного шепота к густому угрожающему меццо:
– Петр Васильевич, что вы там застряли?
Однако готовый вырваться гнев пришлось погасить, дрова уже лежали где надо, а муж выводил из сарая коня – вот они идут по площадке, по ровному кругу. Молодая тонконогая лошадь шоколадной масти выделывает балетное стаккато. Все быстрее, быстрее, шерсть блестит, кожа трепещет. Вероника Георгиевна не выдержала, сбежала вниз, остановила коня и, прижавшись к морде, похлопала по мокрой бархатистой коже.