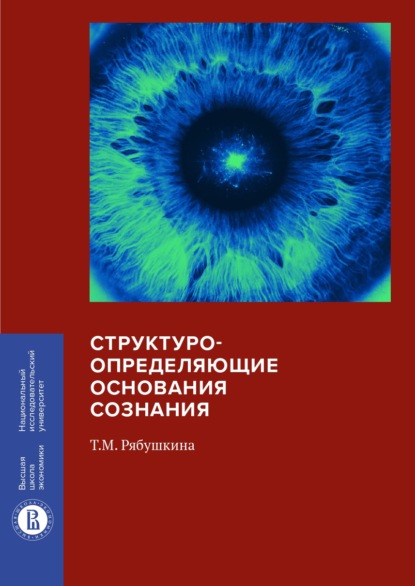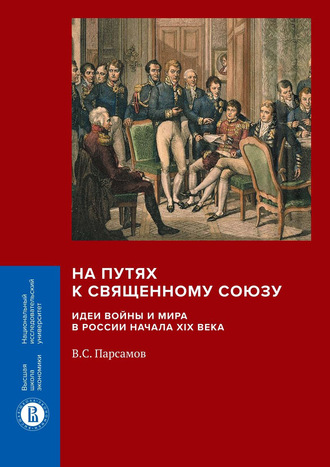
Полная версия
На путях к Священному союзу: идеи войны и мира в России начала XIX века
Такое понимание шло вразрез с мнением большинства просветителей. Против отождествления естественного состояния и войны выступил Джон Локк. «Мы имеем ясную разницу, – отмечал он, – между естественным состоянием и состоянием войны; а эти состояния, что бы ни утверждали некоторые люди, столь же далеки друг от друга, как состояния мира, доброй воли, взаимной помощи и безопасности и состояния вражды, злобы, насилия и взаимного разрушения» [Локк, 1988, с. 272]. Поскольку человек по своей природе разумное существо, «постольку он не должен наносить ущерб жизни, здоровью, свободе или собственности другого» [Там же, с. 265]. Из состояния полной свободы и равенства, в котором пребывают люди в естественном состоянии «вытекают великие принципы справедливости и милосердия» [Там же, с. 264]. Состояние войны возникает тогда, когда человек вопреки законам разума «пытается полностью подчинить другого человека своей власти» [Там же, с. 271]. Война ведется везде, где сила заменяет право, неважно естественное или гражданское. В этом смысле война в равной степени соотносится как с естественным, так и с гражданским состоянием и противостоит норме как ее искажение. По точной формулировке Эммера де Ваттеля «война – это состояние, в котором своего права добиваются силой» [Ваттель, 1960, с. 425].
По мнению Ж.-Ж. Руссо, в естественном состоянии человек, предоставленный самому себе, не знает войн, а следовательно, он не знает и мира. «Уже хотя бы потому, – писал Руссо, – что люди, пребывающие в состоянии изначальной независимости, не имеют столь постоянных сношений между собою, чтобы создавалось состояние войны или мира; от природы люди вовсе не враги друг другу» [Руссо, 1969, с. 156–157]. Происхождение войн Руссо, как и Локк, связывает не с естественным и не с гражданским состоянием в отдельности, а с их наложением друг на друга, когда «законы справедливости и равенства ничего не значат для тех, кто живет одновременно и в независимости естественного состояния и в подчинении потребностям Общественного состояния» [Там же, с. 420]. В естественном состоянии человек имеет бесспорное право на самозащиту и даже «может завладеть плодами, которые собрал другой, дичью, которую тот убил, пещерою, что служила ему убежищем». Но при этом, замечает далее Руссо, он не может «достигнуть того, чтобы заставить другого повиноваться себе» [Там же, с. 70–71].
Наиболее естественное, точнее «единственное естественное», общество, по Руссо, – это семья, основанная полностью на добровольных отношениях, которые могут в любой момент быть разрушены. «Семья, – по его мнению, – это, если угодно, прообраз политических обществ, правитель – это подобие отца, народ – детей, и все, рожденные равными и свободными, если отчуждают свою свободу, то лишь для своей же пользы» [Там же, с. 153].
Все реально существующие общества, с точки зрения Руссо, совпадающей в данном случае с большинством просветителей, представляют собой чудовищное искажение человеческой природы в результате не грехопадения, а ложного выбора, сделанного человечеством в начале его истории. «Война, – по словам Л. де Жокура и А.‑Г. Буше д’Аржи, – является следствием испорченности людей, это судорожная и жестокая болезнь политического организма. Он здоров, или находится в так сказать своем естественном состоянии, только когда наслаждается миром» [Jaucourt, Boucher d’Argis, 1765, р. 768]. Таким образом, мир признается нормой, а война ее искажением. Такого рода теория разительно расходилась с практикой XVIII в., когда и в России, и в Европе шла череда непрекращающихся войн. И эта практика, порождавшая свои модели поведения, формировала представления о войне как источнике чести и славы, и одновременно наград и карьеры.
Вместе с тем в противопоставлении «свобода – деспотизм» война могла осмысляться и как средство борьбы против тирании за восстановление исконной свободы. В представлении Руссо и Радищева народ имеет безусловное право на вооруженное восстание в случае узурпации его природных прав. Если правитель, назначенный для того, чтобы «равенствó в обществе блюсти» (Радищев), присваивает себе все права и выступает в роли тирана, то общественный договор считается расторгнутым, и начинает действовать естественное право народа на самозащиту. Поэтому гражданский мир в значении «тишина» и «покой» ни для Руссо, ни для Радищева не ассоциировался с общественным благополучием. «Руссо, – пишет Ю.М. Лотман, – неоднократно высказывался против государственной устойчивости, “тишины и покоя” как несовместимых со свободой» [Лотман, 1992, с. 152]. Внутренний мир мог для него ассоциироваться с неволей и выступить в одном семантическом ряду с внешними войнами.
В «Общественном договоре» Руссо читаем: «Скажут, что деспот обеспечивает своим подданным гражданский мир. Пусть так, но что же они от этого выигрывают, если войны, которые им навязывает его честолюбие, если его ненасытная алчность, притеснения его правления разоряют их больше, чем это сделали бы их раздоры? Что же они от этого выигрывают, если самый этот мир становится одним из их бедствий? Спокойно жить и в темницах, но разве этого достаточно, чтобы чувствовать себя там хорошо? Греки, запертые в пещере циклопа, спокойно жили в ней, ожидая своей очереди быть съеденными» [Руссо, 1969, с. 155–156]. Итак, внутренний мир может являться источником внешних войн и прочих притеснений, если он не сопряжен с общественной свободой. Но свобода требует не мира, а постоянной готовности народа поднять восстание. «Право народа на восстание и его готовность это право реализовать гарантируют народный суверенитет от деспотизма администратора» [Лотман, 1992, с. 54].
Соединение понятий «война» и «свобода» наполняло старую идею справедливых войн новым содержанием. Если Гроций видел справедливую (торжественную) войну в соблюдении всех необходимых формальностей, то для просветителей она становится способом защиты естественных прав человека. Подытоживая эти идеи, Луи де Трессан писал в Энциклопедической статье: «При естественной защите я имею право убить, ибо моя жизнь принадлежит мне, как жизнь нападающего на меня – ему; также и государство ведет войну справедливо, ибо его сохранение является справедливым, как и сохранение любого другого государства» [Энциклопедия, 1978, с. 202]. Войны, преследующие иные цели, признаются несправедливыми.
Итак, внутри государства действует общественный договор, обеспечивающий внутренний мир и свободу, а между государствами – естественное право. Как справедливо заметил в свое время академик М.П. Алексеев, «для виднейших философов-материалистов и публицистов этого времени главные вопросы, подлежащие решению, сосредоточены были не в области международных отношений, но в сфере внутренней общественно-политической жизни» [Алексеев, 1984, с. 190]. Тем интереснее, что именно в эпоху Просвещения актуализируются проблемы вечного мира. Не останавливаясь подробно на содержательной стороне этих проектов [Андреева, 1975; Чудинов, 1995; Алексеев, 1994; Рудницкая, 2003; Орлов, 2017], скажу несколько слов об их месте в философии Просвещения.
В одной из фундаментальных просветительских антитез «Разум – Предрассудки», войны, за исключением справедливых, либо относились к предрассудкам, либо мыслились как их порождение. Идея общественного договора сама по себе исключает возможность войн, так как люди никогда о войнах не договариваются. Войны возникают в ситуации, когда общественный договор расторгнут, и начинает действовать естественное право. Поэтому внутренний мир в государстве гарантируется строгим соблюдением установленных соглашений. Для этого граждане должны строго следовать ограничениям, налагаемым на них этим договором. Руссо рассматривал общество как единую нравственную личность (personne morale), растворяющую в себе воли отдельных людей. Вступив в общество, человек утрачивает естественные права и перестает быть человеком. Само слово «гражданин», в представлении Руссо, является антонимом слова «человек». Общество только тогда справедливо и крепко, когда пользуется всеми теми правами, какими пользуется человек в естественном состоянии, а для этого необходимо растворить все индивидуальные желания («волю всех») в «общей воле». Человек утрачивает свою целостность и превращается в дробь. Руссо обосновывал это следующим образом: «Человек-гражданин – это лишь дробная единица, зависящая от знаменателя, значение которой заключается в ее отношении к целому – к общественному организму. Хорошие общественные учреждения – это те, которые лучше всего умеют изменить природу человека, отнять у него абсолютное существование, чтобы дать ему относительное, умеют перенести его я в общую единицу, так как каждый частный человек считает себя уже не единым, частью единицы и чувствует только в своем целом» [Руссо, 1981, с. 28][7].
Таким образом, ценой внутреннего мира является полный отказ личности от своего я. Руссо не видел каких-то сложностей, связанных с насилием над личностью потому, что, как и большинству просветителей, человеческая природа ему представлялась простой: все люди одинаково добры и все равны от природы. Поэтому понять друг друга и договориться для них не представляет труда.
Из идеи природного равенства людей вытекала еще одна важная черта Просвещения – отождествление человека и человечества. На все человечество переносились представления об отдельно взятом человеке. Между государствами существуют такие же отношения, как и между людьми. Они могут строиться как на основе естественного права, так и на основе договора. Первое не исключает участия в войнах, так как каждое государство вправе стремиться к максимальному удовлетворению своих потребностей. Поэтому если хотят избежать войн, то необходимо строить отношения между государствами на тех же принципах, на которых построены внутригосударственные отношения. В идеале это должно было привести к созданию универсальной республики.
Такие проекты в истории европейской культуры неоднократно выдвигались. В мемуарах министра Генриха IV М. Сюлли подробно излагается план создания общеевропейской христианской республики. Для этого, с одной стороны, требовалось изгнание турок с европейского континента, а с другой – расчленение империи Габсбургов. Однако если для Генриха и его министра идеи объединения Европы имели прежде всего политический смысл и вели к укреплению могущества Франции, то для просветителей идеи универсального государства непосредственно вытекали из их философских представлений о единстве человеческого рода и тождестве человека и человечества. Только в рамках единого общечеловеческого государства вечный мир станет реальностью. Но прежде чем это произойдет, необходимо добиться строгого соблюдения общественного договора внутри каждого государства.
В годы Французской революции идеи универсальной республики и вечного мира соединились с намерением экспортировать революцию во все страны. Идеологом этих настроений стал Анахарсис Клоотс. Голландец по происхождению, прусский барон по социальному положению и французский революционер по убеждению Клоотс называл себя «оратором рода человеческого». 14 июля 1790 г. во время праздника объединения Клоотс явился перед Национальным собранием во главе костюмированной процессии, представляющей народы мира, и провозгласил себя «главным апостолом Всемирной республики». Клоотс считал, что «коллективное честолюбие» так же разъединяет народы, как «индивидуальное» честолюбие» разобщает отдельных людей. Но подобно тому, как общественный договор кладет конец стремлению одного человека вредить другому, так и договор между народами положит конец войнам. Для этого требуется, чтобы все люди стали гражданами Всемирной республики, и тогда «организм не будет воевать сам с собой, и род человеческий заживет в мире только после того, как станет одним организмом, единой нацией» [Чудинов, 1995, с. 212].
Уже Генриху IV и Сюлли было ясно, что объединение Европы и идея вечного мира могут быть осуществлены только ценой глобальной войны. Это остановило Руссо, много размышлявшего над этими проблемами, от пропаганды вечного мира. «Давайте, – писал он, – отдав дань восхищения столь прекрасному плану, утешимся тем, что никогда не увидим его осуществленным: ибо это может быть совершено лишь при помощи средств, насильственных и опасных для человечества» [Руссо, 1969, с. 150]. Но это предостережение не остановило французских революционеров, развязавших длинную серию европейских войн во имя единства и счастья человеческого рода.
Базельский мир между Францией и Пруссией, подписанный в апреле 1795 г., хоть и не означал прекращение общеевропейской войны, для Канта он стал поводом обсудить в новых исторических условиях старые проблемы вечного мира. Кант переосмысляет традиционное противопоставление войны и мира как двух постоянно сменяющихся в истории состояний человечества. Само понятие вечного мира философ считает «подозрительным плеоназмом», так как в его представление мир – это не только отсутствие войны, но и отсутствие причин, способных порождать войны. Мир может быть только вечным, а любой другой мир всего лишь перемирие, не меняющее, по сути, перманентное состояние войны, в котором находится человечество. В отличие от просветителей, противопоставляющих естественное и гражданское состояние человека и связывающих войну то с одним, то с другим состоянием, Кант снимает это противоречие. Для него, как заметил И.Г. Фихте, «существование в государстве – единственное естественное состояние человека» [Фихте, 2003, с. 245]. Кант диалектически соотносит понятие войны и мира. С одной стороны, «естественное состояние… есть состояние войны», с другой стороны, «разум с высоты морально-законодательной власти, безусловно, осуждает войну как правовую процедуру» [Кант, 1994, с. 13, 21]. Тем не менее война играет важную роль в истории. Она создает государства, способствует расселению людей по всей планете, совершенствует форму правления, а главное, она диалектически сама себя отрицает, переходя в мирное состояние. Переход от войны к миру осуществится не благодаря и не вопреки усилиям отдельных людей. Он имманентен самой природе (судьбе, провидению), которая приводит к «согласию людей с помощью разногласия даже против их воли» [Там же, с. 26]. Мир, по Канту, возможен лишь при республиканской[8] форме правления, которая неизбежно установится при столь же неизбежной гармонизации отношений политики и морали. Процесс наступления всеобщего мира видится Канту как образование республики у «какого-нибудь могучего и просвещенного народа», к которому как к «центру федеративного объединения» примкнут остальные государства с аналогичной формой правления. «Философский проект» Канта, переосмысляя идеи просветителей, открывал дверь в XIX столетие.
* * *Первые полтора десятилетия XIX в. выбраны нами не случайно. Этот период в истории России отмечен повышенной военной активностью: c 1805 по 1814 г. Россия участвовала в восьми войнах: трижды она воевала против Франции, а также против Турции, Персии, Англии, Швеции и Австрии [Троицкий, 1988, с. 20]. По завершении Большой европейской войны 1812–1814 гг. и последнего ее пароксизма – Ватерлоо, император России выступил с мистической идей глобального европейского мира под эгидой Священного союза. Никогда еще Россия не была так тесно интегрирована в Европу. Все это, безусловно, влияло на сознание людей и становилось предметом культурной рефлексии. Начало XIX в. – период романтизма в истории русской культуры. Возникший на рубеже столетий и отразивший переломную эпоху с ее резким переходом от веры во всемогущество человеческого разума к разочарованию в нем, как и в самой природе человека, романтизм, с одной стороны, переосмыслял многие фундаментальные идеи Просвещения, а с другой – развивался под его сильным воздействием.
Просвещению с его стремлением к обретению гармонии, интегрирующей человека в природу или справедливое общество, народы в одну семью и т. д., романтизм противопоставил дисгармонию, разрывающую отношения человека и социума. Человек эпохи романтизма – это не простодушный дикарь и не идеальный гражданин, а одинокая личность с уникальным внутренним миром. Этот человек не может понять другого и не может быть понятым другим. Герой романтизма, как правило, узник, изгнанник, беглец, человек, поправший пошлую мораль толпы и расплачивающийся душевным одиночеством за свое величие.
Проблемы войны и мира также были переосмыслены романтическим сознанием. Упомянутое выше просветительское противопоставление мира (как здорового состояния политического организма) войне (как его болезненному состоянию) в какой-то степени было усвоено романтиками. Но сама болезнь, дисгармония и хаос в системе романтизма нередко эстетизировались и переживались как освобождение от мертвящей неподвижности социальных отношений. Война в этом смысле могла приравниваться к очистительному огню, в котором сгорают мещанские принципы земного мира. Но в то же время романтики стремились к обретению высшей небесной гармонии, недостижимой на земле, и тогда войны и раздоры людей могли ассоциироваться с пошлостью обыденной жизни. Героика войны и ее осуждение с позиций неземного идеала в равной степени присущи романтическому мироощущению.
Противопоставляя себя Просвещению, романтики нередко стремились обрести идейную почву в тех системах, которые были в свое время отвергнуты просветителями. Так начинается романтическая реабилитация Средних веков и христианского мироощущения. Все это влияет и на новое понимание войны и мира.
Предметом предлагаемого исследования является идеология Наполеоновских войн и постнаполеоновского мира в том виде, в каком она формировалась и трансформировалась в России на пути от революционных войн, начатых Францией в преддверии XIX в., к Священному союзу, в котором сложно пересекались идеи мистического христианства с объединительными тенденциями XVIII в.
Считаю приятной обязанностью поблагодарить Любовь Николаевну Киселеву, прочитавшую рукопись этой книги и сделавшую множество ценных замечаний, которые я не мог не учесть. Особую благодарность выражаю Анастасии Геннадьевне Готовцевой, взявшей на себя нелегкий труд оформления библиографического указателя.
Глава 1
Девятнадцатый век начинается…
(Начало века как типологическая характеристика)
Существует некий парадокс, заключающийся в том, что такая условная и субъективная вещь, как хронология, порождает вполне реальные исторические периоды. Одно из объяснений этого заключается в том, что недискретное физическое время, попадая в сферу человеческого сознания, как бы разламывается на куски, и эти куски, называемые хронологическими отрезками, получают семантическую окраску. Мы без труда отличаем один век от другого, при том что само понятие «век» – фикция, придуманная людьми. Иными словами, люди придумали хронологию для того, чтобы ориентироваться в непрерывном временном потоке, и сами же оказались от нее в зависимости. Психология людей, живущих на рубеже веков очевидно отличается от психологии людей, живущих в середине века. Люди, вступающие в новый век, еще мыслят в категориях века прошедшего. И произнося суд над уходящим временем, как это делает, например, Радищев в стихотворении «Осмьнадцатое столетие», с новым веком они связывают в первую очередь несбывшиеся надежды прошедшего столетия. То, что не получилось тогда, должно получиться после пересечения временной границы. Так, у Радищева безумие XVIII в. поглотит море вечности, а его мудрость, воплощенная в деяниях Петра I и Екатерины II, продолжится в XIX в., в правление Александра I:
Петр и ты, Екатерина! дух ваш живет еще с нами.Зрите на новый вы век, зрите Россию свою.Гений хранитель всегда Александр будь у нас…Как сильно должны были поменяться представления вчера еще революционно мыслящего просветителя Радищева, чтобы царь, открывающий двери в новое столетие, сделался для него воплощением тех представлений об идеальном монархе, которые сложились в XVIII в., и которые сам Радищев еще недавно подвергал серьезным сомнениям в своем знаменитом «Путешествии». Смена веков представлена в стихотворении Радищева как смена суток. Каждый век имеет свое «дневное» и «ночное» время. «Днем» совершается прогресс, «ночью» – преступления. Ужасы Французской революции стали «ночным» временем для XVIII в., «и человек претворен в люта тигра еще». Начало XIX в. – новый рассвет в истории:
Утро столетия нова кроваво еще нам явилось,Но уже гонит свет дня нощи угрюмую тьму.Таким образом, запускается новый исторический цикл. Люди, вступающие в новое столетие и уже прожившие в нем некоторое время, могут по-разному оценивать самое начало века. Так, например, А.А. Бестужев-Марлинский писал в 1830‑е годы: «XIX в. взошел не розовою зарею, а заревом военных пожаров» [Бестужев, 1981, с. 422], что, конечно, не соответствовало действительности и являлось, скорее всего, аберрацией памяти. На рубеже веков будущему декабристу было четыре года, и его первые сознательные впечатления приходятся на военный период. Совершенно иначе вспоминал об этом же времени старший современник Марлинского Ф.Ф. Вигель (рубеж веков он перешагнул в 15‑летнем возрасте):
После четырех лет [Павловского правления. – В. П.] Екатерина воскресает от гроба в прекрасном юноше. Чадо ее сердца, милый внук ее, возвещает манифестом, что возвратит нам ее времена…. Но нет: даже и при ней не знали того чувства благосостояния, коим объята была вся Россия в первые шесть месяцев владычества Александра. Любовь ею управляла, и свобода вместе с порядком водворялись в ней. Не знаю, как описать то, что происходило тогда; все чувствовали какой‑то нравственный простор, взгляды сделались у всех благосклоннее, поступь смелее, дыхание свободнее [Вигель, 2003, кн. 1, с. 170][9].
И более старшему поколению, приветствующему в начале века восшествие на престол Александра I, казалось, что в мире воцарились тишина и порядок, и теперь войн больше не будет. Эти ожидания, в частности, были высказаны Н.М. Карамзиным в стихотворении «Его императорскому величеству Александру I, самодержцу всероссийскому, на восшествие его на престол». Екатерина прославила русское оружие («Уже воинской нашей славы // Исполнен весь обширный свет»), а Александр должен продолжить ее славные дела, но уже не на военном, а на мирном поприще («Монарх! Довольно лавров славы, // Довольно ужасов войны!.. // Ты будешь гением покоя»).
По-иному с веком Екатерины II начало александровского царствование связал Семен Бобров. В стихотворении «Глас возрожденной Ольги к сыну Святославу» представлена историческая аллегория, скрывающая под именами княгини Ольги, ее сына Святослава Игоревича и внука Владимира Святославича отношения Екатерины II, Павла I и Александра. Христианка Ольга осуждает завоевательную политику своего сына язычника Святослава. Ее тень, обращаясь к Владимиру, произносит:
Владимир! – Ольги внук, Владимир,Тебе реку: внемли! – В час гневныйМой сын, несчастный твой отец,Оставил ввек сей дол плачевный,Приял и дел и дней конец.Лишь росс со мной навек простился,И зреть меня он в нем не смел,Как и того теперь лишился.Владимир должен теперь по смерти отца вернуться к тому, что было завещано Ольгой и отвергнуто Святославом:
Чертеж небесный и священный,Чтобы народ весь возродить,Оставлен на случай пременный.Чертеж сей должен ты открыть.«Чертеж» – это знаменитый Наказ Екатерины II Уложенной комиссии. Речь идет о том, что Александр должен вернуться к политике просвещенного абсолютизма и предстать перед своими подданными не как его отец, воинствующий деспот, а как бабка-законодательница:
Чертеж теперь славянам лестенВ нем целый дух мой помещен,А дух душе твоей известен.Разгни его! – и росс блажен.Ты узришь в нем, что дар сладчайший,Что небо земнородным шлет,Есть царь любезный, царь кротчайший,Который свой народ брежет.Таким образом вводится тема просвещения как антитезы войне:
Питомец мой багрянородный!Ты должен мудрость насаждатьСреди пелен в умы народны,Чтоб с сердцем души воспитать.При этом просвещение ассоциируется не с насилием, как это нередко бывало в истории России [Парсамов, Шанская, 2003, с. 243–260], а с любовью, которая является лучшей защитой монарха: «любовь, одна любовь – твой щит». Поэтому Святослав (Павел), исповедующий войну – не просветитель:
Отец твой не был просветитель,Он витязь, – к рыцарству рожден.В религиозном же плане он уподобляется Юлиану Отступнику. В то время как Ольга (Екатерина)
…водрузила божье знамяВ холмах Аланских с чертежом;В Иулиане гибло пламя…[Бобров, 1971, с. 123–126].Поэтому задача Владимира (Александра) возродить наследие бабки: «Ты возроди», – обращается к нему Ольга (Екатерина). Таким образом, создается поэтический миф: некое идеальное начало, ассоциирующееся с миром и законом, в роли которого могут выступать как христианство, так и законодательство; дальнейшая порча, выражаемая войной или деспотизмом; и, наконец, восстановление исходного состояния мира и порядка.
Люди начала столетия при всей их субъективной ориентированности на новизну и устремленности в будущее еще пользуются знаками предшествующего столетия, но уже вкладывают в них иное семантическое наполнение. Особенно это заметно на таком понятии, как «просвещение». В России, начиная примерно с середины XVIII в., слово «просвещение» использовалось как калька с французского les Lumières и соотносилось с философией Просвещения. Просвещенный человек – это, прежде всего, человек, философски взирающий на вещи. В более широком смысле «просвещение» являлось синонимом европеизма. В это смысле просвещенный человек – это человек, получивший европейское образование. Подспудно за этим скрывалось первоначальное церковнославянское значение слова: «Просвещати… значит: крестить, сподобить св. Крещения» [Алексеев, 1816, с. 348]. Однако в обоих случаях имелся инвариант: внесение света во тьму. Это мог быть и свет истинной веры, рассеивающий мрак ложных верований, и торжество разума над предрассудками. Культурная ситуация начала XIX в., в которой сложно переплетались идеи просветителей, разочарование в них, рост религиозных настроений и т. д. превращало слово «просвещение», в силу его терминологической неустойчивости, в мощное оперативное понятие. В этом смысле интеллектуальная деятельность людей начала XIX в., так или иначе связанных со сферой образования, может быть интерпретирована и как антипросветительская – поскольку она была направлена против влияния просветителей XVIII в., и как просветительская – поскольку ее целью было распространение религиозных идей.