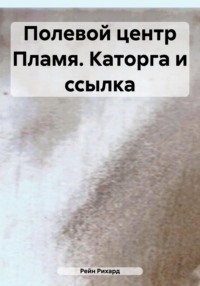Полная версия
Полевой центр Пламя. Каторга и ссылка

Предисловие
Писать воспоминания о восстании 1905 года и последующих реакционных годах или хотя бы об отдельных моментах этого движения, не имея под рукой соответствующих необходимых справок, писать спустя двадцать лет, является делом чрезмерно тяжелым; тем не менее я решил, насколько позволяет память, об этом написать.
Поступить так побудило меня то обстоятельство, что, разыскивая в продолжение более двух лет по всем архивам дело свое и моих сопроцессников, я убедился, что это чрезвычайно трудно, ибо оказывается, что дела бывшей Шлиссельбургской каторги, Бутырок и бывшего тюремного управления сожжены, и если что-либо где и имеется, то никакими усилиями ничего не найдешь.
В результате всех поисков и переписки мне посчастливилось недавно через Латсекцию Коминтерна раздобыть копию заключения бывшего военно-прокурорского надзора петербургского военно-окружного суда по делу о вооруженном восстании в посаде Руен и его окрестностях в 1905 году и, кроме того, из Латвии—фотографический снимок одного из моментов этого восстания. Имея эту копию в качестве материала для частичного хотя бы описания восстания 1905 г., я думаю, что мои беглые воспоминания об этом восстании окажутся не бесполезными для молодого поколения, а, может-быть, даже и для историка, и поэтому, я надеюсь, что читатель мне простит возможные и невольно допущенные в этих воспоминаниях погрешности.
Полевой центр пламя
Посвящается смене—комсомольцам и пионерам.
Это случилось тогда, когда, по статистическим сведениям, Лифляндской и Курляндской промышленных инспекций, в Лифляндии промышленных предприятий насчитывалось 372, где было занято 60.507 рабочих, а в Курляндии 159 промышленных предприятий с 14.095 рабочими, не считая предприятий и рабочих, находившихся вне ведения фабричных инспекций.
Это случилось тогда, когда помещичье – баронской земли по одной Лифляндской губернии числилось около 1.800.000 десятин, а крестьянской – лишь 1.121.269 десятин, к этому нужно еще прибавить и церковные (пасторские) земли, которые занимали немалое место в общем земельном фонде, вследствие чего оказалось, что в пользовании прибалтийского крестьянина находилось всего 39% всего земельного фонда Лифляндии. Такая же картина наблюдалась и в Курляндии и Эстляндии.
Кроме того, почти все леса находились во владении помещиков, за исключением небольших лесных площадей, находившихся в ведении государства.
Помещикам принадлежало право открывать корчмы (пивные), пивоваренные и винокуренные заводы, а также право на охоту и рыбную ловлю, тогда как все повинности были возложены на крестьян; в частности, дорожные повинности, по «скромным» подсчетам бывшего Лифляндского губернатора Зиновьева, исчислялись по одной только Лифляндской губернии в 400.000 рубля в год, а Земцев, основываясь на данных сенатора Манасеина, определил эту сумму в 1.106.393 рублей. Правда, «милостивые» бароны-помещики отпускали для нужд дорог материалы, но они, по показаниям того же «милостивого» губернатора Земцева, определялись в денежном исчислении в 15.192 рублей в год.
Помимо этого, средний волостной бюджет по Лифляндии равнялся около 1500000 рублей в год, каковая сумма покрывалась, главным образом, за счет так-называемого «головного» налога, собираемого с каждого мужчины, достигшего 16-летнего возраста, причём, в большем размере с батраков и рабочих, не считаясь ни с их заработком, ни с материальным положением их семей.
Пишущий эти строки, состоя учеником типографии и получая лишь 10 рублей в год на хозяйских харчах, уже на шестнадцатом году от роду платил 4 рубля 80 копеек этого налога в год, а на семнадцатом году, получая те же 10 руб. в год, платил 7 рублей 20 копеек.
Нужно заметить, что отсрочек платежа бедняку не допускалось, и на его заработок накладывался арест, тогда как крупные хуторяне, имея от 40 до 50 и больше десятин земли, подчас не платили этого налога по 2-5 и даже больше лет, после чего «каким-то способом» с них списывали уплату этого налога «по несостоятельности» и прочее.
Если ко всему сказанному еще прибавить, что, помимо всяких «законных» и «незаконных» налогов, сборов и повинностей со стороны царского правительства и его агентов баронов- помещиков, еще немало повинностей и сборов прибалтийский батрак и рабочий, а также и крестьянин (серый барон) несли по обслуживанию церковнослужителей-пасторов, то картина наигнуснейшей эксплуатации трудового народа в Прибалтике будет ясна. Эти повинности, сборы и налоги в пользу духовенства выражались в следующем: еще с феодальных времен латышский крестьянин регулярно должен был отчислять от своего урожая так-называемые «сецин» (Seezin), что составляло с каждого хуторянина, в зерновом отчислении (с ржи, ячменя, гречихи и прочее), от 27 до 30 фунтов с каждого вида зерна; в общем и целом ни один из этих духовных отцов не производил «околпачивания» народа, играя на его несознательности, дешевле трех тысяч рублей «чистоганом» в год; имелись и такие приходы, где духовные отцы зарабатывали до 10 тыс. руб. и больше в год и, накопив свои «маленькие» сбережения в течение 3-5 лет, покупали имение ценою от 50 до 100 тысяч рублей. Кроме этого, крестьянин обязан был обрабатывать землю своего «духовного отца», строить необходимые ему постройки и прочее; однако, все это и отчисления, о которых я говорил выше, не освобождали крестьянина от отчислений яйцами, птицей и тому подобным.
Независимо от этого, «все грехи» отпускались духовными отцами за определенную плату. Если иногда и списывались долги за молитвы «за упокой», «во здравие» и прочее, то «грехи» за неуплату причитающихся отчислений духовному отцу никогда не прощались; так что иногда покойник простаивал на кладбище у могилы по нескольку часов в ожидании, пока духовный отец сторгуется с родными покойного об оплате за «труд» и о «сроке» уплаты просроченных им платежей.
Случалось, что бедняку нечем было платить, и он принужден был бегать по своим знакомым – лишь бы набрать 2-3 рубля, чтобы заплатить пастору и иметь возможность зарыть в землю покойника.
Все эти проявления бесшабашной эксплуатации латышского крестьянина, батрака и рабочего привели к тому, что против ожиданий и чаяний буржуазии и помещиков всей России, лавирующих и выбирающих в царских палатах между «диктаторством Трепова» и хитростным манифестом 17-го октября графа Витте – прибалтийский крестьянин, батрак и рабочий, не выдержав долее этой эксплуатации, поднял знамя открытого восстания против своих поработителей.
Об этом в конце 1905 и в начале 1906 годов прибалтийские бароны и их покорные слуги – редакторы реакционных газет с ненавистью писали: «…Мы надеемся, что латышам будет отведено почетное место в русской революции…».
Отводимое «почетное место» латышам в русской революции, конечно, понималось и проводилось в жизнь виселицами, ссылками, каторжными работами, поркой, расстрелами «по суду и без суда» и прочими мерами, предпринимаемыми царскими слугами, «ради обезвреживания» социалистических настроений. Воспоминаниями об одном из этих отведенных нам, латышам, почетных мест я и желаю поделиться с читателями.
Дело происходило в местечке Руен и его окрестностях, Лифляндской губернии, Вольмаркского уезда.
Еще задолго до царского «милостивого» манифеста 17-го октября 1905 года, сфабрикованного графом Витте,—а именно в период 1902-1903 годов, в наши районы стали проникать слухи о каких-то «социалистах», листках, прокламациях, воззваниях и прочее; одни говорили, что социалисты хотят помочь рабочим и крестьянам улучшить их материальное положение, другие называли их безбожниками, грабителями, стремящимися не то свергнуть, не то убить царя; говорилось все это как-то втайне, с глазу на глаз, но все же распространялось.
Подчас муж с женой, с опаской говоря об этих слухах и посматривая —одни на свое «барахло», а другие на свои сбережения, одни вздыхая, что всё отнимут, другие внутренне радуясь, что нечего отнять, а может быть дадут, – старательно стремились избегать присутствия детей при этих разговорах, особенно детей старшего возраста, – мол, разболтают, да горя наживут на все семейство.
Чем больше в таких случаях секретничали, тем сильнее рос интерес к этому у детей, и последние, проделывая головоломные штуки, ухитрялись все это подслушивать, передавали затем своим приятелям, обсуждали сообща и, накормленные со школьной скамьи всевозможными «лубками», вроде «Предводителя бандитов Ренальдо-Ренальдини», сейчас же строили свои планы всяк по-своему: кто сейчас же хотел быть командором этих социалистов, громить всё, что надо, а кто и громить самих социалистов-безбожников, обижающих царя, и тому подобное, – словом, рассуждали, кто во что горазд.
Как-то в конце осени 1903 года, когда эти слухи уже почти было притихли, вдруг в наше местечко нагрянуло несколько человек жандармов и произвели кое у кого тщательные обыски, но, никого и ничего не забрав, уехали. Снова поднялись разговоры о социалистах, о листках; а тут как раз и оказалось, что кто-то что-то нашел, читал, видел и доставил в полицию. Власть, в свою очередь, как-то особенно насторожилась, и полицейские, по вечерам и ночам прогуливаясь по местам скопления публики, таинственно между собой переглядывались, а иногда и перешептывались.
Мы, молодежь, решили, что во всех этих слухах и разговорах «что-то есть»; мы, рабочая молодежь, как-то чутьем чувствовали, что «социалисты» – это друзья и защитники трудового народа и что наше дело их найти, помочь им; в чем и как, – мы и сами себе не представляли, но почему-то нам казалось, что рабочие их знают, а через них и мы должны их найти и узнать. Мы стали искать, допытываться – особенно у фабричных рабочих. Нас отталкивали, подчас высмеивали, что, в свою очередь, еще больше нас раздражало, томило и, наконец, порождало злость и ругательства по поводу того, что нам не хотят сообщить, что нам не доверяют, а, может быть, и сами об них ничего не знают. Мы бранились, умоляли отдельных рабочих не считать нас предателями и познакомить с «социалистами». Все наши происки, однако, оказались безрезультатными.
Так прошла зима и весна 1903 —1904 годов, наступило лето. Проработав после школьной скамьи почти два года на конфетной фабрике в качестве мальчика, где я получал в первые месяцы по 5 копеек за 13-ти часовой рабочий день, а впоследствии по 1 рубль 50 копеек в неделю за тот же рабочий день, я поступил в 1902 году в типографию Шкинкиса учеником, все же не теряя, однако, связи с рабочими и работницами конфетной фабрики и имея с ними частые встречи и беседы. С открытием ножевой фабрики «Амор» я быстро познакомился и связался и с ее рабочими, среди них было много рабочих из города Риги.
Не помню точно, было ли это в начале или в конце мая 1904 года, но как-то раз, в праздничный день, гуляя в парке, я встретил одного из этих рижских рабочих ножевой фабрики, по фамилии, кажется, Саулит.
Поздоровавшись, мы пошли рядом, сначала разговор зашел о погоде, а затем, зная, что я страстный рыболов, мой спутник стал расспрашивать меня о моих успехах в этой области. Отвечая на вопросы и развивая свои соображения на этот счет, я вдруг инстинктивно почувствовал, что беседа о рыболовстве вовсе не та тема, на которую он собирается со мной говорить, и, очевидно, от мысли, что он хочет говорить именно о том, о чем я давно мечтал, то есть о «социалистах», жар пробежал по всему моему телу и я, кажется, очень покраснел, что, в свою очередь, вызвало некоторую тревогу на лице моего собеседника, и последний, взяв меня под руку и отведя в сторону, предложил присесть на травку «погреться» на солнышке.
Мы уселись, и он тотчас же завел разговор о мизерных заработках местных рабочих, о слишком продолжительном рабочем дне, о непристойном поведении духовенства и полиции, которых наша молодежь терпеть не могла, и говоря обо всем этом, он как-то испытующее поглядывал на меня, меня эти взгляды не особенно смущали, и я с нетерпением ждал, когда он заговорит о «социалистах». Как бы угадывая мою мысль, он перешел на разговор о том, что он слышал, что имеются организации, которые ведут борьбу со всеми этими ненормальными явлениями, стремясь устроить жизнь по-новому, что он лично хотел бы с ними познакомиться, но не знает как.
Я ему тут же ответил, что и у меня имеется такое стремление, но что все мои поиски в этом направлении остались безрезультатны. Тогда товарищ Саулит, пытливо посмотрев на меня, резко изменил разговор и спросил:
– А вы знаете, что делает полиция с социалистами-бунтарями?
И тут же прибавил:
– В тюрьмы сажает и вешает.
Хотя меня его странный тон и резкость несколько и поразили, но меня не удивило последнее заявление о тюрьмах, и виселицах, так как я, в общей массе слухов, достаточно об этом наслышался, и я ему, насколько было возможно при таком разговоре и в те времена, спокойно ответил:
– Что ж, я об этом слышал…
Мы несколько помолчали, после чего он снова спросил:
– А вы слышали о провокаторах?
Я ответил, что это слово мне незнакомо.
– А о предателях?..
Об этом слышал, но если вы думаете, что я способен быть предателем, то глубоко ошибаетесь, – возразил я, и окончательно не понимая такого тона разговора, встал.
Полулежа еще на траве, т. Саулит несколько насмешливым, спокойным тоном продолжал:
– Я вас таким, конечно, не считаю, но если бы вы и были бы способны на предательство, то вам некого было бы и предать, социалистов вы не знаете, и я тоже не социалист.
В ответ на это я, со всей ненавистью к нему и смотря ему прямо в глаза, сказал:
– Следовательно, вы сами предатель, полицейский слуга и ищите кого предать!..
И с этими словами я собрался уже было уйти; но он, вскочив с места, взял меня крепко под руку и, направляясь вперед, сказал:
– Пойдем, я кое-что тебе покажу…
И по дороге через кладбище, улучив минуту, когда никого не оказалось поблизости, он сунул мне в руку какой-то свернутый клочок бумаги, сказав:
– Спрячь, никому не показывай и прочти.
И попрощавшись со мной, он ушел.
Горя нетерпением узнать, что это за сверточек, я направился домой. Зайдя в комнату, где со мной проживали отец и мать, и убедившись, что мои родители на месте и здесь мне делать нечего, я забрался в чулан, где, развернув этот таинственный сверточек, который оказался изданием (изрядно потрепанным) латвийской социал-демократической рабочей партии «Zihna» (Борьба), с жадностью стал его читать и перечитывать. Но, к сожалению, больше половины того, что читал, я не понимал, а то, что понял, рисовалось мне, – насколько об этом теперь, по истечении 20 лет, память позволяет судить, – в следующей формуле: «надо бороться за общее лучшее будущее». Но как – я себе все же не представлял… Возник и другой вопрос: что делать с газетой?.. Уничтожить – пожалуй, не следует; передать кому-либо из своих товарищей – не имею права без разрешения тов. Саулит. В конце концов я решил сохранить ее и, тщательно завернув, спрятал сверток в чулане между крышей и одной из поддерживающих ее балок.
Я хотел в тот же день, вечером, повидаться с товарищем Саулит, но, к сожалению, не встретил его. Так прошло два дня, наконец, на третий день, вечером, узнав квартиру товарища Саулит и горя желанием получить еще что-либо подобное для чтения, я направился к нему. Отведя его в сторонку от домашних, я спросил, имеется ли у него еще что-нибудь вроде «Борьбы», одновременно предупредив его, что он может на меня вполне положиться. Ответив, что у него ничего более не имеется, он предложил мне отправиться, восвояси и ждать, пока я ему не понадоблюсь. Я понял, что это, тоже относится и к вопросу об имеющемся у меня номере „Борьбы".
Опять наступили часы и дни неизвестного ожидания и тревоги, и, нужно сказать, часы и дни долгие, кажущиеся годами…
Несколько времени спустя, как-то вечером после работы, ко мне подошел мой давнишний товарищ по работе на конфетной фабрике «Фортуна» – товарищ Лисиц, поздоровавшись и обменявшись разными мелочными вопросами и ответами на них, мы направились на старое кладбище, находящееся в центре местечка и расположенное рядом с парком (если вообще можно назвать парком клочок земли в центре местечка, заросший редкой ивой и сосной – без всякой планировки).
Зная мою ненависть к духовенству, полиции, а также к предпринимателям и зная меня, по работе на конфетной фабрике, как надежного товарища, который не выдаст, он, напомнив мне о том, о чем я говорил с товарищем Саулит, и о прочитанной мною, «Zihna», сейчас же заявил, что он один из тех, кого я так долго искал и кто ведет борьбу со всеми замеченными мною в жизненном водовороте ненормальностями и с повсеместной эксплуатацией. В ответ на это я успел только воскликнуть:
– И ты до сих пор все это от меня скрывал!..
На это тов. Лисиц, улыбаясь, ответил:
– Ты еще слишком молод и поэтому необходимо было тебя проверить.
Однако, проверять было нечего, ибо я еще никаких поручений от партии, которую я так долго искал, не имел.
Оказалось, что товарищ Лисиц состоял членом латышской социал- демократической рабочей партии и что ему поручено вместе со мной организовать в местечке Руен кружки из рабочей молодежи, просвещать эти кружки, распространять листки (прокламации) и прочее. Согласившись с ним и заявив, что готов на все, я все же должен был сознаться, что пока что я еще и сам ничего не понимаю и не знаю и поэтому вряд ли сумею кого-либо просвещать; разбрасывать же в нашем районе прокламации и прочее, по моему мнению, при известной осторожности, мне будет весьма нетрудно. На мои рассуждения тов. Лисиц ответил:
– Была бы охота и желание, а как организовать и как приступить к просвещению этой молодежи, я тебя для начала научу, а там дальше, читая и учась, ты сумеешь научить и других…
На прощание он добавил, что вообще вся эта работа должна вестись в условиях строжайшей конспирации и что видеться мне с ним впредь придется пореже и то – в условленных местах.
Нужно сказать, что его соображения были вполне правильны, так как к тому времени латышская молодежь почти никаким самообразованием не занималась; клубов не было, а если таковые и существовали, то лишь для зажиточно-интеллигентской части населения; газет и книг не читали, так как тех незначительных грошей, которые молодежь зарабатывала, нехватало и для уплаты налогов (поголовного), покупки одежды и пропитания.
Получив задание от товарища Лисиц, я немедленно приступил к работе и с того же дня стал организовывать кружок, привлекая в него знакомых мне подмастерьев-учеников и других надежных товарищей. Переговорив с десятком из них, в том числе и с Эдуардом Клявиным, со Строгисом и другими, мы создали кружок, о чем я сообщил товарищу Лисицу, последний, наметив день нашего первого заседания, просил назначить место собрания, обставив его соответствующими предосторожностями. Тут же было решено устроить вечеринку, с пивом, с приглашением гармониста – начав ее часов в восемь вечера, чтобы закончить к двенадцати часам, после чего останутся лишь свои «ребята» на часок, в течение которого и можно будет провести наше первое собрание, на это собрание должен был прийти агитатор-организатор. В назначенный час и в условленном месте все были в сборе, в том числе также и приглашенные и подобранные на сей предмет знакомые нам девушки и гармонист.
Как мы ни стремились «распоясаться», то есть веселиться, все же это как-то не удавалось, ибо у каждого из нас, мужчин, было желание поскорее покончить с вечеринкой и приступить к делу, тем более, что ни у кого из нас, покуда что, не имелось никакого представления ни о парторганизаторе-агитаторе, ни о том, что он нам скажет.
Благодаря этим обстоятельствам вечеринка кончилась раньше предполагаемого времени, и мы, спровадив наших девиц, остались одни, под видом выпить пива и побалакать, наконец, явился агитатор-организатор. Тов. Лисиц представил его нам, не сообщив однако ни его фамилии, ни «клички», а просто назвав его – наш товарищ, а тот, спросив, можно ли приступить, и получив утвердительный ответ, стал нам рисовать картину бедственного положения рабочих и крестьян вообще, в частности – рабочих и батраков Прибалтики, доказывая необходимость борьбы за улучшение их положения, указывая в то же время на те трудности, которые встретятся на нашем пути, – возможность обысков и арестов, заключения в крепости, ссылки и прочее, – ввиду чего необходима конспирация в работе и тому подобное. Закончил он свою речь эпизодом из французской революции, особенно подчеркивая самоотвержение парижского пролетариата, который будто бы, будучи осажден капиталистическими войсками, несколько дней голодал, а когда однажды были получены яблоки, последние были разделены среди восставшего пролетариата с таким расчетом, что одно яблоко приходилось на четырех человек на двое суток, и несмотря на такое положение, пролетариат, сознавая правоту начатого дела, продолжал борьбу вплоть до полного его уничтожения со стороны буржуазных войск.
Знакомясь впоследствии с историей французской революции, я, конечно, в книгах таких фактов не находил; но тогда доводы нашего агитатора произвели на нас такое потрясающее впечатление, что мы с энтузиазмом восклицали: «Одно яблоко на четырех человек, да на двое суток! Какой героизм, какая самоотверженность!». А наш агитатор, продолжая свою речь, увлекал нас все дальше и дальше, дойдя до гильотины. Каждое его слово мы слушали, глотая его с замиранием сердца. Когда оратор кончил, мы обратились к нему с рядом вопросов, на которые он дал нам исчерпывающие ответы. Наконец, прощаясь с нами, он так же, как и товарищ Лисиц, вновь предупредил нас о необходимости в нашей работе строжайшей конспирации, так как отныне мы будем получать аккуратно прокламации, воззвания «Zihna» и другую нелегальную литературу; он инструктировал нас также, как держать себя в случае ареста кого-либо из нас, затем, уже направляясь к выходной двери, он сказал, чтобы мы не расходились, так как с участием товарища Лисиц нам предстоят еще выборы кружкового руководителя.
Таковым был избран я. Отсюда началась вся наша дальнейшая работа – я, держа связь с тов. Лисиц, получал через него прокламации «Zihna» и кое-какие брошюры, которые по прочтении передавались мною другим членам кружка, а по миновании надобности возвращались обратно товарищу Лисиц. В этот же период меня познакомили и со студентом Емельяном Аболтиным, через которого впоследствии я стал получать необходимую нам литературу и инструкции о работе.
Летнее время благоприятствовало работе; мы могли собираться в лесу, на лужайках, словом, где угодно, не боясь полицейского глаза; мы регулярно сходились, с увлечением слушали наших старших товарищей, расспрашивали их об интересующих нас вопросах, разбрасывали и расклеивали прокламации, когда это нужно было, и чувствовали себя участниками революционного дела. С наступлением же осени и зимы положение ухудшилось: устраивать собрания можно было лишь у кого-нибудь в квартире, но таких квартир – квартир холостяков, без постороннего глаза – не оказалось, а собираться у женатых или посвящать в это дело родных было небезопасно, и мы имели возможность устраивать заседания лишь с большими перерывами, в большинстве случаев в неподходящей обстановке, по воскресеньям, в корчме (что-то вроде пивной), в отдельном номере и за стаканом пива.
Это станет понятно читателю лишь тогда, когда он познакомится с тем, как жила молодежь в латвийской провинции в дореволюционное время; работая учеником или подмастерьем у ремесленника, он не имел собственного угла, а в большинстве случаев получал лишь место на двух-трехэтажной кровати, в углу мастерской; и поэтому приходилось, при устройстве собраний, мириться и с номером в корчме.
Так прошла осень и зима. К весне работа оживилась и, к нашему удивлению, у учителя приходской школы и не помню у кого еще приезжими представителями жандармерии были произведены обыски вплоть до сдирания обоев; два-три человека были арестованы, закованы в ручные кандалы и под конвоем куда-то увезены.
Нас это удивило, во-первых, потому, что, мне казалось, что наш кружок единственный кружок в местечке и другого подобного ему нет. Как читатель увидит впоследствии, мы в этом глубоко ошиблись.
Кстати сказать, в ночь обысков у вышеупомянутого учителя и других лиц, я был предупрежден об этом товарищем Лисиц и должен был, в свою очередь, предостеречь членов кружка – быть на чеку. Так как, в смысле конспирации, дело у нас обстояло благополучно и дома всегда всё было припрятано в надлежащее место, а, «прокламашки» мы перетаскивали друг от друга обернутыми под чулком вокруг ноги, то мы обысков не боялись; беспокоились лишь об одном—как бы не попался наш гектограф, который, впрочем, по словам тов. Лисиц, находился у надежного товарища.
После этих обысков и арестов до начала лета вся наша работа протекала обычным нормальным темпом, при чем Лисиц и Аболтин все обещали мне к лету чем-то особым порадовать нас, а на все мои расспросы чем, – так и не сказали.