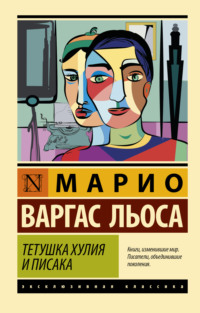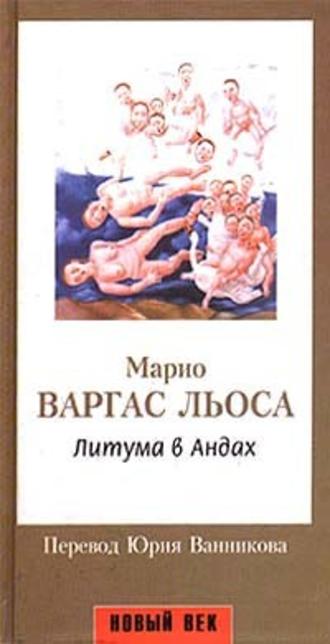
Полная версия
Литума в Андах
– Не смей делать этого! Убирайся прочь!
– Это приказ, выполняй, – произнес кто-то рядом. – Идет война. Да тебе этого все равно не понять, бедолага.
– Плачь лучше по своим братьям, по тем, кто страдает, – сочувственно посоветовала ему одна из девушек. – Плакать надо по убитым и замученным людям. По тем, кто попал в тюрьму, по мученикам, которые жертвуют своей жизнью.
Но Педрито продолжал просить, он подбегал то к одному, то к другому, падал на колени, ловил их руки.
– Имей хоть немного гордости, – говорили ему. – Не распускай нюни. Думай лучше о себе, а не об этих викуньях.
Они все стреляли и стреляли, ловили убегавших животных, добивали их. Бойне, казалось, не будет конца. Кто-то взорвал динамитный патрон, и два детеныша, тихо стоявших около убитой матери, взлетели, растерзанные, на воздух. Пахло порохом. У Педрито Тиноко уже не было сил плакать. Он бросился ничком на землю, потом перевернулся на спину и так лежал, переводя взгляд с одного на другого, не в силах осознать до конца, что же все-таки происходит. Вскоре к нему подошел юноша с суровым лицом.
– Нам вовсе не нравится делать то, что мы делаем, – мягко сказал он и положил руку на плечо Педрито. – Но есть приказ нашего руководства. Викуньи – ресурсы врага. Нашего и твоего. Ресурсы империализма. В стратегических планах мирового империализма нам, перуанцам, отведена такая роль: выращивать викуний. Чтобы приезжие ученые изучали их, а туристы фотографировали. И ты, например, значишь для империалистов куда меньше, чем эти животные.
– Шел бы ты, добрый человек, отсюда, – принялась уговаривать его на кечуа другая девушка. – Скоро сюда нагрянет полиция, придут солдаты. Не уйдешь – будут тебя бить ногами, отрежут твой мужской прибор, а потом пустят пулю в лоб. – Она обняла его. – Уходи-ка подальше, как можно дальше.
– Может быть, потом ты поймешь то, что не понимаешь сейчас, – снова заговорил с ним мальчик-мужчина. Он курил сигарету и рассматривал убитых викуний. – Идет война, и никто не может сказать, что она его не касается. Она касается всех, включая немых, глухих и блаженных. Война, чтобы покончить с неравенством, чтобы никто не становился на колени, не целовал другому руки и ноги.
Они провели там остаток дня и ночь. Педрито Тиноко видел, как они готовили еду, как дозорные поднимались по склону, чтобы сверху следить за дорогой. Спали они в пещерах, завернувшись в одеяла и пончо, плотно прижавшись друг к другу, совсем как викуньи. На следующее утро они ушли, посоветовав ему на прощанье не задерживаться тут, если он не хочет, чтобы его убили солдаты, а он так и остался лежать на земле, все на том же месте, обратив к небу мокрое от росы лицо, среди мертвых викуний, над которыми уже пировали охочие до падали птицы и звери.
* * *– Сколько тебе лет? – неожиданно спросила она.
– Мне тоже любопытно узнать, – оживился Литума. – Ты никогда мне не говорил этого. Сколько тебе лет, Томасито?
Задремавший было Карреньо враз очнулся от вопроса женщины. Уже не трясло, как раньше, но мотор гудел надсадно, словно готов был взорваться на любом крутом повороте этого тягучего подъема. Они все еще поднимались на Кордильеру, по обеим сторонам дороги стоял мачтовый лес, но некоторые склоны были голые до самого дна ущелья, где бурлила Уальяга. Они сидели между мешками и прикрытыми кусками целлофана ящиками с манго, сливами и чиримоей в кузове старенького грузовичка, у которого даже не было брезентового верха для защиты от дождя. Правда, за то время, что они поднимались в горы, удаляясь от сельвы в сторону Уануко, на них не упало ни капли. Чем выше они поднимались, тем холодней становился воздух. Небо кипело звездами.
– Господи, прежде чем меня убьют, дай мне поиметь женщину, – молитвенно произнес Литума. – Хоть еще один-единственный раз. Ведь с тех пор как я приехал в Наккос, я живу как евнух, разъедрена мать. А твои рассказы о пьюранке меня вконец распалили, Томасито.
– Да у него, поди, еще молоко на губах не обсохло, – помолчав, заметила женщина, словно разговаривая сама с собой. – А поэтому, хоть ты и имеешь дело с грабителями и убийцами, ничего-то ты ни о чем не знаешь, Карреньо. Ведь тебя так зовут, да? Толстяк тебя называл Карреньито.
– Знакомые женщины были всегда такие жалкие, забитые, а эта – совсем другое дело: ей палец в рот не клади! – восторженно произнес помощник Литумы. – Едва она в Тинго-Марии оправилась от страха – а страх у нее прошел очень быстро, – как сразу же взяла все в свои руки. Я хочу сказать, начала действовать раньше меня. Это ведь она договорилась с водителем грузовика, чтобы он довез нас до Уануко, причем за половину цены, которую тот запросил. Торговалась с ним на равных.
– Извини, что перебиваю тебя, Томасито, только сдается мне, что этой ночью на нас нападут, – сказал Литума. – Я так и вижу, будто они спускаются с вершины. А ты не чувствуешь ничего подозрительного снаружи? Давай поднимемся, взглянем.
– Мне двадцать три года, – ответил он. – Я знаю все, что мне нужно знать.
– А того вот не знаешь, что иногда приходится проделывать разные штучки, чтобы угодить мужчине, – обидчиво возразила она. – Хочешь я тебе расскажу такие вещи, что тебя вывернет наизнанку? А, Томасито?
– Не беспокойтесь, господин капрал. У меня хороший слух. Клянусь вам, там никого нет.
Парень и женщина, стиснутые мешками и ящиками с фруктами, тесно прижимались друг к другу. В ночном воздухе сильнее чувствовался запах манго. Стрекотание насекомых заглушало рокот и завывания мотора. Не было больше слышно ни хруста хвороста под колесами, ни клокотания реки.
– Грузовик подпрыгивал на ухабах, и нас бросало друг на друга, – вспоминал Томасито. – И каждый раз, когда ее тело касалось моего, я вздрагивал.
– Теперь это называется «Я вздрагивал»? – засмеялся Литума. – Раньше говорили «У меня вскакивал». Ты прав, ничего не слышно. А знаешь, когда я слушал тебя, у меня уже начал вставать, но из-за того, что померещился шорох за стенами, опять упал.
– Да ведь он меня бил не по-настоящему, – почти шепотом сказала женщина, и Карреньо даже разинул рот от удивления. – Ты решил, что он меня избивает, потому что слышал, как он ругался и как я умоляла его и плакала. Но ты не понял: это все была игра, чтобы возбудить его. Какой же ты еще наивный, Карреньито.
– Замолчи, или я высажу тебя из грузовика, – негодующе оборвал он женщину.
– Хорошо еще, что не сказал «Замолчи, а не то я тебе врежу» или «Замолчи, а то вышибу из тебя мозги», – насмешливо прокомментировал Литума. – Вот было бы забавно.
– Она мне именно так и ответила, господин капрал, ну и мы рассмеялись. Оба. Один громче другого. Остановимся – и снова начинаем.
– И правда было бы забавно, если бы я тебя ударил. Иногда у меня появляется такое желание, – признался парень. – Это когда ты начинаешь упрекать меня за то, что мне захотелось сделать доброе дело. А теперь я даже не знаю, что со мной будет.
– А со мной, со мной? – горячо подхватила она. – Ты хоть и наломал дров, но по крайней мере сделал то, что хотел. А я по твоей милости влипла в эту ужасную историю. Ты же не спросил меня, хочу я, чтобы ты вмешивался, или нет. За это убийство прикончат нас обоих. Скажут, что ты работаешь на полицию и что я твоя сообщница.
– Так она, выходит, не знала, что ты полицейский? – удивился Литума.
– Я даже не знаю, как тебя зовут, – спохватился Томас.
Наступила тишина: мотор заглох. Но через минуту снова зафыркал, загудел. Высоко вверху Томас увидел огоньки. Наверное, самолет.
– Мерседес.
– Это твое настоящее имя?
– Другого у меня нет, – рассердилась она. – И еще, к твоему сведению: я не проститутка. Я была его подружкой. Он вытащил меня из одного шоу.
– Из «Василона», это ночной ресторанчик в центре Лимы, – пояснил помощник Литумы. – Она была у него одной из многих. У Борова был целый набор любовниц, только Искариоте знал пятерых.
– Эх, мне бы на его место, – вздохнул Литума. – Это же надо – целых пять! Ведь он, получается, мог менять бабу каждый день, как трусы или рубашку. А мы с тобой здесь на голодном пайке, Томасито.
– У меня вся спина разламывалась, – продолжал Карреньо, опьяненный воспоминаниями. – Мы не смогли уговорить водителя взять нас в кабину, он боялся, что мы на него нападем, а в кузове нас трясло нещадно. Я все думал о том, что мне сказала Мерседес, и меня брало сомнение. Правда ли, что ее рыдания и причитания были только представлением, игрой, которая должна была возбудить Борова? Что вы об этом думаете, господин капрал?
– Не знаю, что тебе сказать, Томасито. Возможно, это и вправду был театр. Он делал вид, что бьет ее, она притворялась, что плачет, у него тогда вставал, и он заделывал ей. Говорят, есть такие типы.
– Ну это уж какое-то свинство, – пробормотал Карреньо. – Грязный Боров. И хорошо, что подох. Туда ему и дорога.
– Но ты, несмотря на это, влюбился в Мерседес. А любовь все осложняет, Томасито.
– Мне ли не знать, – сокрушенно вздохнул молодой полицейский. – Если бы я не влюбился, разве сидел бы я сейчас в этой забытой Богом пуне, дожидаясь, когда соизволят прийти эти паршивые фанатики, чтобы пристукнуть нас.
– Ты ничего не слышишь? – насторожился Литума. – Пойду взгляну на всякий случай. – Он поднялся, взял револьвер и, приоткрыв дверь, выглянул наружу. Посмотрел по сторонам и, посмеиваясь, вернулся на свою раскладушку. – Нет, это не они. Знаешь, мне сейчас в лунном свете померещилось, что я вижу немого, будто он тащит что-то.
Что со мной теперь станется? Лучше не думать об этом. Податься в Лиму, а там видно будет. Как покажется он на глаза своему крестному после всего случившегося? Это самое тяжелое. Тот вел себя как порядочный человек по отношению к тебе. А как ты ему отплатил? Тут, Карреньо, ты уж действительно, что называется, вляпался. Крепко вляпался, но теперь это тоже не важно. Теперь, подпрыгивая на выбоинах и касаясь ее, он чувствовал себя лучше, чем в Тинго-Марии, когда, дрожа и задыхаясь, слушал, что происходит за стеной. Значит, все эти крики, стоны, мольбы, эти удары и угрозы были представлением? Притворством? А вдруг нет?
– Я ни о чем не жалею, господин капрал, поверьте. Что случилось, то случилось. Но все дело в том, что я, как вы уже догадались, влюбился в нее.
В конце концов их обоих сморил тяжелый сон, пропитанный сладким запахом манго. Мерседес пыталась опереться головой о мешок, но из-за тряски у нее ничего не получалось. Карреньо слышал, как она недовольно ворчала, видел, как она ерзала, тщетно стараясь примоститься поудобнее.
– Давай-ка сделаем так. – Он старался говорить как можно небрежнее. – Отдохни сначала ты на моем плече, а потом я на твоем. Если мы не поспим хоть немного, приедем в Лиму полуживыми.
– Смотри-ка, дело принимает серьезный оборот, – отметил Литума. – Давай-давай, Томасито, рассказывай, как сорвал первый цветок.
– Ну, я тут же вытянул руку, приготовил ей уютное местечко. И она прильнула ко мне, положила голову мне на плечо.
– И у тебя, конечно, встал?
Парень и на этот раз пропустил его замечание мимо ушей.
– Я обнял ее. То есть подхватил, чтобы ей было удобней, – уточнил он. – Она была вся влажная. И я тоже. Ее волосы щекотали мне лицо, попадали в нос. Ее округлое бедро упиралось мне в ногу. А когда она говорила, то касалась губами моей груди – я чувствовал сквозь рубашку ее теплое дыхание.
– А у кого встает, так это у меня, мать твою… – сказал Литума. – Что мне теперь делать, Томасито? Отрезать его, что ли?
– А вы выйдите помочитесь, господин капрал. На свежем воздухе сразу опадет.
– Ты очень религиозный? Истовый католик? Ты не можешь примириться кое с какими вещами, которые происходят между мужчиной и женщиной? За такой грех ты его и убил, да, Карреньито?
– В общем, она была совсем близко – и я чувствовал себя счастливым. Я сидел молча, не шевелясь, слушал, как надрывается грузовичок, взбираясь все выше в Кордильеру, и еле удерживался от желания поцеловать ее.
– Ничего, что я тебя расспрашиваю? Просто я хочу понять, за что же все-таки ты убил его, и ничего другого мне не приходит в голову.
– Спи и не думай об этом, – мягко сказал парень. – Бери пример с меня. Я уж давно забыл о Борове и о Тинго-Марии. А религия здесь ни при чем.
Ночная темнота уже заволакивала горы, которые с каждым витком дороги становились все выше и выше. Но внизу, в расстилавшейся далеко позади сельве, у самого горизонта, еще виднелась белая полоска.
– Слышишь? Слышишь? – Литума рывком сел на раскладушке. – Бери пистолет, Томасито, кто-то спускается сверху, точно.
III
– Касимиро Уаркаю похитили, наверное, потому, что он стал пиштако, – сказал Дионисио, хозяин погребка. – Он сам повсюду раструбил об этом. Вот как раз на том самом месте, где вы сейчас сидите, он, бывало, заведется и блеет, как баран: «Я пиштако, и точка. Придет время, вырежу у всех у вас жир и выпью вашу кровь». Конечно, он нес это с пьяных глаз, но ведь известно: что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Его слышали все в погребке. А в Пьюре есть пиштако, господин капрал?
Литума поднял рюмку анисовой, которую ему наполнил хозяин, повернулся к помощнику – «Твое здоровье» – и сделал глоток. В желудке разлилась приятная теплота, и у него немного повысилось настроение, которое с утра было хуже некуда.
– Я, во всяком случае, никогда не слышал о пиштако в Пьюре. Колдуны – другое дело. Я сам знавал одного, в Катакаосе. Его приглашали в дома, где водилась нечистая сила, он ее заговаривал – и она исчезала. Но колдуны, что там говорить, и в подметки не годятся пиштако.
Погребок располагался в самом центре поселка, со всех сторон его окружали бараки, где жили пеоны, – приземистые сооружения с низкими потолками, деревянными скамьями и ящиками, заменявшими столы и стулья, с земляными полами и фотографиями голых женщин, приколотыми к дощатым стенам. Ближе к полуночи в погребке обычно негде было яблоку упасть, но сейчас еще даже не стемнело, только что село солнце, и, кроме Литумы и Томаса, в нем находились еще четверо мужчин в шарфах, они сидели за одним столиком, двое из них – в касках, и пили пиво. Капрал и его помощник за соседним столиком принимали уже по второй рюмке анисовой.
– Я вижу, вы не поверили моему рассказу, – засмеялся Дионисио.
Это был толстый, рыхлый человек с темным, словно натертым сажей лицом, с вьющимися сальными волосами, вечно ходивший в одном и том же тесном синем джемпере. Маленькие глазки в воспаленных веках всегда были замутнены алкоголем – он пил наравне со своими клиентами, хотя допьяна никогда не напивался, что правда, то правда. По крайней мере, Литума никогда не видел его в состоянии алкогольной прострации, в которую, как правило, впадают пеоны субботней ночью.
– А вы верите в пиштако? – Литума обратился к пеонам за соседним столиком. Четыре лица, наполовину прикрытые шарфами, повернулись в его сторону. Они были так похожи, будто их выбили на одном чекане: обожженные солнцем, обветренные, с маленькими невыразительными глазами в глубоких глазницах, с сизыми от постоянного пребывания на воздухе носами и губами.
– Кто знает, – ответил, наконец, один из них. – Все может быть.
– А вот я верю, – вступил после короткой паузы другой. – Если об этом столько говорят, значит, тут что-то есть. Не бывает дыма без огня.
Литума прикрыл глаза. Значит, так. Чужак. Наполовину гринго. Но с первого взгляда его не распознать – ничем не отличается от простых смертных. Живет в пещерах, свои злодеяния творит по ночам. Спрятавшись за придорожным камнем, или в густой траве, или под мостом, подкарауливает одиноких путников. Подходит к ним спокойно, стараясь не вспугнуть. А сам держит наготове смолотый специально для таких случаев порошок из костей мертвеца и, как только путник зазевается, сдувает порошок ему в лицо. После этого спокойно высасывает из него жир и отпускает. Тот продолжает свой путь, но уже едва живой, кожа да кости, уже обреченный на близкую смерть, которая наступит, может быть, через несколько дней или даже часов. Такие пиштако еще вроде бы благонамеренные, человечий жир им нужен для церковных колоколов, те от него становятся звонче, а в последнее время его использует и правительство – для погашения внешних долгов. Куда ужаснее злонамеренные пиштако. Они не только обезглавливают свою жертву, но и разделывают ее, как корову, или барана, или свинью, и пожирают. Они высасывают из тела человека всю кровь, каплю по капле, и упиваются ею допьяна. И горцы верят во все это, мать их… А эта ведьма, донья Адриана, значит, убила одного пиштако, так, что ли?
– Касимиро Уаркая был альбинос, – пробурчал пеон, который заговорил первым. – Может, так оно и было, как рассказывает Дионисио. Его приняли за пиштако и поскорее прихлопнули, пока он не успел ни у кого взять жир.
Его приятели за столом усмехнулись и одобрительно закивали. Литума почувствовал, что у него учащается пульс. Уаркая, который вместе с ними бил камни, махал киркой, вместе с ними корячился на строительстве дороги, исчез. А эти скоты и в ус не дуют, да еще и потешаются.
– Похоже, эта новость для вас вроде мух за окном: не очень беспокоит, – упрекнул он их. – Но ведь то, что произошло с Альбиносом, может случиться и с вами. Что, если терруки нападут этой ночью на Наккос и устроят здесь самосуд, как это уже было в Андамарке? Вам понравилось бы, если бы вас забили камнями как предателей родины или педерастов? Или если бы вас стали пороть за пьянство?
– Будь я пьяницей, предателем, педерастом, мне не понравилось бы, – сказал тот же пеон. Приятели за столом одобрительно ухмылялись и подталкивали его локтями.
– Случай в Андамарке, что и говорить, печальное событие, – уже серьезно вступил в разговор один из молчавших до сих пор пеонов. – Но там хоть были одни перуанцы. А вот то, что произошло в Андауайласе, по-моему, еще хуже. Эта французская парочка, подумать только! Зачем было их впутывать в наши дела? И их не спасло даже то, что они иностранцы.
– А я верил в пиштако, когда был маленьким, – перебил его Карреньо, обращаясь к капралу. – Меня, бывало, пугала ими бабушка. Из-за этого я с опаской смотрел на каждого нового человека, появлявшегося в Сикуани.
– И ты веришь, что беднягу немого, Касимиро Уаркаю и бригадира выпотрошили и разделали пиштако?
Томас пригубил анисовой.
– Я уже говорил вам, что готов поверить в самые невероятные вещи, господин капрал. А вообще-то, если по правде, я предпочитаю иметь дело с пиштако, а не с терруками.
– И правильно делаешь, что веришь, – согласился капрал. – Чтобы разобраться в том, что здесь происходит, надо верить в чертей. Опять же возьмем этих французов из Андауайласа. Их высадили из автобуса и так отделали, что от лиц осталось одно кровавое месиво. Отчего такое остервенение? Почему нельзя было просто пристрелить их?
– Мы уже привыкли к жестокости, – отозвался Томас, и Литума заметил, что его помощник бледнеет. От нескольких рюмок анисовой его глаза зажглись, а голос сел. – Говорю это как на духу. Вы слышали о лейтенанте Панкорво?
– Не доводилось.
– Я был в его отряде, когда случилось это дело с викуньями в Пампе-Галерас. Мы взяли там одного, а он молчит, будто воды в рот набрал. Лейтенант ему: «Кончай строить из себя святого и делать вид, что не понимаешь. Предупреждаю: если я начну тебя обрабатывать, заговоришь, как попугай». И мы его обработали.
– А как вы его обрабатывали? – поинтересовался Литума.
– Жгли спичками, зажигалками, – объяснил Карреньо. – Сначала ступни, потом все выше и выше. Спичками и зажигалками, именно так. Запахло паленым. Тогда я не был еще таким, как сейчас, господин капрал. Меня стало мутить, я чуть не потерял сознание.
– Представь теперь, что сделают с нами терруки, если возьмут нас живыми, – сказал Литума. – И ты тоже его обрабатывал? И после этого плачешься мне, что Боров отвесил несколько горячих той пьюранке в Тинго-Марии?
– Вы еще не слышали самого главного. – Язык у Томаса слегка заплетался, а лицо стало мертвенно-бледным. – Оказалось, что он вовсе не терруко, а просто умственно отсталый. И не говорил не потому, что не хотел, а потому, что не мог. Не умел говорить. Его узнал кто-то из Абанкая. Послушайте, говорит, господин лейтенант, это ведь дурачок из нашего селенья, как он может сказать что-нибудь, если он, то есть Педрито Тиноко, за всю свою жизнь не сказал ни бе ни ме.
– Педрито Тиноко? Ты хочешь сказать, наш Педрито? Бедняга немой? – Капрал одним глотком выпил свою анисовую. – Ты меня разыгрываешь, Томасито? Что за чертовщина!
– Он, кажется, был сторожем в заповеднике. – Томас тоже выпил. Рука, сжимавшая рюмку, заметно дрожала. – Потом мы его отхаживали как могли. Собрали для него кое-что. У всех было погано на душе, даже у лейтенанта Панкорво. А у меня – больше, чем у всех остальных, вместе взятых. Поэтому я его и привел сюда. Вы никогда не видели шрамов у него на ступнях? На икрах? Вот там-то я и потерял невинность: тоже приложил свою руку, господин капрал. А после этого я уже ничего не боялся и ни о чем не жалел. Я вам не рассказывал об этом до сих пор, потому что мне было стыдно. И если бы сегодня не напился, тоже не рассказал бы.
Чтобы отвлечься от воспоминаний о немом, Литума постарался представить лица других пропавших, превращенные в кровавую кашу, их лопнувшие глаза, переломанные кости, как у тех бедолаг французов, их опаленную плоть, как у Педрито Тиноко. Ах, мать твою, мать твою, не можешь, что ли, думать о чем-нибудь другом?
– Давай-ка лучше пойдем. – Он допил анисовую и поднялся из-за стола. – Пока не стало совсем холодно.
Когда они выходили, Дионисио послал им воздушный поцелуй. Он сновал по погребку, уже заполненному пеонами. В этот час он начинал свое обычное представление: пританцовывал с шутовским видом, подносил посетителям рюмки виноградной водки – писко – и стаканы с пивом, подзадоривал их танцевать друг с другом, поскольку женщин среди них не было. Его кривляние и ужимки раздражали Литуму, поэтому, когда хозяин погребка принимался за свои номера, он обычно уходил.
Они попрощались с доньей Адрианой, стоявшей за стойкой, и та с явной насмешкой отвесила им низкий поклон. Она только что настроила приемник на волну радио Хунина и теперь слушала болеро. Литума узнал его – «Лунный свет». Он видел фильм с таким названием, там еще танцевала эта блондинка с длиннющими ногами – Нинон Севилья.
Уже включили генераторы, дававшие свет в поселок. Попадавшиеся навстречу люди в куртках и пончо в ответ на приветствия полицейских бурчали что-то невнятное или просто торопливо кивали головами. Литума и Карреньо прикрыли рты и носы шарфами, поглубже надвинули фуражки, чтобы их не унесло ветром, уже затянувшим свою заунывную песню, эхом отдававшуюся в горах. Они шагали, низко опустив головы и сильно наклонившись вперед. Неожиданно Литума остановился, как вкопанный, и с негодованием воскликнул:
– Ах, мать твою! С души воротит и к горлу подступает!
– Отчего, господин капрал?
– Оттого, что вспомнил беднягу немого, над которым вы измывались в Пампе-Галерас, чтоб вам… – Он направил фонарь на лицо своего помощника. – Тебя не грызет совесть за то, что вы там творили?
– Первое время я не мог найти себе места, – прошептал Карреньо, опустив голову. – Почему, вы думаете, я привез его в Наккос? Хотел хоть немного загладить свою вину. Хотя разве я виноват в том, что произошло? А здесь, с нами, ему было хорошо, мы его кормили, он имел крышу над головой, ведь так, господин капрал? Может быть, он меня простил. Может быть, понял, что, если остался бы там, в той пуне, его бы давно прикончили.
– По правде говоря, Томасито, лучше бы ты продолжал мне рассказывать о твоем приключении с Мерседес. От этой истории с немым я никак не могу прийти в себя.
– Я тоже хотел бы забыть ее, господин капрал.
– С чем только мне не пришлось столкнуться здесь, в Наккосе, – проворчал Литума. – Служить полицейским в Пьюре или в Таларе – это еще куда ни шло. Но тут, в горах, – просто наказание Господне, Томасито. Да и неудивительно – кругом одни горцы.
– Разрешите спросить, почему вам так не нравятся горцы?
Они уже начали подниматься к посту, и поскольку были вынуждены еще сильней наклониться вперед, им пришлось снять с плеч карабины и нести их в руках. Чем дальше они отходили от поселка, тем темнее становилось вокруг.
– Ну ты вот, например, тоже горец, но я не могу сказать, что ты мне не нравишься. Ты мне очень даже пришелся по душе.
– Спасибо на добром слове, – засмеялся гвардеец. – Не подумайте, что люди из поселка держатся с вами так холодно потому, что вы с побережья. Нет, все дело в том, что вы полицейский. Ко мне они тоже относятся как к чужаку, хотя я ведь из Куско. Им вообще не нравятся люди в форме. Они боятся, что, если хоть немного сблизятся с ними, терруки посчитают их доносчиками.
– Да ведь и то правда: полицейскими становятся не от большого ума, – тихо сказал Литума. – Зарабатываешь гроши, все тебя сторонятся, и тебя же одним из первых подорвут динамитом.