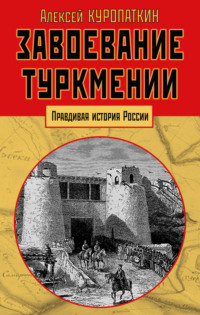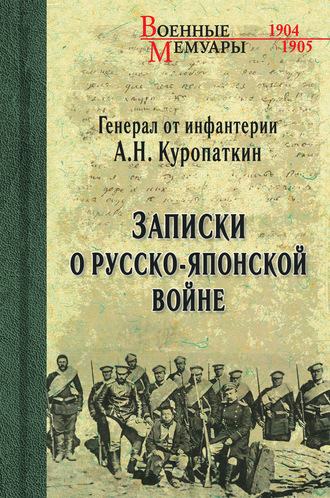
Полная версия
Записки о Русско-японской войне
Поэтому, как ни сложны были причины войны 1877–1878 гг., но по существу своему война эта составляла продолжение нашей двухвековой борьбы за выход к Черному морю и за обеспечение этого выхода.
Эта задача осложнилась и на этот раз исторической необходимостью оказать помощь родственным племенам Балканского полуострова: сербскому и болгарскому.
Война сербско-турецкая предрешила и войну русско-турецкую. Мы имели время приготовиться к войне и недостаточно воспользовались этой возможностью. Мобилизировав армию и сосредоточив ее в Бессарабии до объявления войны, мы долго медлили объявлением войны и дали поэтому время туркам усилиться и приготовиться нас встретить. После первых успехов, мы начали нести тяжелые неудачи, доказавшие, что турки, вооруженные скорострельным оружием и организованные на европейский образец, представляют уже не прежнего противника, нестройные толпы которого легко разбивались нашими войсками, иногда весьма малочисленными. Численность выставленных войск оказалась недостаточной, но Император Александр II, имея в военном министре Милютине мудрого советника, не остановился перед жертвами и двинул на театр войны многочисленные подкрепления, в числе которых находился цвет нашей вооруженной силы – гвардия и гренадеры. Относительная близость источников укомплектования армии позволила произвести это усиление довольно быстро.
В августе 1877 г. мы понесли последнюю большую неудачу под Плевною, а в октябре на театр военных действий уже прибыли гвардия и гренадеры. Всего на время войны на двух театрах военных действий, считая войска румынские, сербские, черногорские и болгарские дружины ополчения, мы выставили против турок превосходные силы, собрав армию общею численностью до 850 000 чел. Несмотря на геройское сопротивление во многих случаях, турки были побеждены, и наши войска дошли до стен Константинополя. Необходимо отметить, что победы не давались нам легко, и дабы сломить упорство турок при умелом руководств потребовались, например, под Плевною тройные силы. Горный Дубняк, весьма слабо укрепленный, был взят после упорного боя нашей гвардией, превосходившей в 5–6 раз защитников этого пункта.
Под Плевною, несмотря на то, что турецкие укрепления были большею частью полевого профиля, лишены местных препятствий, проволоки, мин, засек, почти лишены блиндажей, несмотря на то, что мы превосходили турок в три раза числом, а наша артиллерия превосходила турецкую в несколько раз, мы не могли овладеть Плевной открытой силой и прибегли к блокаде.
Но мы имели на европейском театре таких выдающихся помощников главнокомандующего, как Гурко, Скобелев, Радецкий, Тотлебен. С ними наши войска быстро закалились и вернули победы к нашим знаменам.
На азиатском театре у Вел. Кн. Михаила Николаевича оказались выдающиеся по боевым дарованиям и энергии помощники: Лазарев, Гейман, Тер-Гукасов. С ними войска кавказские делали геройские дела. В то время как войска, предводимые Криндером и Зотовым, были отбиты от слабых плевненских укреплений, войска кавказские берут ночным штурмом крепость Карс. Оборона Шипки на европейском театре и Баязета на турецком вписала славные страницы в русские военные летописи.
Война эта выяснила и много темных сторон нашей военной организации. Интендантская и санитарная части были поставлены плохо. Деятельность кавалерии и артиллерии на европейском театре не ответила ожиданиям. Вся тяжесть боя легла на пехоту, и пехота с честью вышла из тяжелого испытания. Были бои, где пехотные части теряли ⅓ или даже ½ своего состава и все еще могли, быстро оправившись в самом непродолжительном времени, продолжать бой. Особых жалоб на чинов, призванных из запаса, не было, ибо, как сказано выше, запасные за долгую стоянку под Кишиневом успели сплотиться со срочно служащими. Но части, вновь укомплектованные и ранее внутренней спайки пущенные в бой, не всегда выказывали должную стойкость. В общем русские войска поддержали в эту войну репутацию храбрых, стойких, выносливых, дисциплинированных войск. В обороне мы были, однако, сильнее, чем в наступлении.
В общем этот первый опыт войны после введения всеобщей воинской повинности, хотя и завершился для нас победою над турками, но доказал нашу малую, сравнительно с западными соседями, готовность быстро мобилизировать и сосредоточить в назначенном направлении сильную армию.
Призыв запасных совершался без стройного мобилизационного плана и носил случайный характер. Сосредоточение производилось тоже медленно, благодаря слабости железных дорог, ведущих в Румынию. Формирование резервных частей производилось тоже без определенного плана.
Сведения о противнике были недостаточные и неверные. Мы оценивали силы турок много слабее, чем бы то следовало. В результате для войны были назначены вполне недостаточные силы, и их пришлось почти удвоить.
Перевооружение за недостатком достаточных кредитов не было закончено, и наша армия выступила на войну с ружьями трех систем.
Картами армия была снабжена недостаточно. Прежние съемки, в том числе и Шипкинских позиций, остались в Петербурге неиспользованными.
Наша артиллерия в техническом отношении уступала турецкой. В особенности оказались слабыми в боевом отношении 4-фунтовые орудия.
Инженерные силы и средства были недостаточные, и распределение их не всегда было сообразное. Так, например, в Плевненских боях 30–31 августа, где Скобелев и Имеретинский должны были вести главную атаку на неприятельскую укрепленную позицию, при корпусе войск в 22 батальона, находилась лишь случайно сформированная мною команда сапер из 30 нижних чинов. Осадные средства были недостаточны и устарелого типа.
Деятельность кавалерии, во весь период войны на европейском театре, за самыми малыми исключениями, была неудовлетворительная и не самоотверженная.
Деятельность артиллерии, отличная и самоотверженная на кавказском театре войны, во многих случаях на европейском была неудовлетворительною. Были случаи отступления батарей после первых ранений ничтожного числа чинов.
Многие крупные начальствующие лица не соответствовали своему положению. Особенно мало выдающихся начальников было в кавалерии и артиллерии.
Деятельность штабов и в частности Генерального штаба была неуспешна. До боя писали слишком много, в бою терялись и забывали доносить о крупных фактах и ставить в известность о происходящем своих подчиненных. Связь во время боев по фронту и в глубину была недостаточная. Разные роды оружия мало помогали друг другу. Вся тяжесть боя лежала почти исключительно на пехоте.
Деятельность интендантского и санитарного ведомств во многих случаях была малоуспешная.
Достаточно прочной связи с тылом – Румынией (железной дорогой, хотя полевого типа) не было организовано. Этапных войск не было. С наступлением распутицы подвоз к армии запасов разного рода весьма затруднился. Богатые местные средства не были использованы в должном порядке.
Отношение войск и войсковых начальников к болгарскому населению не было во всех случаях гуманным и справедливым. Уплата за все забираемые продукты, при беспорядочно поставленном вопросе о фуражном довольствии, производилась неправильно или вовсе не производилась. Беспорядки и разгул в тылу армии были большие.
При спешном движении вперед недостаточными силами нам приходилось очищать уже занятые нами местности, причем население, восторженно встречавшее нас, как освободителей, при обратном появлении турок или бежало за нашими отступавшими войсками или избивалось турками.
В результате произошло временно общее разочарование: мы разочаровались в болгарах, стали хвалить турок и обратно.
Как и в Восточную войну 1853–1855 гг., мы не были сильны в маневрировании, и наступной бой во многих случаях, особенно под Плевною, велся неумело. В обороне были сильны. Нам много помогало то, что турки еще менее нас были подготовлены к ведению наступательных операций, дружно согласованных на всем театре военных действий. Иначе в августе и первой половине сентября наше кордонное расположение (полукругом) в Болгарии легко могло быть, до подхода подкреплений, прорвано, и мы были бы вынуждены к отступлению за Дунай. Соперничество турецких вождей, их неспособность вместе с вмешательством в военные дела Константинополя выручили нас из беды. Несмотря на все эти неустройства и недостатки, наша армия разбила турецкие войска, захватила в плен целые турецкие корпуса в Плевне, под Шипкою, в Карсе и победоносно дошла до стен Константинополя.
Турецкая война 1877–1878 гг. была последней большой войной, веденной Россией в XIX столетии. Но нашему военному самолюбию, вслед за победоносной войной с турками, был нанесен в 1879 г. чувствительный удар в Средней Азии. Усилившиеся грабежи туркмен, перенесших свою деятельность даже в Красноводское приставство, вызвали необходимость снарядить особую экспедицию в туркменскую степь. Начальником войск был назначен опытный военачальник ген. Лазарев. К сожалению, смерть его накануне выступления отряда из Атрекской линии к крепости Геок-Тепе отдала власть в руки старшего за ним ген. Ломакина, совершенно не соответствовавшего этой роли. Экспедиция окончилась полной неудачей. Войска наши дошли до Геок-Тепе, штурмовали эту турецкую твердыню, весьма слабо укрепленную, но не могли овладеть ею. В штурме участвовали отборные кавказские войска. С большими потерями, оставив в руках туркмен несколько сот наших скорострельных ружей, мы отступили к укреплениям Атрекской линии. Потребовались большие усилия и сформирование значительного, по азиатскому масштабу, отряда, чтобы поправить дело. Высокоталантливый и исключительно энергичный ген. Скобелев, после тяжелой борьбы, одолел туркмен и овладел Геок-Тепе.
Во время этой экспедиции мы при ночных вылазках туркмен, подавляемые их многочисленностью, после резни холодным оружием, два раза понесли серьезные неудачи, потеряли три орудия и знамя одного из славнейших кавказских полков[9].
Но Скобелев успел внушить каждому из участников, что, как бы тяжко ни складывались наши дела, мы будем бороться до последнего человека, и мы победили.
Ахал-Текинская экспедиция показала, однако, что то время, когда отряды в несколько рот под начальством генералов Черняева и Кауфмана одерживали победы над многочисленными скопищами туземцев, – прошло.
Туркмены, независимо от храбрости, вооружились отбитыми у нас берданками и нанесли нам серьезные потери. Из осаждающего Геок-Тепе небольшого корпуса войск, боевая сила которого не доходила до 5000 штыков, мы потеряли убитыми и ранеными около одной тысячи человек.
Наконец, последним боевым столкновением наших войск в XIX столетии было дело на р. Кушке в 1885 г., когда наш малочисленный отряд нанес поражение афганцам, с потерею всего 43 человек.
Война с турками в 1877–1878 гг. окончилась возвращением нам устьев Дуная и присоединением Батума и Карса.
В XIX столетии в борьбе с Турцией мы начали ставить на первом плане задачи освободительного характера по отношению к различным народностям, населявшим Балканский полуостров и подчиненным Турции. Такая деятельность слишком близко соприкасалась с интересами Европы, которая и дала России отпор: военный под Севастополем, и дипломатический на Берлинском конгрессе. Неясность ставленных нами на Балканском полуострове целей ухудшила положение. За заботами о судьбе народностей Балканских государств забывались насущные интересы России.
Поэтому результаты, достигнутые нами на Черном море в XIX столетии, не соответствовали принесенным жертвам.
В течение трех войн XIX столетия с Турцией, мы выставили 1 700 000 бойцов, довели силу армии в 1878 г. до 850 000 чел. и потеряли убитыми, ранеными, без вести пропавшими 126 000, больными 243 000, а всего 369 000 чел. Если же принять в расчет, что нами в течение Восточной войны было выставлено 1 300 000 бойцов и мы потеряли убитыми, ранеными и без вести пропавшими 120 000 чел. и больными 220 000, то приобретение Черноморского побережья, устьев Дуная и права иметь на Черном море военный флот обошлось нам в три миллиона выставленных в поле бойцов, потерявших в боях до 250 000 и от болезней до 450 000 чел. И несмотря на такие жертвы ворота в Черное море остались для нас закрытыми и отворенными для наших возможных врагов. В 1878 г. мы, можно сказать, уже владели этими воротами, а ныне эти ворота охраняются против нас не только турками, но и немцами. Задача по ограждению выхода в Черное море перешла на XX столетие.
Для овладения Кавказом в XIX столетии потребовалось вести две войны с Персией и 62 года борьбы с кавказскими горцами. Наконец, дабы войти в наши настоящие границы в Средней Азии, мы вели наступательные экспедиции в Азии в течение 30 лет.
Боевые действия наших войск на Кавказе и в Средней Азии ознаменовались многими славными подвигами. На Кавказе мы встретили особенно храброго противника и вели исключительно тяжелую борьбу с природою, при слишком явном превосходстве нашей военной силы над неорганизованными силами противников. Эта борьба в военном отношении не представляла тех трудностей, с каковыми были сопряжены войны, обеспечивающие выходы к морям Балтийскому и Черному. В период военных действий в Средней Азии с 1847 по 1881 г. мы одновременно выставляли в поле не свыше 15 000 человек, всего было выставлено нами до 55 000 бойцов, потери же убитыми и ранеными не достигали 5000 чел. и 8000 больных.
Наши задачи по отношению к Кавказу и Средней Азии могут быть признаны законченными в XIX столетии. В дальнейшем изменении границ, как будет то ниже указано, надобности не встречается, и такое изменение потребовало бы серьезной борьбы с Турцией, Персией, Афганистаном и, вероятно, Англией. Но особенности кавказского и среднеазиатского населения требуют самого внимательного отношения к их положению и твердой власти на месте. В противном случае мы должны ожидать еще внутренних волнений и восстаний и не только в целях национальных, но и религиозных.
По отношению к Дальнему Востоку в XIX столетии надо отметить те же миролюбивые отношения к Китаю, как в XVIII столетии. На протяжении 9000 верст мы мирно жили с китайцами почти в течение двух столетий.
Несмотря на ничтожную военную силу, которая содержалась нами в Сибири, в течение XIX столетия мы произвели значительные изменения в восточных границах России.
За XIX столетие Россия утратила владения в Америке, уступив их за ничтожное денежное вознаграждение американцам. Мы уступили также Курильские острова Японии в обмен (почти насильственный) за южную часть Сахалина. В то же время мы присоединили к своим владениям Камчатку, Амурскую область, Уссурийский край и Квантун. Уссурийский край приобретен нами по Пекинскому договору 1860 г., и этот край составил как бы вознаграждение России за содействие Китаю при заключении Пекинского договора с англичанами и французами, после занятия ими Пекина. Равно и наше вторжение в Маньчжурию как бы составило вознаграждение за посредничество и заступничество за Китай, после несчастной для него японско-китайской войны. Таким образом, в то время, когда выход России к морям Балтийскому и Черному потребовал работы нашей вооруженной силы в течение двух столетий и стоил нам тяжелых жертв убитыми и ранеными, мы вышли в 1897 г. к Великому океану без пролития крови. Но столь легкая победа носила в себе и зародыш поражения.
В течение XVIII и XIX столетий расширение территории сопровождалось постепенным изменением начертания границ на всем протяжении, за исключением большей части границы с Китаем, которая от долины р. Катуни до устья р. Шилки оставалась неизменною в течение двух столетий.
Усилиями армии западная граница сравнительно с 1700 г. отодвинута от Москвы вместо 450 верст более чем на 1000 верст.
На северо-западе и на юге мы дошли за два столетия до естественных рубежей: морей Балтийского и Черного. В то же время со стороны Кавказа и Средней Азии мы выдвинули свои границы далеко вперед.
За два столетия внешние войны, в целях выхода к морям Балтийскому и Черному, сопровождались следующим напряжением сил.
По выходу к Черному морю в борьбе с Турцией участвовало 3½ миллиона бойцов, и мы потеряли до 750 000 человек.
По выходу к Балтийскому морю в борьбе со Швецией участвовало 1 800 000 человек, и мы потеряли до 700 000 человек.
Уже эти цифры указывают, каких жертв мы должны были ожидать при стремлении прочно стать на берегах Великого и Индийского океанов, если бы на русскую армию были возложены эти задачи в XX столетии.
Расширение пределов России во всех направлениях и выходы к морям Балтийскому, Черному, Великому океану привели Россию к овладению различными народностями, чуждыми и даже враждебными России.
Ныне нашу государственную границу с внутренней ее стороны стало окружать население, недостаточно прочно связанное с русским народом, и в этом отношении наша граница, 1900 г. в военном смысле менее благоприятна, чем была в 1700 г. Если население России и возросло за два истекших столетия с 12 миллионов до 130 миллионов, то необходимо принять в расчет, что в то же время в пределах России и на ее границах ныне находятся свыше 40 миллионов народностей, частью родственных русскому населенно по племенному составу, но чуждых по религии и историческому прошлому, частью чуждых как по происхождению, так и по религии.
В течение двух столетий мир продолжался 71⅔ года. В остальные 128⅓ ведено 33 внешние и 2 внутренние войны.
По политическим целям, для поддержания которых предпринимались отдельные войны, последние разделяются так:
1) для расширения пределов – 22 войны, занявшие в общей сложности 101 год борьбы;
2) в целях обороны – 4 войны, занявшие в общей сложности 4¼ года борьбы;
3) в интересах общественной политики – 7 войн и 2 похода, занявших в общей сложности 10 лет борьбы;
4) внутренних ведено – 2 войны, потребовавших 65 лет, и
5) усмирений бунтов было 5, потребовавшие 6 лет военных действий.
Войны истекших двух столетий привлекли к бою около 10 миллионов людей, из них около ⅓ потеряно для народа, в том числе убитых и раненых почти один миллион.
Изменение боевого состава армии (без ополчения, второстепенных команд и запасных частей) с 1700 по 1900 г. шло в следующей постепенности:
В 1700 г. на двенадцать миллионов жителей было 56 000 войск боевого состава, т. е. 0,47 % всего населения.
В 1800 г. на 35 миллионов – 400 000, т. е. 1,14 %.
В 1900 г. на 132 миллиона – около 1 миллиона, т. е. 0,75 %.
К сему следует присовокупить, что в 1700 г. армия только формировалась и что уже в ближайшие годы численность ее боевого состава возросла до 150 000, т. е. на l,3 %.
Таким образом, независимо от изменения самого способа комплектования войск (воинская повинность, вместо рекрутских наборов) участие населения в пополнении рядов армии, несмотря на постепенный рост последней, к началу XX века оказывается почти на половину меньшим, нежели сто и двести лет тому назад. Вывод этот тем более знаменателен, что в 1700–1710 гг. армия не достигла еще своего полного развития, а в 1800 г. была значительно уменьшена в своем составе реформами Императора Павла Петровича.
Разница между мирным и военным составами войск впервые резко выразилась в 1855 г., но исключительно по случаю Восточной войны.
Обыкновенным явлением разница эта стала со времени введения всеобщей воинской повинности.
Относительно вероятных задач для русской вооруженной силы в XX веке мною во всеподданнейшем докладе военного министра в 1900 г. помещены следующие строки:
«Непосильно уму и предвидению человеческому заглянуть в будущее на целое столетие вперед. Непосильно поэтому было бы хотя бы в самых общих чертах попытаться определить те задачи, которые готовит XX век для русской армии.
Но, оглядываясь на прошлое и изучая современное положение России, в связи с положением главнейших государств мира, – возможно и необходимо пытаться выяснить, какие история готовит русской армии задачи в ближайшие к нам годы XX столетия?
В течение XVIII и XIX веков главною задачей России было расширение ее границ.
Несомненно поэтому, что вопрос о границах должен быть поставлен на первом плане и ныне. Отсюда вытекает необходимость выяснить основной важности вопрос: довольны ли мы в настоящее время своими границами и, если не довольны, то в каких участках и почему?
Тот самый вопрос должен быть исследован и для соседей наших по отношению к границам с нами.
Если мы в настоящее время довольны своими границами и не имеем стремления к дальнейшему их отодвиганию в ту или другую сторону, то, вероятно, что и новых наступательных войн в течение XX века с нашей стороны ведено не будет.
Но, быть может, достигнув путем страшных усилий и огромных жертв в течение двух столетий границ, которые нас удовлетворяют, мы поставили тех и других из своих соседей в такое положение, что они своею задачею в течение XX века вынуждены поставить отторжение от России приобретенных ею земель?
Тогда опасность войн для нас не устранится, но войны получат характер оборонительный».
В следующей главе мы рассмотрим, хотя в самых общих чертах, вопрос о соответствии наших государственных границ нуждам России.
Глава вторая. Заключение о границах России в Европе и Азии
В главе 2-й всеподданнейшего доклада военного министра в 1900 г. изложен военно-стратегический обзор границ России. Общие мои выводы относительно различных участков нашей границы были сделаны в этом труде следующие:
1) Граница со Швецией[10], достигающая 1500 верст, рассекает местность суровую, труднопроходимую и малонаселенную.
Отходя в крайней северной, наиболее вдавшейся в материк, части Ботнического залива, и служа резкой этнографической чертой между скандинавскими народами на западе и финнами на востоке, граница эта в южной части вполне отвечает нашим интересам; на севере она проведена слишком искусственно и не в нашу пользу, так как отрезает Финляндию от Северного океана, отдавая все побережье его Норвегии.
Хотя с нашей стороны и естественно желание исправить здесь границу нашу, но выгоды от сего направления слишком незначительны, чтобы могли стать поводом к борьбе.
Однако положение дел на этой части нашей границы нельзя пока считать нормальным.
Из предыдущей главы было видно, что выполнение Россией исторически необходимой для нее задачи – выхода на Балтийское побережье и к Финскому и Ботническому заливам – потребовало огромных усилий и жертв. Для достижения этой цели России пришлось в XVIII и в начале XIX столетия вести со Швецией четыре войны, выставить в общем 1 840 000 войска и победить противника только после потери 130 000 человек убитыми и ранеными. Тем не менее главная задача была выполнена еще Петром Великим. Можно сказать, что выход к Балтийскому морю и Финскому заливу был обеспечен нам победой под Полтавой.
Уже в начале XVIII столетия Выборгская губерния стала русскою. В ней основались русские селения и храмы, а в городе Выборге русская речь была весьма распространена.
По мирному трактату, заключенному в 1809 г. в г. Фридрихсгаме, Финляндия перешла навеки «в собственность и державное обладание Империи Российской».
Казалось, нам оставалось воспользоваться результатом своих побед и твердо, но спокойно, привести завоеванную провинцию в тесное единение с остальною Россией.
На деле получился иной результат.
Занятые выполнением других очередных исторических задач по укреплению нашего положения на Черном и Каспийском морях, по продвижению к Великому океану, по борьбе с Кавказом, с Польшею, по завоеванию Средней Азии, мы в течение 80 лет XIX столетия мало обращали внимания на то, что происходило в Финляндии, и довольствовались наружным спокойствием, порядком и покорностью населения этой окраины.
В действительности с 1810 по 1890 г., т. е. 80 лет, финляндцы употребляли на энергичную борьбу против России, с целью приобретения возможно полного автономного положения.
Уже в 1811 г. Выборгская губерния, завоеванная русскою кровью, присоединяется вновь к Финляндии. Работа в этой губернии по уничтожению следов русской гражданственности еще не закончена и в настоящее время. Затем понемногу, при содействии некоторых русских сановников, нас приучали забыть, что Финляндия поступила в собственность и обладание Российской империи, нас понемногу учили, что Финляндия должна управляться по Шведской конституции 1772 г. и, наконец, начали учить со времени введения сеймового устава 1869 г., что Финляндия вовсе не русская провинция, а автономное государство.
В 1880 г. в Финляндии вводится устав о воинской повинности, который дает ей свое национальное войско, не многочисленное по числу батальонов, но, при хорошо задуманной системе резервов, способное выставить вооруженную силу близ русской столицы в 100 000 человек.
В результате финляндцы без пролития крови, осторожно, энергично и систематично работая в течение 80 лет XIX столетия, успели снова отодвинуть Россию от Финского и Ботнического заливов и этим в значительной степени лишили нас результатов побед, купленных ценою крови многих тысяч русских людей.