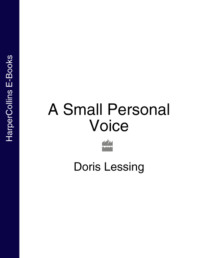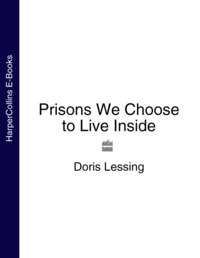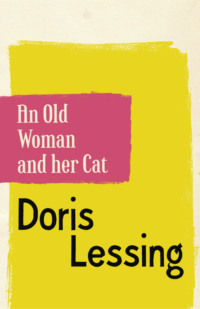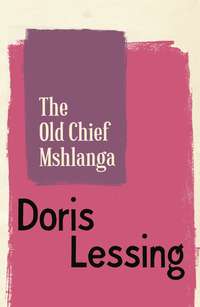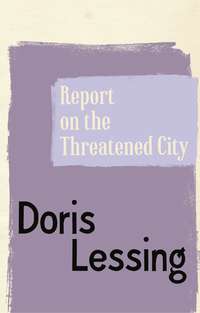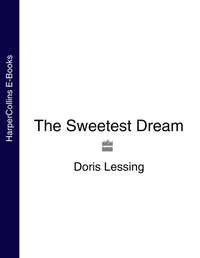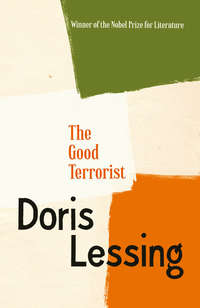Полная версия
Лето перед закатом
Дорис Мей ЛЕССИНГ
ЛЕТО ПЕРЕД ЗАКАТОМ
Дома
На пороге дома, скрестив на груди руки, стояла женщина и как будто чего-то ждала.
Предавалась размышлениям? Вряд ли она так назвала бы свое состояние. Она пыталась нащупать что-то неуловимое в своем подсознании, вытащить его на свет и дать этому «нечто» определение; в последнее время она все чаще стала «примерять» на себя, словно платья с вешалки, разные мысли и идеи, приходившие ей на ум. Она переваривала в себе избитые, как детские считалки, слова и фразы: критические моменты жизни принято отмечать определенными, довольно стереотипными выражениями. Ах, первая любовь!.. Старость – не радость… Это мой первенец, сами понимаете… С любовью не шутят!.. Брак – это компромисс… Увы, где моя молодость! Разумеется, выбор того или иного из этих освященных временем штампов зависит скорее от социальной среды говорящего и от непосредственного окружения, в котором он в данный момент оказался, нежели от его личных качеств и эмоций. Об истинных чувствах человека можно судить либо по улыбке, о которой сам он порой не догадывается, либо по горькой складке, залегшей в уголке рта, а то и по вздоху, невольно вырвавшемуся после такого, к примеру, заявления: Детство далеко не всегда безоблачно! Эти пущенные в обиход клише, словно взятые с образцового рекламного стенда, обладают такой внушительной силой, что многие твердят и твердят, не задумываясь: Юность – лучшая пора жизни или: Для женщины любовь – это все – до тех пор, пока в один прекрасный день не поймают в зеркале собственное выражение лица в момент произнесения одной из подобных деклараций или же пока не перехватят невольную гримасу собеседника или собеседницы в ответ на свои откровения.
Женщина стояла, скрестив руки, на пороге своего дома и ждала, когда закипит чайник.
Бастовали электрики, и в доме почти весь день не было света. Тим, младший сын женщины, и дочь Эйлин съездили рано утром за город, в Эппинг-форест, набрали там хворосту и под непрерывные шутки и смех разложили в саду посреди гравиевой дорожки костер, смастерив над ним треножник из обломков металла, которые они откопали среди хлама в углу гаража. Этот костер – возня вокруг него, приготовление завтрака и ленча, шутки – стал центром жизни семьи на весь день. Но женщине было не до шуток, суета вокруг костра скорее раздражала ее. Целых двадцать минут ушло только на то, чтобы вскипятить чайник, – уже много лет не слышала она, как он поет. Электричество, не успеешь оглянуться, доводило воду до кипения, так что чайник даже не успевал запеть.
Может быть, она просто невосприимчива к окружающему? А может быть, и Тим и Эйлин – в общем-то уже взрослые люди: одному девятнадцать, другой двадцать два года – тоже не настолько увлечены затеей с костром, как казалось; возможно, они просто притворяются из деликатности, чтобы не нарушать общего настроения? И их поведение – всего лишь подтверждение старой народной мудрости, оправдывающей условность, от которой люди не способны отрешиться ради правды жизни, какова бы она ни была?
Как не способна это сделать и сама женщина.
А правда жизни сейчас заключалась в том, что женщина все чаще и чаще с тревогой сознавала, что не только слова, которые она произносила, и многие мысли, которые приходили ей в голову, были сняты с чужой вешалки и надеты ею на себя, – самое главное, что чувства, одолевавшие ее при этом, никак не соответствовали ни этим словам, ни мыслям.
Женщина разомкнула руки, подошла к нелепому сооружению посреди гравиевой дорожки, подкинула хвороста под чайник, свисавший с треножника, и прислушалась: изменился ли тембр песни чайника хоть сколько-нибудь? Ей показалось, что изменился. Если завтра опять не будет света, как грозятся электрики, то, пожалуй, не мешало бы приобрести походную плитку или что-нибудь в этом роде; бойскауты – мастера на всякие выдумки, спору нет, только вот что делать, если дождь зарядит надолго… Ходят слухи, что забастовка скоро не кончится. Что-то зачастили эти забастовки: вроде бы совсем недавно последний раз отключали электричество? Судя по всему, эти энергетические кризисы, приводящие к нехватке топлива, света, горючего, будут повторяться все чаще, и рачительная хозяйка должна позаботиться кое о каких запасах. Возможно, Тим и Эйлин были правы: грузовик дров в хозяйстве не помешает.
Женщина вернулась к порогу, прислонилась, как прежде, спиной к стене и скрестила на груди руки.
Бывают события, которые затрагивают судьбу всего народа – войны, забастовки, наводнения, землетрясения; они считаются стихийными бедствиями. И если вдуматься, то крутыми поворотами в жизни многих и многих людей были именно такие потрясения: нашествия, войны, междоусобицы, эпидемии, голод, наводнения, землетрясения, отравление почвы, пищевых продуктов и воздуха. Любопытно, что штампы, применяемые в разговоре об общенародных бедствиях, выражают чувства более искренне, чем те, что служат для описания личных несчастий.
Она услышала, что чайник стал затихать, и, протянув руку, взяла с кухонного стола, находившегося у нее за спиной, огромный фарфоровый кофейник, в который уже заранее был насыпан кофе. С кофейником в руках она стояла у костра, наблюдая, как под давлением пара начинает плясать крышка чайника.
Судить о жизни только по высшим точкам ее напряжения нельзя: в конце концов события личной судьбы, равно как и общенародной, совершаются не в один день. Проходят месяцы, а то и годы, прежде чем человек наконец скажет: Боже, как изменилась моя жизнь, имея в виду большую любовь, вдруг вспыхнувшую в нем, или ненависть, или брак, или просто окончание испытательного срока на службе. Изменилась жизнь, потому что изменился сам человек.
Пар так и подбрасывал крышку чайника и уже выбивался из носика.
Надев на руку толстую стеганую варежку, она сняла чайник, залила кофе шипящим, стреляющим горячими брызгами кипятком и поставила чайник возле костра, подальше от травы, чтобы на газоне не осталось желтого круга. Затем раскидала недогоревшие ветки из середины костра; не забыть бы убрать весь оставшийся хворост под навес на случай, если хлынет дождь. Ведь она не бойскаут, это тем ничего не стоит развести костер из сырого хвороста.
Взяв чайник в одну руку, а кофейник в другую, она пошла на кухню.
Я попала между жерновами, ох и крепко же меня перемалывает жизнь… Такое обычно говорится или ощущается не без некоторого самодовольства. Это ли, мол, не удивительно? А что здесь удивительного? Чувство победы над собой? В конечном счете это чувство испытывают и те, кто придерживается мнения, что человеческая жизнь стоит не больше жизни какой-нибудь тли – таких сравнительно немного, – и те, кто по старинке считает, что люди ответственны за свои поступки перед лицом всевышнего, ибо человек – создание бога. Или богов. Но почему, собственно, человек должен придавать значение тому, что он что-то преодолел, чему-то научился, созрел, поднялся на ступеньку выше, если он всего-навсего тля? Потому что испокон веков бытует мнение, может быть, самое стойкое в нашем сознании: живя, человек приобретает жизненный опыт – вот что важно.
К сожалению, порой уходит масса времени и тратятся непомерные усилия, чтобы познать даже очень малое…
И она действительно ощущает это на себе? Да, ощущает.
Женщина поставила кофейник на поднос, где заранее были приготовлены чашки с блюдцами, ложки, сахар и ситечко, и взяла поднос в руки; прежде чем выйти из кухни, она обернулась и взглянула на стол, заваленный грязной после обеда посудой. Посуда, оставшаяся после завтрака, тоже находилась там. Может, попросить Тима снова развести костер, вскипятить побольше воды, чтобы хватило на всю накопившуюся за день посуду, и перемыть ее разом? Нет, пожалуй, не стоит трогать его сейчас, он в каком-то взвинченном состоянии; лучше уж вымыть попозже.
Женщина вышла из боковой двери на давно не стриженный газон, на котором тут и там красиво белели островки маргариток, и направилась к дереву, единственному на весь сад. Женщину эту звали Кейт Браун, а точнее – Кэтрин Браун, или миссис Майкл Браун. Она осторожно несла поднос, обдумывая, как лучше справиться с завалом посуды на кухне, и в то же время где-то подспудно в ее сознании текли другие мысли: женщина вела свою бухгалтерию, калькулировала, подводила баланс… Она хотела, чтобы нынешняя стадия ее жизни – неважно какая по счету – поскорее завершилась. Если рассматривать жизнь только в виде точек высокого накала, или пиков, то у нее ничего такого уже давно не было; и в будущем ее ничего не ждет, кроме медленного, но верного увядания с постепенным сведением на нет ее роли матери и хозяйки дома.
Иногда, если повезет, процесс – или стадия – старения проходит в ускоренном темпе. Для Кейт это лето обещало обернуться именно таким – до предела напряженным, концентрированным отрезком жизни.
Что ожидало ее впереди? Обыкновенная старость – и больше ничего. Старость, разумеется, никого стороной не обходит. Ах, как летит время!.. Не успеешь оглянуться, а жизнь уже прошла… Что ни говорите, а зрелость – это уже закат . И так далее, и тому подобное. Но случай с Кейт не вполне обычный, старость не будет подкрадываться к ней исподволь, едва заметно, осознаваемая лишь в моменты отчаянных усилий удержать стремительный бег лет, своевременно подкрашивая волосы, поддерживая в норме вес, внимательно следя за модой, чтобы всегда выглядеть элегантной женщиной, а не молодящейся старушкой. Почти у всех людей старение – процесс многолетний… если только старость не наступает мгновенно – под влиянием тяжелых переживаний, во время землетрясения, когда почва уходит из-под ног, когда родному городу грозит наводнение или когда у тебя на глазах гибнут под бомбами дети, и сердце каменеет от горя, и нет сил жить. Молодость сменяет средний возраст, но отметить момент перехода из одного возраста в другой – трудно. Позднее приходит старость, но опять же человек не замечает, когда это случилось. Однако перемены в самом человеке все-таки произошли, – и еще какие! – например, в его отношении к окружающим; но ему самому это вряд ли заметно, ибо душа его обрастала ледком медленно, день за днем. Приходит время, и однажды, на склоне лет, человек вынужден признать: Как это ни грустно, молодость уже позади. У большинства людей бывает именно так. Но у Кейт Браун все было иначе: ей суждено было покончить с этой проблемой разом, в течение нескольких месяцев. И хотя могло показаться, что все перипетии того лета носили сугубо внутренний характер и испытанию подвергались ее терпение, добрый нрав и запас стойкости, в действительности же чисто внешние факторы оказали влияние на ее скромную судьбу, спрессовав ее жизнь и заставив Кейт почувствовать, что старость неотвратима и уже стучится у порога. Ни личные добродетели, ни свойства ее натуры никак не повлияли на события того лета.
Если бы к тому времени, когда старость уже вошла в жизнь Кейт, ее спросили, какой путь к ней она бы предпочла, она не задумываясь ответила бы, что именно такой и никакой иной; но выбрать именно такой вариант сама она не смогла бы, поскольку у нее не хватило бы ни опыта, ни воображения. Нет, она отнюдь не стремилась к тому, что с ней должно было случиться в недалеком будущем, хотя интуитивно чувствовала: что-то происходит! Стоя под сенью дерева с подносом в руках, она не могла отделаться от одной мысли: со мной творится что-то неладное, что именно, не понимаю.
Она поставила поднос на столик, сделанный из какого-то материала, изобретенного в последнее десятилетие. Столик выглядел как металлический, но на поверку был почти невесом, и казалось, его можно было поднять двумя пальчиками, однако стоял он вполне устойчиво и не опрокидывался, если на один конец его ставили что-нибудь тяжелое.
В выборе этого стола она не участвовала – его выбрали без нее, равно как и эти вот чашки из пластмассы, искусно имитирующей фарфор.
Женщина вышла на середину лужайки, откуда видны окна верхнего этажа, и, прежде чем крикнуть и позвать к столу мужа, перевела дух и мысленно представила себе картину, которая откроется ему, когда он, высунувшись из окна, откликнется: «Иду!»
Он увидит стоящую посреди газона женщину в белом платье с розовым шарфиком вокруг шеи и в белых туфлях.
Вот это был ее выбор, сознательный и хорошо взвешенный: ее внешность с головы до пят – воплощение утонченного вкуса и умеренности, отвечающей духу буржуазного пригорода, где она жила, и ее положению жены своего мужа. Ну и, разумеется, матери своих детей.
Платье с этикеткой «Jolie Madame» было в меру строгим и очень к лицу. Неотъемлемой частью туалета были чулки и туфли. Волосы – и здесь мы дошли до того объекта, на котором сосредоточивалась вся энергия и выдумка нашей героини, – были уложены крупными, мягкими волнами вокруг лица, где она милостиво оставила несколько веснушек – на горбинке носа и на скулах. Муж всегда говорил, что веснушки красят ее. Волосы были с рыжеватым отливом, не слишком бросавшимся, однако, в глаза. Это была здоровая, миловидная, готовая во всем пойти навстречу женщина.
Заслонившись рукой от солнца и выждав мгновенье, она позвала:
– Майкл! Майкл! Кофе!
За стеклом, в котором отражалось яркое солнце, появилось расплывчатое пятно – лицо мужа, и он крикнул в ответ:
– Идем!
Женщина вернулась к столу, осторожно ступая, чтобы не запачкать травой туфли. Будь ее воля, она бы предпочла пробежаться босиком, скинув чулки и туфли, распустив волосы, в свободном балахоне типа гавайского му-му, в сари или в саронге – в чем-нибудь этаком.
Она не позволяла себе никаких экстравагантностей ни в одежде, ни в прическе, ибо давно, когда дети были еще подростками, видела, как их шокировало, если она давала волю фантазии. Мэри Финчли, соседка, живущая в доме напротив, одевалась как бог на душу положит, не считаясь ни с мужем, ни с детьми; ребята не выносили этого и не упускали случая показать матери свое к этому отношение.
И хотя Кейт была согласна с Мэри, когда та говорила: «А с какой стати потакать их капризам, подлаживаться под их вкус? Дети не должны быть тиранами», сама Кейт всегда старалась приспособиться к своим детям. Она считала, что в подобной ситуации ее дети будут вести себя не лучше, чем дети Мэри.
Кейт расположилась в тени дерева, выставив на солнце только ноги, словно в чулках они могли загореть. Она рассматривала свой большой дом – прямоугольный, окруженный обширным садом. Как будто прощалась со всем этим – такое настроение было навеяно состоявшимся недавно у нее с мужем разговором о том, что дети скоро станут совсем взрослыми и пора подумать, не сменить ли этот громоздкий дом на что-нибудь поменьше. Может быть, купить квартиру в городе? Или приобрести на паях с друзьями – с Финчли, например, – домик, где-нибудь подальше от городского шума, и навсегда поселиться в провинции.
Кейт частенько думала об этом, но всегда как о далеком будущем.
Пока же стоял май – английское лето, непостоянное и зыбкое, преддверие осени, – а с его приходом начинались перебои в жизни семьи, этого небольшого организма, который размеренно и четко работал в южной части Лондона, точнее, в Блэкхите. Здесь ежегодно происходили взрывы – тем более сильные, чем взрослее становились дети, и организм выбрасывал вовне частицы себя, с каждым разом рассеивая их все шире и дальше по планете. Организм ежегодно как бы делал выдох поздней весной и вдох в сентябре.
В прошлом году в июле Майкл, довольно видный невролог, поехал на очередную конференцию, проходившую в Америке; воспользовавшись случаем, он остался на три месяца поработать в бостонской клинике и возвратился только в октябре. Кейт тоже поехала с мужем на конференцию, но вскоре ей пришлось вернуться домой по семейным обстоятельствам, правда, в сентябре она вырвалась к нему еще раз – поездки ее туда и обратно зависели, естественно, от передвижения по белу свету их отпрысков. А это беспокойное племя курсировало между домом и самыми отдаленными уголками Европы на протяжении всего лета.
В этом году Майклу по обмену опять предстоит работать четыре месяца в той же клинике в Бостоне. Старший сын Стивен, двадцатитрехлетний студент последнего курса университета, собирается с друзьями на четыре месяца в поездку по Марокко и Алжиру. Двадцатидвухлетняя Эйлин поедет вместе с отцом в Штаты – в гости к своим друзьям, с которыми познакомилась прошлым летом во время туристской поездки по Испании. Второго сына, Джеймса, пригласили до начала занятий на первом курсе университета в археологическую экспедицию в Судан. Что касается самой Кейт, то на этот раз она решила не ехать с мужем в Штаты. Такое решение было отчасти продиктовано стремлением не портить поездку дочери – она знала, что уже самим своим присутствием будет мешать ей. Кроме того, ехать всем троим – очень дорого. И в довершение всего она не была уверена, что не помешает мужу… Эта мысль вызвала у нее улыбку, более похожую на гримасу, которая с успехом могла бы сопровождать такое клише: Брак строится на взаимных уступках; вникать в эту сферу глубже она не имела ни малейшего желания, это она знала твердо.
Была еще одна проблема – Тим; ему уже исполнилось девятнадцать, и в семье всячески поощряли его самостоятельность, но на сей раз он не собирался уезжать на лето из дома. Он всегда был, что называется, «трудным ребенком». Словом, получалось, что ради одного только Тима будет функционировать целый дом в южном Лондоне. Ей, матери, придется вести хозяйство. Ближайшие летние месяцы пройдут так же, как проходили уже не раз. Ее дом будет базой для семьи, бороздящей шар вдоль и поперек: то после учения домой на каникулы, то проездом куда-нибудь с остановкой на день или на недельку дома – и так без конца; она будет их всех кормить, сбиваться с ног, заботясь об удобствах своих детей, их друзей и друзей их друзей. Всегда к услугам, всегда готовая бежать по первому зову.
Она предвкушала это время не только потому, что предстояло появление новых лиц; она радовалась самой суете, связанной с устройством молодежи, а главное, предвкушала сознание своей необходимости; возможность посвятить больше времени своему саду тоже радовала ее. Когда они, Кейт и Майкл, распрощавшись с активной жизнью, уедут отсюда, то не о доме будет тосковать Кейт, а о саде – поистине прекрасном, каким бывает только английский сад после почти двадцати лет неусыпных, любовных забот. Глядишь на него, и кажется, что не человеческие руки взрастили его, а он сам, как по волшебству, поднялся из земли, раскидав тут лужайку, там – группку лилий, подальше беседку из вьющихся роз и повсюду островки разнотравья. Круглый год там пели птицы. Нежно дул ветерок. Там не было клочка земли, которого бы Кейт не знала, к которому не приложила бы рук, который не возделала бы сама – с помощью земляных червей, конечно.
Она сидела, вдыхая аромат роз, лаванды и чабреца, и наблюдала, как от дома к ней идут муж и его гость.
Звали гостя Алан Пост, и он не имел никакого отношения к медицине; он был международным чиновником и служил в одном из учреждений Организации Объединенных Наций. Познакомился он с доктором Майклом Брауном в зале ожидания Лос-Анджелесского аэропорта – самолет, которым оба должны были лететь, задержался из-за тумана. Коротая время, они играли в шахматы и потягивали виски, а под конец обменялись адресами. Неделю тому назад они случайно столкнулись на Гудж-стрит и зашли куда-то пообедать. После этого Майкл пригласил Алана к себе провести воскресный день в семейном кругу.
Если бы не было перебоев с электричеством, то Брауны приготовили бы традиционно-английский воскресный обед – не ради себя, конечно, ибо они давно уже отошли от старинных обычаев, а ради того, чтобы угостить Алана; у них даже была давняя семейная шутка о том, что они, как крестьяне, наживающиеся на туристском буме, неизменно предлагают своим друзьям-иностранцам блюда английской национальной кухни. Но сегодня шеф-поваром была Эйлин, а ее помощником – Тим. И перед тем как куда-то убежать по своим девичьим делам, Эйлин подала на стол холодный турецкий суп из огурцов, шиш-кебаб на вертеле и ледяной абрикосовый шербет – холодильник работал на газе. За обедом было выпито немало «Сангрии»
[1]
– рецепт привез в прошлом году из Испании средний сын.
После обеда Майкл и Алан Пост не сразу встали из-за стола и с увлечением продолжали разговор, который они позднее перенесли наверх, в кабинет хозяина. Кейт налила кофе в симпатичные пластмассовые чашечки, которыми стала пользоваться для сервировки стола на воздухе с тех пор, как однажды к ним в сад в погоне за каким-то своим недругом ворвалась соседская собака и вдребезги разнесла ее лучший фарфоровый сервиз. Подав кофе и шоколадные вафли, она изобразила на лице вежливую улыбку, за которой, как за хорошей ширмой, можно было думать о чем-то своем. В данный момент она думала о муже.
Когда он вот так поглощен захватывающей беседой с друзьями, особенно с приезжими иностранцами, он отдаляется от нее, становится чужим. Объяснялось это вовсе не тем, что он принадлежал к людям, которые ведут себя по-разному в зависимости от окружения, – просто когда он бывал, например, с Аланом Постом, создавалось впечатление, что вокруг Майкла образуется особая, более утонченная атмосфера, атмосфера окрыленности, плечи его расправлялись, словно у него вырастали крылья… В прошлом году, когда Кейт сопровождала мужа в Штаты, она не раз была свидетельницей такого душевного подъема; она почувствовала тогда, будто все годы их совместной жизни он хранил в своих внутренних кладовых нерастраченный запас духовных сил, которым не находил применения в рамках семьи; Кейт и Майкл, разумеется, проанализировали ее впечатления и ощущения. Она питала тайную надежду, что и он ответит ей таким же признанием, но муж ничего не сказал. Она сидела и думала, что вот в этом году целых четыре месяца он будет один, без жены, лишь время от времени встречаясь с дочерью; и другая улыбка – сухая, ироничная – появилась у нее на лице. Она отдавала себе в этом отчет, она, как говорится, «отработала» эту улыбку. При других обстоятельствах – если бы, скажем, какая-нибудь женщина помоложе (не ее ровесница, не такая, как Мэри Финчли) стала искать у Кейт ответа на этот животрепещущий вопрос – она бы, наверное, откинувшись небрежно на спинку стула и укрывшись за броней иронии, тоном умудренной опытом женщины ответила: «Все мы в молодости придаем слишком большое значение пустякам – кто из мужчин не флиртует? Право же, это не в счет в здоровом прочном браке!» На смену прежней полуулыбке-полугримасе пришло нечто весьма смахивающее на ликование: удалось-таки обойти расставленную ловушку, избежать опасности… Сидя под раскидистым деревом, слегка касаясь ручки кофейника, как бы давая этим понять: кофейник полон, пейте сколько угодно, – и не переставая улыбаться, она вдруг услышала внутренний голос, говоривший ей: «А ведь ты сама себя беспардонно обманываешь! Чудовищно! Зачем все это нужно? Есть в этом что-то такое, от чего ты сознательно отводишь глаза». Она прислушалась: кажется, мужчины заговорили о чем-то, касающемся и ее.
Конференция, на которую приехал Алан Пост, столкнулась с рядом организационных трудностей. Вернее, не сама конференция, а одна из ее комиссий; организация, под эгидой которой проходит конференция, называется Всемирной продовольственной организацией и занимается изучением того, чем и как питается человечество. Или не питается. Когда члены комиссии собрались за столом заседания, выяснилось, что из-за цепи роковых случайностей работу начать нельзя – одного переводчика свалил грипп, другой сломал бедро, третий скоропостижно умер в Лиссабоне. И если найти квалифицированных переводчиков с французским, немецким, испанским языками было проще простого, то найти людей, в совершенстве владеющих португальским и английским одновременно да вдобавок еще достаточно эрудированных, оказалось куда труднее. Португальский язык требовался потому, что одна из подкомиссий занималась проблемой кофе; в Бразилии же, ведущем мировом производителе кофе, официальный язык – португальский. Заседание подкомиссии пришлось отложить, пока не подберут переводчиков. Двоих уже нашли, не хватало еще двоих; Алан Пост и Майкл вопросительно смотрели на Кейт, ожидая, что она с радостью ухватится за эту возможность и станет третьей. Три года назад Кейт перепечатала на машинке для подруги, которая сама печатать не умела, популярную книгу о разведении кофе и его рынках сбыта. Поэтому она разбиралась в существе предмета. Кроме того, у нее были прекрасные способности к языкам. Французский и итальянский она знала хорошо; португальским владела в совершенстве, так как была наполовину португалкой. Она рано окончила школу, и у нее образовался трехлетний перерыв перед поступлением в университет. Один год из этих трех она провела в Лоренсу-Маркише [2] в гостях у своего деда, филолога по профессии. Там она говорила только по-португальски.
Чему еще научилась она за этот год, живя в городе на берегу Индийского океана? Дед был приверженцем старых взглядов на место женщин в обществе и относился к внучке со всей строгостью. Правда, он исполнял любое ее желание, но в то же время не давал забыть, что ей, существу женского пола, раз и навсегда отведена второстепенная роль в его жизни, так же как его жене и дочерям. Вот Кейт того периода, какой она себя помнит: юная, хрупкая, как камелия, девушка с молочно-белой кожей и густыми каштановыми волосами, в льняном белом вышитом платье – воплощение такой притягательной женственности, что молодые люди, окружавшие ее, дав волю воображению, не могли оторвать от нее глаз. Она обмахивалась шелковым вышитым веером, изящно вращая кистью, как ее учила старая нянька, а юноши, которые должны были испрашивать разрешения деда даже на то, чтобы разговаривать с Кейт, сидели полукругом в плетеных креслах и наперебой расточали ей комплименты. Шел 1948 год. Она пользовалась огромным успехом в Лоренсу-Маркише – отчасти потому, что ей, англичанке, как она ни старалась, трудно было следовать нормам, которые дед считал идеалом; отчасти потому, что сочетание коротких рыжеватых волос с карими глазами было редкостью в краю знойных сеньорит; а отчасти потому, что при нетерпимости деда к любым вольностям поведение Кейт и высказываемые ею взгляды производили порой впечатление тонко рассчитанной, ловкой игры, которая расценивалась в колонии как скрытый вызов дедовым установлениям.