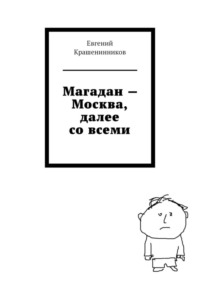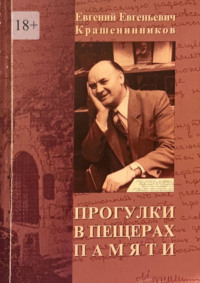Полная версия
В правом нефе
в том, чтобы . Если исчезнет существенное, внутреннее, содержательное, то исчезнет и сам организм. При этом не обязательно является невидимым, скрытым, спрятанным; оно практически всегда выражается . Например, любовь супругов друг к другу и детям – это не просто глубоко запрятанное чувство «в душе»; это множество конкретных действий: например, вспомнить про день рождения или иную дату заранее и подарить подарок (если для другого это важно – сколько бы мы ни считали, что это пережиток, что бюджет всё равно общий, что и так же он/она в курсе наших чувств); например, собираться за ужином за столом всем вместе; например, выходить в коридор и приветствовать приходящего с работы или с учёбы… В разных семьях разное, но всегда что-то есть. И цели образования тоже легко реконструируются из применяемых методов – из внешнего. Если на уроке литературы по шаблону пишут про «образ дуба» и «Некрасов о поэте и поэзии», то совершенно не важно, что написано в программе (а там написано «развитие творчества… нравственности… ответственности…»). Первая проблема не перепутать внешнее и внутреннее, существенное и формальное внутреннее во внешних формах
И отсюда (или продолжение первой): понять, (они не обязательно неправильные; они могут быть вполне хорошими, но при этом не обязательными; но могут быть и случайными, или соответствующими какому-то конкретному периоду – или да, ошибочными). вторая проблема какие внешние формы выражают главное, а какие нет
Когда говорят о традиции, о сознании традиционалистском, часто критерием выдвигают давность того, чего предлагает придерживаться человек. Мол, если пропагандирует нечто сложившееся в Средние века, то ретроград, а если что-то возникшее в последние годы, то свободный человек. Если ссылается на Ферраро-Флорентийский собор, то затхло-болотист, а если на любого Папу, здравствующего на сей момент, то просто свежий ветер в паруса Церкви.
И вот подтолкнули меня написать эту заметку три обстоятельства. Изложу по порядку.
Несколько лет назад я прочитал в «Evangelii gaudium» слова о том, что ; что . «…многие сильно укоренённые традиции сегодня уже интерпретируются по-другому… Давайте не будем бояться их пересмотреть! …требовать исполнения предписаний, добавленных позднее Церковью, следует умеренно…» В этой фразе нет ничего необычного, неожиданного, но меня в том момент поразил изменившийся контекст, в котором эта фраза оказалась. Ведь это суждение, не адресованное в тексте напрямую никому, было про всех: про тех, кто формы религиозной жизни, в которых он вырос, к которым привык, которые практиковал, например, пятьдесят два года, принимает за вечное – а это же всего лишь та внешняя традиция, к чему ты привык в силу обстоятельств рождения и времени проживания; это может быть вполне суетное, сиюминутное. Ведь увещевание Папы Франциска относится к любителям хороводных Месс, барабанного сопровождения Литургии, голых стен храма и т. п. – это ведь уже ставшее традиционным для множества людей, то, что слилось накрепко с верой, и поэтому любые попытки видоизменения сложившейся ситуации воспринимаются, как наезд на саму Церковь и попытка раскола. И новатором в этой ситуации парадоксально оказывается тот, кто призывает вслушаться в григорианское пение, как подспорье для молитвы; кто вспоминает, что вотивные таблички – это знак нашей молитвенной связи с теми, кто жил до нас – с Небесной Церковью; кто предполагает, что наши предки были тоже не дураки, и, например, латинский и церковно-славянский язык не мешал им быть христианами и становиться святыми (а количество святости в 12-м веке во Франции или в 19-м в России было меньшим, чем сейчас? надеюсь, никто не начнёт эти подсчёты). энциклике Папы Франциска не нужно жить прежними формами то, к чему мы привыкли, не обязательно хорошо
Вторым событием стала при Кафедральном соборе. Я был докладчиком. И когда начал готовиться к беседе, то подумал, что для участников я, наверное, олицетворяю (то есть кондовость, упёртость, формализм – уж не знаю, что ещё, раз я больше десяти лет в Совете Una Voce Russia); но ведь в своей профессиональной жизни я тридцать лет занимаюсь у дошкольников, школьников и взрослых; занимаюсь развитием способности создавать новое, менять мир, менять себя. И важной человеческой чертой считаю стремление к новому «самому по себе», как это существует у детей: просто хочется чего-то другого, хочется наоборот, хочется изменения. Что, разумеется, не отменяет осмысленности этого «наоборот», так как творчество – не просто создание нового, но и решение задачи, то есть мышление – а в нём важно не просто подставить любой ответ, который приходит в голову, а найти ответ правильный, который помогает достижению цели. беседа о творчестве в Мужском клубе традиционализм развитием продуктивного мышления и творчества
А непосредственным поводом к написанию этой заметки стало третье – , современного иконописца. Архимандрит Зинон, насколько я знаю, входил в Попечительский совет Свято-Филаретовского института (думаю, для российских христиан понятно, что это не оплот «мракобесия», «платочконошения» и «славянобубнежа»; это детище отца Георгия Кочеткова), он публиковался фондом имени отца Александра Меня и вообще подвергался гонениям своего священноначалия за канонические нарушения. И вот он пишет не только о культе невежества среди тех, кто не хочет понимать существующее богослужение, но и непосредственно то, что меня сейчас зацепило: «То же самое и с древними знаменными распевами. Сейчас музыканты стали ценить их и исполнять, а раньше они считались варварской музыкой. Те, кто был воспитан на итальянских образцах, не понимали и не принимали их. Сегодня церковные люди тоже часто не понимают этих распевов. Тут, наверное, типично русская черта, о которой ещё протопоп Аввакум писал: „Как у нас что положено, так вовеки и лежи!“ К чему привыкли, того никак не сдвинуть». книга архимандрита Зинона
Но ведь что получается: оказывается, что этим . привычным, несдвигаемым, кондовым являются не древние формы благочестия или архаичные формы богослужения, а именно «современные»
Дело в том, что косное мышление – это мышление конкретного человека (как и любое мышление); и оно не имеет никакого отношения к историческому времени, которое этому человеку интересно. Мышление косное, неподвижное, упёртое черпает свои основания ; в окружающей наглядности; в своём собственном мнении и вкусе, которые в реальности, конечно, никакие не его собственные, а вполне сформированные окружающей средой и мейнстримом последних десятилетий. в конкретном опыте данного человека, за пределами которого ничего нет
Так называемый же церковный традиционализм позволяет выйти за пределы своего личного, непосредственного опыта, выйти . Любая попытка увидеть разное, непохожее, иное позволяет раскрепостить мышление, позволяет раскрыться истинному творческому потенциалу (творческому, то есть не разрушительному, а созидательному). То, что сейчас вокруг нас, может быть и отличающимся, но чаще в главных основаниях достаточно подобное друг другу; то, что было раньше, отличается стопроцентно; оно однозначно другое – именно внешне. И оно, разумеется, сложнее, потому что непривычно; а, значит, для его понимания требуется усилие, требуется размышление, требуется вчувствование, требуется образование, требуется как раз своё действие – индивидуальное, субъектное, инициативное. за пределы наглядности и биографического цикла
А, во-вторых, традиционализм выводит учение Церкви – то есть опять-таки за пределы самого себя. Ты уже точно не критерий истины; ты должен искать и не удовлетворяться первым приходящим в голову ответом, потому что, если он просто твой первый попавшийся, то, скорее всего, неверный, так как ты черпаешь его из своего ограниченного опыта. Ты должен развиваться, чтобы понять то, чему не учила тебя обыденность – искать универсальное, чтобы через него и в нём уже строить свою собственную личность, которая именно в этом случае становится не суммой случайных воздействий пионерлагеря, средств массовой информации и соседки под партой, а раскрытием заложенного потенциала, отличающего именно тебя, создающего твою уникальность. в вечное, неизменное
А дальше остаётся отвечать на первые два вопроса, которые я упомянул в начале. И отвечать, разумеется, всё время.
В этом тексте я не говорил, что любое современное искусство отвратительно. Примечание 1.
В этом тексте я не говорил, что любое древнее благочестие превосходно. Примечание 2.
В этом тексте я не говорил, что любой, называющий себя традиционалистом, лучше, чище, честнее, добрее, нежнее, чем тот, кто оскорбляет его полуматерно за реальные и несуществующие грехи. Примечание 3.
В этом тексте я не говорил, что любой, кто ругает традиционалистов (в том числе и тот, кто не может ответить на вопрос, что это такое), является еретиком, блудодумом и тупицей. Примечание 4.
В этом тексте я писал о психологии, а не о богословии и вероучении. Примечание 5.
Любовь как действие
Когда я веду речь о христианском отношении к миру, то подразумеваю не все возможные вариации, приходящие в голову людям, называющих себя христианами в социологических опросах или даже регулярно посещающих храм; я буду говорить об отношении к человеку, которое вытекает из церковного учения и воплощается в не противоречащих ему религиозных практиках.
Чтобы понять какое-либо явление, включённое в более широкий контекст, необходимо учитывать и сам контекст. Нельзя дать истинную оценку, например, мыслям о воспитании Джона Локка, в которых есть место пропаганде телесных наказаний в отношении юных джентльменов, не прочитав главу «Об ассоциации идей» в его «Опытах о человеческом разумении». Фраза «Каждому – своё» может быть сутью справедливого правосудия в системе Цицерона, лозунгом индивидуализации обучения или человеконенавистнической формулой, если слова «Jedem das Seine» прибиты над воротами Бухенвальда.
Мы понимаем, например, что для раскрытия понятия гегелевской «абсолютной идеи» мало открыть словарь (или развернуть свой жизненный опыт) и найти определения слов «идея» и «абсолютное»; каждому ясно, что требуется изучить, как минимум, «Науку логики». Но так же анализировать взгляды и поступки людей, исповедующих христианство, нельзя, не понимая, что большинство своих идей они не формулируют, так как эти идеи уже написаны в Катехизисе и произносятся ежевоскресно на богослужении, но при этом оторванные от оснований следствия могут показаться нелогичными и странными. Христианин основывает свои суждения, изначально исходя из Библии и учения Церкви, и его взгляды есть продолжение Священного Писания и Священного Предания.
Приведу несколько примеров постоянной неверной интерпретации суждений с религиозным содержанием, имеющей своим корнем как раз непонимание целостного мировоззрения автора высказывания.
. Авторство часто приписывается святому Игнатию Лойоле. На язык обыденного сознания переводится, как оправдание любых злодейств по отношению к людям: пытай, режь, жги, уничтожай, если считаешь, что ты прав. Как мы понимаем, релятивистская формулировка «если считаешь, что ты прав» не может быть руководством к действию в христианстве, ибо для христианина истина объективна, едина, реальна и базируется не на его субъективных предпочтениях или предположениях. И если мы удерживаем христианское понимание истины, то фраза сразу становится не просто логичной, но и никак не противоречащей здравой морали нормального человека: , что полученный в результате наших действий результат , то значит, применённые средства были правильными и моральными. Если результат точно добр (не «с нашей точки зрения», не гипотетически, не на семьдесят два процента, а точно добр) … Если же так сказать про результат нельзя, то и оценить средства как невозможно. Понятно, что при постановке цели может произойти ошибка: благо было понято неправильно. Тогда и средства, которые привели ко злу, оцениваем, как злодейские. Очевидный пример, характеризующий формулу «цель оправдывает средства»: мучительная ампутация конечности без наркоза в условиях полевого госпиталя на Курской дуге, в результате которой спасена жизнь солдата. А то же уничтожение людей по национальному или сословному признаку, чтобы оставшиеся стали, с точки зрения проводящих зачистку, счастливее без инородцев или классово чуждых элементов, никакого отношения к игнацианскому суждению не имеет, так как не имеет отношения к истине и добру. Пример 1. «Цель оправдывает средства» если мы знаем принёс добро точно благие
Авторство приписывается Тертуллиану. Воспринимается как фраза о том, что верующий готов верить в любое недоказанное (недоказуемое) суждение, особенно в наиболее бредовое. При этом данная фраза является всего лишь силлогизмом с пропущенной посылкой (которая при этом известна читателю, находящемуся в целостном христианском контексте): а) , что это явление существует (оно истинно); б) это точное знание противоречит предшествующему опыту, и ; в) значит, нужно в него просто (то есть признавать истинность существования без возможности рационального доказательства). То есть точное знание не является следствием абсурдной веры; как раз с него начинается рассуждение. Существенной является истинность изначального факта, к которому утверждающий пришёл не путём логических умозаключений, исходящих из прежнего опыта, или в ходе научно организованного эксперимента, а путём иным: например, видел своими глазами или слышал от того, кому имеет все основания доверять. Абсурдное (с точки зрения обыденного разума и опыта) может являться только предметом веры, а не разума – в этом утверждении ничего абсурдного нет. «Верую, потому что абсурдно». Пример 2. я точно знаю доказать его истинность путём логических размышлений невозможно верить
Это не суждение какого-либо церковного авторитета, а, наоборот, проблематизирующий вопрос, призванный обострить противоречия христианского мировоззрения. Вопрос иногда приписывается Декарту, хотя, возможно, формулировался и ранее. Сразу поражает «схоластичность» вопроса (под «схоластичностью» в данном случае я подразумеваю не реальную средневековую схоластику, а то, в чём её многократно обвиняли, а именно: оторванность от всякой реальной проблематики). И действительно: Богу больше нечем заняться, как создавать камни, которые не сможет поднять? Но останемся в рамках рассуждения, не обращаясь к практике. Ответ очевиден: раз Бог всемогущ. И все последующие возражения о том, что здесь получается логическое противоречие, демонстрируют лишь непонимание спрашивающего, что такое Бог – кто такой Бог. Бог не просто очень умный, очень сильный, очень могущественный человек – Он иной. И именно поэтому Он никакими нашими правилами – в том числе и правилами формальной логики. И каким способом Он будет осуществлять замысел, поднимая неподъёмный камень, человеку неизвестно. Хотя, конечно, первый ответ про странность подобного причудливого времяпрепровождения для Бога уже вполне достаточен. Пример 3. «Может ли всемогущий Бог создать камень, который не сможет поднять?» да, разумеется, не скован
В целостной системе христианского мировоззрения человек неминуемо оказывается существом активным, так как перед ним стоит трансцендентная, запредельная задача, объективная, истинная, которую нужно решить, и для правильного (и необходимого) решения у человека принципиально , но для их применения необходимо самого человека, а для их применения требуется развитие человека, развитие его . обязательно все средства есть свободное решение правильного разума
Но это в отношении самого себя – а как быть действовать по отношению к другим?
И тут мы приближаемся к важному вопросу, часто искажённо представляемому в окружающей культуре. Все помнят, что главной христианской богословской добродетелью является любовь и что христианство требует возлюбить даже врагов своих. В данный призыв звучит капитулянтски, как требование признать другого , и не вмешиваться в его жизнь, а, значит, и отказ от активной социальной позиции (пусть даже этот социум муж, дети, свекровь, шурин-деверь и двоюродные братья) и другим творить зло. Чтобы разобраться с этой позицией, необходимо понять, что подразумевается под любовью в христианстве. обыденном сознании таким, какой он есть негласное разрешение
Для начала хорошо бы вспомнить фразу Значит, каждый раз, когда мы предлагаем определение любви или предполагаем какие-то её свойства, то можно попробовать представить, а могут ли такие характеристики быть качествами Бога. «Когда я люблю, меня всю трясёт и колбасит…» – Бога трясёт от любви к человечеству? «Я его так люблю, что придушила бы иногда…» – коли речь о бессознательной амбивалентности, то даже если мы не можем точно дать определение Бога, мы, как минимум, понимаем, что Он не невротик. «Я люблю Машу, живу с Зульфиёй, мечтаю о Жозефине…» Но ладно – не будем всуе… «Бог есть любовь».
Любовь – другому человеку. Если это муж и жена, то их любовь – делание друг другу добра во всех сферах жизни (и интимной в том числе); если отношения менее близкие, то любовь – желание добра всегда и делание там, где есть сферы пересечения (невозможно облагодетельствовать весь мир, но желать этого, то есть быть готовым в момент соприкосновения с чьей-то жизнью помочь, делая добро, вполне можно). деятельное желание добра
Знать, что такое добро; желать делать добро; делать добро.
, что такое добро – именно добро, а не то, что считаешь добром по самому себе известным причинам; добро, а не то, что принято считать добром у других; добро, а не то, что написано в основополагающих документах партии и правительства. Знать
делать добро – а не просто радоваться неожиданным добрым последствиям своих поступков, которые вообще-то были направлены на достижение совсем иных целей, добру параллельных. Желать
добро – с реальным результатом, когда действительно, на самом деле, стало лучше. Делать
Знать, желать, делать.
Чтобы любовь действительно была божественной (христианской), мало только знать, что добро существует, и знать, что именно есть добро. Нужно ещё , на которого она обращена – кого любишь (именно знать – то есть иметь о нём истинное представление; знать его настоящего, такого, какой он на самом деле). И нужно уметь творить добро, то есть истинные представления о добре в реальность , чтобы ему стало действительно лучше. знать и того человека уметь воплощать по отношению к конкретному человеку
Мать может сколько угодно считать, что любит ребёнка и поэтому, заботясь о его здоровье, тратить безумное количество времени на укутывание его в сто одёжек – но ведь этот незакалённый ребёнок будет в жизни болеть не реже, а чаще; тогда почему говорится о материнской любви, а не заполнении своего времени делами и переживаниями, не имеющими отношения к реальному ребёнку и его реальной жизни, зато оправдывающими невымытую посуду и бардак в прихожей? Отец может сколько угодно объяснять любовью запихивание сына в некий университет, перспективный для дальнейшей карьеры, расположенный близко от дома и славный тем, что в нём проректором работает двоюродный дядя Будулай Людовикович, но бессмысленные многолетние мучения студиозуса и его работа в будущем не менеджером в нефтяной промышленности, а продавцом в компьютерном салоне, театральным репортёром или оформителем витрин показывают, что ребёнок в этой «любви» был представлен в виде фанерной модельки для вырезания на ней своих собственных радужных картинок. Супруги могут годами измываться друг над другом, называя это любовью, но разве это есть Бог?
Любить трудно. Для этого нужно развивать мышление.
Может ли умный человек быть безнравственным?
Разумеется.
А может ли глупый человек быть нравственным?
Такой человек (неумный) нравственным может быть только случайно, так как даже при наличии у него желания нести другим добро (что тоже не всегда бывает), требуется, как отмечалось выше, не ошибиться в том, что такое добро; правильно понять особенности другого, иначе все наши попытки потерпят крах; и способность обнаружить, подобрать наиболее эффективные способы реализации наших стремлений. Речь сейчас идёт о «нормальных» людях (с психологическими особенностями в переделах статистической нормы), которые не реализовывают заложенный потенциал и не занимаются развитием своего интеллекта.
Понятно, что и любить врагов своих не только не означает помогать им в их злодействах, но даже и соглашаться с ними или молчать в их присутствии, не оспаривая их человеконенавистнические суждения. Любить врагов своих – это делать всё, чтобы им стало лучше: не в смысле увеличения зарплаты, количества любовниц, властных полномочий или иного их преставления о собственном счастье, а в смысле приближения их образа жизни к образу жизни святого. Но найти способы их преображения, конечно, трудно; и христианин может найти в Священном Писании, документах Церкви и трудах Отцов Церкви и христианских подвижников только направления движения и общие принципы; а и лежит на нём, на его разуме, развитие которого является первейшим его . При этом, даже осознавая возможность ошибки, требуется всё равно совершать поступки – разумеется, продуманные и обоснованные. обнаружение конкретных способов ответственность за их применение долгом
Кстати, знаете, какое качество Отцы Церкви выделяли как главное в человеке, когда говорили про «»? образ и подобие Разум.
Развивающая догма
Понятия находится в одном смысловом поле вместе с понятиями и , и . Понятие лежит в иных смысловых пластах: оно ассоциируется с и , с и . Справедливо ли такое представление? развитие свободы индивидуальности творчества разнообразия догмы традиционностью исполнительностью одинаковостью похожестью
Христианская культура со стороны большинством воспринимается как культура нормативная и даже догматическая, то есть такая, в которой однозначно, неизменно определены важнейшие отношения человека с окружающим миром и людьми, изначально заданы правильные способы поведения и основные знания о жизни, которые становятся основой для суждений конкретных людей в различных ситуациях. Существующие в христианстве нормы справедливо описываются как религиозные, то есть основанные на , божественном авторитете, а, значит, и абсолютно и не подвергаемые критике и сомнению. непререкаемом неизменные
Результатом такой догматичности культуры должно, по широко распространённому мнению, являться зависимое поведение, инертное, несвободное мышление и настороженное отношение к новому. Типичный верующий представляется как зажатый, традиционный в поведении и мышлении. Те люди, которые оставили наиболее значительный позитивный след в истории (научной, религиозной, художественной и т.п.) часто рассматриваются как раз как отрицающие существовавшие нормы, выходящие за их пределы, разрушающие догматизм (и догматику).
В реальности же христианская культура именно в силу своей нормативности является культурой развивающейся и развивающей человека, позволяющей ему свободно осуществлять интеллектуальный поиск и строить свои взаимоотношения с окружающим миром.
Для того чтобы выстроить верное понимание реального поведения, необходимо анализировать целостную картину представлений, которые служат базой для размышлений и поступков людей. Человек, обладающий некоторой системой взглядов, далеко не всегда перед началом своих дел и рассуждений обозначает своё мировоззрение, особенно в тех случаях, когда оно всем вокруг известно (то есть перед современниками), потому что для него и для слушателей понятно, из какого источника проистекают его выводы. Так, например, священник, совершая богослужение, не рассказывает каждый раз подробно участникам Мессы Священное Писание и решения церковных соборов, но у присутствующих не возникают вопросы, почему он в какой-то момент становится на колени, воздевает руки или предлагает принять в себя Бога под видом хлебного опреснока. А вот у человека, незнакомого с данной культурой, всё будет вызывать вопросы, и, если у него не будет возможностей свою любознательность удовлетворить, то он может начать достраивать объяснения поступков этих людей, исходя из каких-то своих случайных представлений. В результате выводы чаще всего не будут иметь никакого отношения к наблюдаемой ситуации.