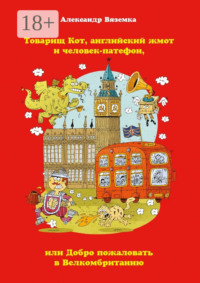Полная версия
Конрад Томилин и титаны Земли. Плато
– А? – на пару секунд Лукаш оторвал озадаченный взгляд от поделки.
– Надеюсь, я тебя не очень утомляю. Просто пытаюсь тебя своими глупостями развлечь. Потому что умностями небогат.
– Ничего, ничего – ты меня отнюдь не утомляешь… и не отвлекаешь… – отчего-то смущенно забубнил Лукаш. – Да, у бабочек тоже прописаны имена и фамилии. Не уверен, правда, что они об этом знают. Но это уже второстепенно. Главное, что Клеймо знает о них все.
Конрад понял, что разговор сегодня не удастся. За невероятно долгую историю развития, а затем – и саморазвития, андроиды не только обрели интеллект, равный человеческому. Каждый из них отличался теперь ярко выраженной индивидуальностью, собственной системой предпочтений, политических взглядов и личных привязанностей. Привязанность Лукаша 32.02.07 к Конраду Томилину была поистине братской. Однако если Лукаш бывал занят антиквариатом или поделками, он становился рассеян, угрюм, а порой и раздражителен.
Не отвлекаясь более на слова, Конрад подключился к радиоточке информационного доступа. На экране внутреннего визуального проектора поползла строка краткой справочной статьи:
«Колоссальный суперандроид – класс модели, возникший на биопсихологической платформе малого суперандроида. Отличается от малого склонностью сочетать неприятное с бесполезным…»
Читать дальше Конрад не стал. Справка была читана им не один десяток раз. Указанная склонность и еще ряд отличий возникли у одной из линий суперандроидов вследствие мутаций при самовоспроизведении. Программируемой корректировке мутации поддавались лишь частично, но вследствие их безобидности от попыток корректировки со временем отказались. Андроидам, включая суперандроиды, мутационное эволюционирование было несвойственно. Поэтому, принимая во внимание колоссальную исключительность произошедшего, за мутантами закрепилось наименование «колоссальные суперандроиды».
Строго говоря, изобретение Клейма было не столько прихотью человека, сколько потребностью со стороны андроидов. Сталкиваясь с неизвестным предметом, существом или явлением, человек испытывал любопытство. Или не испытывал ничего. Андроид же неизменно подвергался приступу паники вследствие того, что он привык обитать в информационно насыщенном пространстве. Отсутствие каких бы то ни было сведений о внезапно возникшем предмете, существе, явлении внушало ему мысли о собственной уязвимости и зависимости от обстоятельств там, где человек сохранял полную невозмутимость и ни малейшей потребности в панике не ощущал.
В случае с представителями растительного и животного мира Клеймо представляло собой набор базовой идентифицирующей информации, заключенной в ДНК. В потомстве «клейменых» растений и животных информация воспроизводилась биомолекулами самостоятельно. А вот из-за невозможности поголовного «клеймения» прокариотов и мельчайших растительных и животных организмов от их «клеймения» пришлось отказаться.
Если бы принцип Клейма был описан в каком-нибудь научно-фантастическом произведении до его непосредственного изобретения, любой серьезный ученый или просто человек с головой лишь рассмеялся бы. Однако теперь Клеймо вошло в число самых обыденных вещей и более не занимало умы своей новизной и неправдоподобностью.
В принципе, как часто уверял себя Конрад, ничего страшного в ношении Клейма не было. Оно лишь давало возможность получить сведения об объекте внимания при пассивном участии самого объекта – простом его присутствии: точно так же, как если бы объект поздоровался и лично представился. Клеймо позволяло экономить время и не отвлекаться на…
Конрад закусил губу и украдкой покосился на Лукаша.
«Тут есть какая-то загадка. Или нет? – подумалось ему. – Было бы обидно, если б ее не было. Тогда зачем все эти регистраторы статуса? Так… чтобы просто снимать показатели температуры общества, как снимают показатели погоды? Само собой, не я один об этом задумывался. Все об этом задумывались. И те, кто поумнее меня, знают ответ. Или по крайней мере выработали какое-то логическое и законченное умозаключение. Наверняка, у Лукаша есть своя версия. А может, ему известна правда до самых корней. У андроидов неприлично мощный интеллект. Представляю, как им обидно, что это они служат человеку, а не мы – им».
– Лукаш… – позвал Конрад вполголоса.
Тот не отзывался, с досадой разглядывая неудавшийся гриб с переломившейся ножкой.
– Лу…
– Я знаю, что ты хочешь спросить, – наконец ответил робот. – Я тебе скажу так. Есть мнение, что любая система хаоса несравненно более устойчива, чем любая система порядка. К тому же любая система порядка, предоставленная самой себе, стремится к хаосу. Нужно ли из этого делать вывод, что порядок не должен поддерживаться искусственным путем, а все должно быть пущено на самотек? То есть отдано на съедение всепожирающему, не знающему пресыщения хаосу? Некоторые считают, что да, именно такой вывод и следует и что именно его и требуется воплощать на практике.
– Но ты к ним не относишься?
– Нет. Хаос означал бы конец цивилизации, на создание которой были брошены тысячи лет и миллиарды жизней.
– Или означал бы рождение новой цивилизации.
– Вижу, нынешняя тебя не очень устраивает. Понимаю. Но мне отчего-то кажется, что, к примеру, актеров она устраивает вполне. Изменится ли твое мнение завтра, после того как ты будешь принят в актерскую гильдию, друг мой? Если да, ломаный винт – цена твоему мнению.
Конрад не нашелся, чем ответить.
– Молчишь? Неужели за тысячу лет так и не познал себя? Это меня не удивляет. Многие боятся познать себя до конца. Их больше устраивает то, чем они являются на поверхности. То, чем они кажутся.
– Лукаш, мне всего этого хватает в разговорах с моим спихологом. Кстати, ты сам-то познал себя до конца? Пытался?
Лукаш хитро улыбнулся:
– Я-то случай простой. У андроидов все чувства и намерения упираются в алгоритмы. Поэтому все наши чувства и намерения на поверхности. Скрытых нет. Мы как собачки: либо любим, либо лаем. Нечего познавать. Оттого мне так скучно с собой. А тебе? Тебе скучно с собой?
– Скучно с собой? Вот уж точно собачка: тебя разве должен кто-то занимать, играть с тобой? Скучно с собой – познавай мир. Мир-то тебе не прискучил? Я вот словно любовник, а мир – объект моей страсти. Каждый день – как новая встреча влюбленных…
– Конрад, то, что ты называешь «познаванием мира», – лишь знакомство с накопленной информацией о нем. Познают его ученые, философы. Мы же с тобой просто потребляем результаты.
– Разве этого мало?
– Мне – да. Вы, люди, довольствуетесь уже тем, что всю жизнь изучаете азбуку мира, не переходя к решению задачек. Это даже не пытливость ума, а лишь прилежность. Пытливость, которую не удовлетворишь просто знанием, при бездействии сводит с ума. Я схожу с ума. Как думаешь, зачем создали андроидов? Некому было точить деревяшки?
– Ишь ты: я, снашит, шитатель, а он – прырошденный ишшледофатель! – невнятно шамкал Конрад, пытаясь выявить в своем отражении в зеркале ванной черты экспериментатора и первопроходца.
– Простите, Конрад, что? – изо рта у него проворно вынырнул робот-щетка.
– Нишафо, нишафо – продолшай.
Щетка юркнула в норку рта и снова методично заползала по ротовой полости, вычищая ее, зубы и язык упругими мускулами волокон.
– В боковой поверхности зуба номер 17 обнаружена быстро разрастающаяся полость, – доложила она через пару минут. – Сквозное поражение органического матрикса эмали. Зубной клей больше не справляется. Желаете, чтобы я поставила пломбу самостоятельно? Или записать вас на прием к стоматологу?
– Не надо. Лучше закажи «Кальцитрит». Может, само затянется.
– Хорошо.
Конрад сполоснул рот и направился в гостиную, днем служившую ему и Лукашу в качестве офиса, а щетка спрыгнула с края раковины под оставленную для нее струю воды и принялась полоскаться, нарочито усердно пофыркивая и поахивая.
Видеовизор в гостиной развлекался трансляцией мультипликационного фильма. Из отверстия в нарисованной земле торчала голова розового червячка и с аппетитом уплетала слетевший с дерева листик. Из отверстия неподалеку появилась голова еще одного червячка и принялась за ближайшие к ней стебельки травы. Когда взгляды двух червячков встретились, их мордочки озарила улыбка умиления. Вскоре вторая голова вновь исчезла под землей. Первый же червячок решил прогуляться по лужайке. Его тело бесконечной веревочкой заструилось наружу. Наконец появился хвост, но – о, ужас! – хвост венчала вторая жующая голова! С удивлением, переходящим в панику, головы проинспектировали общее туловище по всей длине, после чего вторая голова быстро шмыгнула в норку, чтобы через секунду появиться в первоначальном месте. Разделенные толщей земли, они снова с одобрением кивнули друг другу и продолжили свой ужин. Увенчался сей шедевр мультипликации девизом: «Иногда лучше жевать, чем себя познавать».
Со стороны окна вдруг раздался яростный хруст. Конрад испуганно обернулся: из подоконника-кадки, усаженного цветочным ассорти, торчал мультяшный червяк, уминавший стебель отнюдь не мультяшного пиона. Конрад поспешно переключил видеовизор в режим ограниченной реалистичности. Червяк исчез.
– Хм… Прям намек какой-то… – пробормотал Конрад. – Словно кто-то дает мне понять: не вздумай, Конрад, себя познавать! Лардо, – обратился он к видеовизору, – вот чужая душа – потемки. А как думаешь, своя душа – нет?
– Я не знаю, Конрад. Я функциональный робот. Я не рассчитан на подобные задачи.
– Да, ты по сути своей даже проще, чем одноклеточный организм, а вот перед человеком стоит столько задач, что все человечество не в состоянии справиться.
– Например?
– Ну, например… Например…
– Ну?
– Почему важно, чтобы ноги все-таки росли, откуда положено, а не от ушей?
– Да, задача как раз для многоклеточных! – расхохотался басами видеовизор, которого явно задело сравнение с амебами и инфузориями.
– Не джигурди на меня… – смущенно огрызнулся Конрад. – Ладно, мне пора отдыхать.
Он поспешно ретировался в спальню, переоделся – для удачи – в свою любимую пижаму и с блаженством растянулся под одеялом. Уставшие за день мышцы расслабились. Тело охватила нега, которой оно с готовностью отдалось. Глаза сомкнулись, чтобы уже не открываться до утра. На губах выступила улыбка довольства…
– Спокойной ночи, Конрад! – проскрипела дверь.
– Спасибо… – чтобы не растревожить улыбку, Конрад отозвался вполголоса.
– Нежных снов, Конрад! – долетел шепот со стороны окна.
– Да-да… – едва слышно пробормотал Конрад, проваливаясь в бездонную пропасть сна.
– Разноцветных грез, Конрад! – погас ночник.
– До-ом! – Конрад сел в кровати. – Дайте мне уже заснуть! У меня завтра страшно тяжелый и ответственный день. Ну, кто еще не пожелал мне спокойной ночи? Давайте хором – раз… два… три!
Ответом ему была тишина.
– Вот и отличненько, – Конрад сладко прильнул к подушке, словно к любимой.
– Сладких сновидений, Конрад… – робко продребезжал голосок цветочного горшка.
– Спасибо.
– Волшебных снов, – испуганно пискнула из угла расческа.
– Спасибо, – буркнул Конрад, снова начиная раздражаться.
– Мирных сно…
– Дайте уже поспать человеку! – пристыдила коллег кровать. – Распирает вас!
– А!.. Тебе-то хорошо! – раздалось со всех сторон. – Ты Конрада убаюкиваешь и охраняешь его сон! Ты с ним всю ночь! Ты…
– Да чтоб вас всех закоротило! – взорвался Конрад, чуть не плача.
Поняв, что из идеи уснуть самостоятельно у него ничего не выйдет, он отдал внутреннему компьютеру команду перехода в режим «Сон», предварительно проверив еще раз, что время пробуждения выставлено на шесть тридцать. Он бы с радостью дал команду полного отключения системы, но такой функции для встраиваемых в человека компьютеров предусмотрено не было.
3
Экзаменационная комиссия рыдала и рычала от восторга. Хохотала, как смеются первой шутке в своей жизни, – заливисто, не стесняясь, всем сердцем. В исступлении топала ногами, вывихнув не одну их пару.
Конрад блистал, словно то был его главный в жизни концерт. Его творческий вечер. Его бенефис. Он пел так, что хотелось податься вперед и прыгнуть в этот голос. Когда он исполнял танец, экзаменаторы бросились к нему в круг. Когда декламировал стихи – декламировали с ним хором. Когда разыгрывал сценку в пяти лицах – экзаменаторы передрались за право поучаствовать в ней.
То был абсолютный триумф. Пафл Пафлыч торжествующе сиял: ничей ученик никогда не производил подобного фурора. Его хищная морда довольно облизывалась, поглядывая свысока на главу комиссии – сухопарого исполина, третий год исполнявшего роль Дровосека в пьесе «Председатель страны Оз» и все это время физически существовавшего в виде железного каркаса с насаженными на него металлическими конструкциями, имитирующими человеческое тело со всеми его членами.
Прочие экзаменаторы от главы комиссии не отставали и, возможно, уже и сами плохо помнили, как они выглядят в действительности. Ярос Эрослафофич Вотвотвотченко, переигравший всех канонических театральных злодеев, смотрел на происходящее волком: для постановки «Красной Шапочки» он позволил трансформировать себя в серого лесного хулигана, пожирающего бабушек и заигрывающего с их внучками. Еще один мастер кино и театра, Григорий Григорьефич Негригорьев, проходил заключительную стадию процесса преобразования в женщину: ему удалось добиться главной женской роли в фильме «Бандит и амазонка». Минна же Богуслафофна Елейнова, его партнерша по фильму и исполнительница ведущей мужской роли, – финальный этап превращения в мужчину. За столом экзаменационного форума этим летом можно было также наблюдать черепаху, человека-часы, бутылку вина и несколько менее экзотических персонажей.
Единственным исключением среди членов комиссии оказался Гомер Селигерофич Мармеладнов, горячий приверженец компьютерных эффектов и грима, который если что и отращивал, то только локоны и ногти.
В обеденный перерыв к толпящимся перед экзаменационными аудиториями конкурсантам вышел секретарь:
– Можете расходиться, дамы и господа. Можете расходиться. Из сегодняшних участников к следующему этапу вступительного конкурса никто допущен не был. Спасибо. Желаем всем удачи.
Под негромкий гул разочарованных голосов конкурсанты понуро разбрелись. Только Конрад не двинулся с места. Наконец в дверях появилась морда звероящера. Завидев своего ученика, Пафл Пафлыч смущенно застыл.
– Как же так, Пафл Пафлыч? – обиженно залепетал Конрад. – Вы же… Эх, вы…
– Коня, все не так просто, дружочек. Допускать тебя к следующему этапу было бы опрометчиво, Конечка. Все члены комиссии со мной в этом согласились. Если пустить тебя дальше, ты обязательно будешь принят в гильдию, а у нас уже девать актеров некуда. Не коллекционировать же их.
– Но вы же собирались в отставку. Вы же устали!
– Извини, Коня, но театр – моя жизнь. Кино – тем более.
Конрад вгляделся в лицо учителя. Перед ним, и внутренне и наружно ухмыляясь, стоял вылитый жулик с кристально врущим взглядом.
«Устал он, лицемер допотопный!» – выругался про себя Конрад.
Словно прочитав его мысли, Пафл Пафлыч виновато замялся.
– Коня, мальчик мой, – снова зашипел он, – я бы рекомендовал тебе сменить операционную систему. Твои устремления только мешают тебе.
– А вы бы себе стали другую операционную систему устанавливать?
– Нет, конечно. Переустановка чревата потерей личности. Но тебе-то что терять? Ты себя в жизни еще не нашел.
Что Конрад мог возразить на слова Пафла Пафлыча? Было ясно как день, что, будь он вчетверо талантливее любого из экзаменаторов, членства в гильдии ему все равно не видать. Так восхищаться им и в итоге отвергнуть!..
Душа у Конрада немилостиво болела. Она валялась в сточной канаве, трезвая, но растоптанная. Ей было не до полетов – крылья разбухли от жидкой грязи. Там, где вчера с радостью билось сердце, отныне будет зиять дыра пустоты. Там, где вчера бил фонтан надежды, отныне будет чернеть топь отчаяния.
Переживания Конрада были мучительны, но мучился он не абы как, а в соответствии с канонами Всемирной мученической церкви, или ВМЦ, адептом которой являлся каждый законопослушный гражданин. Каждый законопослушный гражданин мучился. Именно мучился. Если вы полагаете, что человек будущего был рожден для счастья, то ни черта-то вам о будущем неизвестно, дорогой читатель. Никакого отношения к вере в Бога эта церковь не имела. Она стояла за веру в иерархические порядки общества, существующее положение вещей и самосовершенствование в целях причинения себе душевных мучений еще большей глубины – за счет развития тонкости, восприимчивости и ранимости личности.
Отцы и матери ВМЦ считали – и, надо признать, небезосновательно, – что период всеобщей радости и счастья, когда-то уже пережитый Землей, не принес Земле ничего хорошего. Счастье и радость были в этот период переведены почти исключительно в плоскость материальных наслаждений, и если человек кем и проявил себя за весь срок, причем неоднократно, так это Тираном Природы. В итоге вопрос «Мы или Природа» встал остро как никогда.
Сохранить Природу, а следовательно, и самого человека мог только ответ «Мы без Природы – ничто». Вырубать Природу и дальше было занятием бессмысленным и опасным. Значит, предстояло приступить к вырубке человека. Естественно, не полной, а прореживающей – вырубке и выкорчевыванию тех свойств его характера, которые прямо ли, косвенно ли, но Природе досаждали.
Главной притеснительницей интересов Природы была признана пустая жажда потребления. Вы спросите, почему пустая, если она столь осязаема, нестерпима, непреодолима? Я вам отвечу: а что в ней кроме собственно жажды? И она не просто осязаема, нестерпима, непреодолима. Она еще и неутолима!
Но как свести потребление к минимуму? Жестко ограничив личный транспорт? Часы потребления электроэнергии? Объемы ванны? Слишком много запретов, когда можно попытаться перекрыть крантик самой жажды, поддушить ее. Поддушить ее… Именно! То, что нужно! А то ведь в какой-то момент дошло до того, что вам даже не нужно было платить. Вам платили за то, чтобы вы потребляли, потребляли, потребляли… Уточнять, повлияло ли это каким-то образом на объемы потребления, думаю, излишне.
И вот, благодаря решительности Всемирной мученической церкви колесо потребления завертелось вспять. Приоритетное развитие получили психологические патологии, ранее считавшиеся несообразными с образцовым человеком. Лень? Нет, до таких крайностей ситуация все-таки не дошла. Но, например, активно стали пестоваться различного рода фобии. Прежде всего – фобия потребления. Тем, кто успешно поддался ее влиянию, удалось отказаться от излишних предметов обихода и большей части благ цивилизации. В итоге потребление, поставленное когда-то во главу угла развития всей человеческой расы, сделалось чуть ли не изгоем. Товарам прививались теперь функциональность, а не роскошь и не эпатажность.
Духовным наставником Конрада в лоне ВМЦ был Парис Кипарисофич Фасилефский, один из столпов спихологии – науки, призванной спихивать проблемы, порожденные устройством общества, на его самых беззащитных и несчастных членов. Парис Кипарисофич принимал желающих помаяться только по предварительной записи и брал за сеанс чуть не с полсотни толларов.
Конрад мечтал летать, а поскольку занятие это не только требовало неоправданных затрат ископаемого топлива, но и было смертельно опасным даже для потребителей эликсира бессмертия, ему приходилось посещать сеансы формирования аэрофобии. Недаром лозунг «Безумству храбрых поем мы песню» был перекован на «Не знаю даже, что страшнее – безумство храбрых или храбрость безумцев».
Желание летать – более чем серьезное заболевание, и победить его окончательно Конраду никак не удавалось. Однако сегодня он оказался в уютном коридорчике центра спихологической помощи совсем по другому поводу. Именно – как Вы и сами уже догадались, дорогой читатель, – привел его сюда драматический финал сегодняшнего экзамена.
– Очень, очень надо к Парису Кипарисофичу, – объяснил он свое неожиданное появление ассистентке профессора Фасилефского, которая была не в курсе произошедшего, но не заметить сильнейшего волнения, бушующего на лице клиента, не могла.
– Хорошо. У Париса Кипарисофича через двадцать минут «окно», – ассистентка сверилась с расписанием профессора. – Думаю, он сможет вас принять.
Конрад с благодарностью принял чашечку кофе, однако ознакомиться со свежим выпуском видеожурнала «Руины своими руками», который он обычно просматривал в ожидании сеанса, отказался – он был для этого чересчур взволнован. Кофе тут же принялся гипнотизировать его, пристально вглядываясь ему в глаза едва подрагивающей поверхностью бурой жижи.
Профессора Фасилефского состояние Конрада встревожило не на шутку.
– Вы что-то задумали, Конрад… – заявил он, присмотревшись к пациенту. – Вижу по вашему взгляду.
– Это все кофе, – буркнул тот.
– Кофе? Шветочка, – Парис Кипарисофич просительно загудел в сопло интеркома, – будьте добры: больше никакого кофе господину Томилину не предлагать. Кофе действует на него не самым благотворным образом.
– Так господин Томилин его и не пил.
– Не пил? – уточнил профессор у Конрада.
– Не пил, – подтвердил Конрад.
– Та-ак… – профессор в недоумении воззрился в потолок.
После нескольких минут молчания Парис Кипарисофич вновь подозрительно покосился на Конрада:
– Все-таки вы что-то задумали…
– Ничего я не задумал, уверяю вас. Я и думать-то не в состоянии. Мои мысли сами по себе. Я сам по себе.
– Хм… Ну, хорошо… Так что у вас?
Конрад обиженно насупился, отчего профессор беспокойно заерзал в кресле, а кресло беспокойно заскрипело под ним.
– Я семьсот лет, Парис Кипарисофич, – семьсот лет! – учусь актерскому мастерству, беру уроки у самого председателя экзаменационной комиссии, – наконец выпалил Конрад. – И что?
– Что? – участливо полюбопытствовал профессор.
– А ничего! Мошенники! Эта моя судьба – словно оковы земного притяжения. Вы же знаете, каково оно: постоянно тянет вниз и, стоит только оступиться, со злорадством бьет об асфальт, мстит за то, что смеешь ему противиться и ходить вопреки его силе.
– Дальше будет только хуже, – обнадежил Парис Кипарисофич.
– Будет?
– Будет.
– Обещаете?
– Обещаю.
Из Конрада хлынули копившиеся им для сеанса слезы. Парис Кипарисофич любовался рыдающим пациентом с умилением и одобрением. Под этим взглядом Конрад рыдал все более и более самозабвенно. Его сотрясало от рыданий. С каждой стороны кресла возникло по механической руке. Одна из них сочувственно обхватила своею кистью левое предплечье Конрада, а вторая принялась похлопывать его по правому плечу.
– Ну, хватит, хватит. Не переборщи! – прикрикнул Парис Кипарисофич, заметив, что в объятиях кресла пациент почти успокоился.
Механические руки нехотя исчезли. Конрад одновременно испытал облегчение и – под влиянием сделанных профессором обещаний – окончательно пал духом. Но это его почти не тревожило: человек будущего и должен был пребывать где-то между счастьем и довольством жизнью, с одной стороны, и подавленностью духа – с другой.
– Профессор, я не чувствую себя в достаточной мере взрослым.
– Так… Продолжайте.
– Человек ощущает себя взрослым только тогда, когда его начинают воспринимать всерьез.
– Кто-то не воспринимает вас всерьез?
– Да никто не воспринимает. Это никому не выгодно. Гораздо проще смотреть на других свысока и понукать ими по мере возможности. А что делать, когда другой человек ровня тебе? Приходится уступать, делиться, компромисс искать. С ребенком же ничего этого делать не обязательно. «Я так сказал», и на этом ставится точка. Вот и вам легче со мной обходиться как с младенцем, чем как с личностью, имеющей свое суждение и могущей не принять ваши предписания.
– Это интересные мысли. Прямо поток кривознания… Давайте теперь я. Вы позволите?
– Прошу, – нехотя уступил слово Конрад, обычно во время сеансов говорить не любивший.
– Раньше… – Парис Кипарисофич наставительно поднял указательный палец, призывая отнестись к тому, что он скажет, со всей важностью и вниманием. – Раньше люди знали мало, стремились к малому. Вот это и было счастье. И хотя вы понимаете, что вы пришли сюда не за счастьем и что стремление к счастью Всемирной мученической церковью не поощряется, отход от канонов все же допускается, когда того требует разбалансированность спихологического состояния отдельной личности. Так вот, я считаю, что немного счастья – непродолжительного – вам, Конрад, не повредит. Поэтому дам вам совет. Подбирайте достижимые цели. А куда лучше – вообще без них.
– А разве не счастье – достигнуть недостижимое? – заупрямился Конрад.
– Этак мы дойдем до того, что вам захочется познать себя. Что, как вы знаете, не приветствуется.