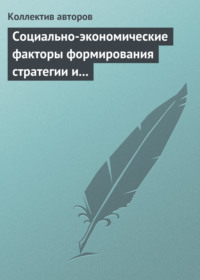Полная версия
История на экране и в книге. Материалы Всероссийской научно-практической конференции (10-12 апреля 2019 года)

Коллектив авторов
История на экране и в книге. Материалы Всероссийской научно-практической конференции (10–12 апреля 2019 года)
© Всероссийский государственный институт кинематографии им. С.А. Герасимова, 2020
Апостолов А.И.
«Идиотизм» послевоенного отечественного кинематографа. Экранная судьба князя Мышкина: от Пырьева до Бортко

Apostolov A.I.
Москва, помощник ректора ВГИКа по творческой деятельности и связям с общественностью
parazaurolof@list.ru
В центре внимания статьи причудливые метаморфозы облика князя Мышкина на отечественном экране со времен «оттепели» и до начала XXI века. Герой Достоевского рассматривается не столько как художественный образ, сколько как социально-политический мем, трансформация которого становится наглядным свидетельством траектории эволюционных процессов современной истории России. В отдельную главу вынесена история несостоявшейся экранизации «Идиота», замысел которой на протяжении десятка лет вынашивал Андрей Тарковский.
Ключевые слова: Мышкин, Достоевский, эталонная экранизация, Пырьев, Тарковский
«Idiocy» of the post-war domestic cinema. Screen fate of Prince Myshkin: from Pyryev to BortkoThe article focuses on odd metamorphoses of the image of Prince Myshkin in the Russian films from the thaw period to the early 21st century. The author considers Dostoyevsky's character not as an image, but rather as a social and political meme, whose transformation is an example of the trajectory of evolutionary processes in the modern history of Russia. In a separate chapter, the author considers the history of a might-have-been cinematizing of “Idiot”, which had been matured by Tarkovsky for a decade.
Key words: Myshkin, Dostoyevsky, model cinematization, Pyriev, Tarkovsky
1. Странная встреча: Иван Пырьев
Экранизацию романа «Идиот» Акиры Куросавы (1951) Жиль Делез, совсем в духе Бахтина, назвал «великой встречей» двух культур, эпох и авторских инстанций. В самой идее «встречи» заложено представление если не о симметричности, то во всяком случае о соизмеримости имен Куросавы и Достоевского. Последовавшая через 7 лет после японского фильма советская экранизация «Идиота» с точки зрения этой умозрительной именной релевантности вызывает недоуменное ощущение явного несовпадения. С рассуждения на эту тему начинал свою рецензию на интересующий нас фильм известный киновед Юрий Ханютин: «Пырьев ставит Достоевского. Само упоминание рядом этих имен казалось многим неожиданным: как это художник, чьим первым главным даром принято было считать народный юмор, неиссякаемую, щедрую жизнерадостность, вдруг обратился к трагическому гению Достоевского?» [26] Однако Пырьев вынашивал идею этой экранизации долгое время, а сценарий написал и вовсе за десять лет до съемок, перед работой над «Кубанскими казаками» (1949).
По версии Пырьева, главной помехой для постановки «Идиота» в течение десяти лет являлось отсутствие достойного кандидата на заглавную роль князя Мышкина. Тем не менее сложно себе представить появление киноверсии «Идиота» в конце 40-х, даже если вообразить, что Юрий Яковлев встретился бы Пырьеву в момент работы над сценарием. Вряд ли тогдашний культурный климат благоприятствовал этой задумке. Достоевский вообще долгое время оставался, говоря театральным языком, не репертуарным для советского кино автором. После двух заметных кинообращений к прозе и биографии Достоевского в первой половине 30-х, «Мертвого дома» (В. Федоров, 1932) и «Петербургской ночи» (Г. Рошаль и В. Строева, 1934), творчество Достоевского более чем на два десятилетия оказалось негласно табуированным для экрана. Волна идеологических репрессий затронула по касательной неугодного в силу реакционного «мрачнизма» (словечко из лексикона Пырьева) русского классика. Конечно, нельзя исключать, что Пырьев всерьез намеревался поставить «Идиота» где-то в промежутке между «Сказанием о земле Сибирской» (1947) и помянутыми «Кубанскими казаками». В таком случае легче всего предположить, что режиссер планировал адаптировать роман под становившийся в ту пору востребованным (квази)жанр фильма-спектакля. Излишняя театральность поставленного в итоге фильма словно напоминает о десятилетней выдержке замысла.
Как бы то ни было, никаких прямых следов романа «Идиот» в кинематографе сталинской эпохи, кроме этой подпольной работы Пырьева, обнаружить не удастся. За исключением чисто событийных совпадений, вроде разбитой вазы в кульминационной сцене фильма «Соловей-соловушко» (Н. Экк, 1936) или яркого эпизода сжигания денег в «Сельской учительнице» (М. Донской, 1949); таких же как будто случайных совпадений с именами персонажей романа: полное имя героини «Настеньки Устиновой» (К. Эггерт, 1934) – Настасья Филипповна[1], а мальчика-заучку из фильма «Команда с нашей улицы» (А. Маслюков, 1953) зовут «гибридным» именем Лев Николаевич Иволгин. Вспомним еще ироничное по отношению к роману признание героини Фаины Раневской в фильме «Весна» (Г. Александров, 1948): «Я возьму с собой "Идиота", чтобы не скучать в троллейбусе»[2].
В конце 50-х творчество Достоевского подвергается постепенной и не лишенной оговорок «реабилитации» в официальном литературоведении, о чем может свидетельствовать хотя бы появление в 1957-м году монографии «За и против. Заметки о Достоевском» В. Шкловского, обладавшего особой чувствительностью к идеологическим колебаниям, и издание 10-томного академического собрания сочинений «опального» писателя. В 60-е переиздают знаменитую работу Михаила Бахтина «Проблемы поэтики Достоевского», «Преступление и наказание» и «Идиота» вводят в школьную программу.
Параллельно с литературоведением Достоевского актуализировал театр: незадолго до появления экранизации прошли две громкие сценические премьеры «Идиота». В ленинградском БДТ в постановке Георгия Товстоногова со Смоктуновским в роли Мышкина и в Москве, в Театре им. Вахтангова, где Мышкина играл Николай Гриценко, а Настасью Филипповну – Юлия Борисова, одолженная впоследствии Пырьевым для фильма.
Князь Мышкин, вместе с Гамлетом и Дон Кихотом, неожиданно стал культурным героем хрущевской «оттепели». Такой подбор персонажей симптоматичен: всех троих явным образом объединяет чрезвычайная экстравагантность «священного безумия», драматически воспринятая социумом как признак реального помешательства. Особая востребованность упомянутой троицы была связана как с реакцией на их негласное вытеснение холерической культурой сталинской эпохи, так и с острой потребностью залатать распавшуюся в результате резких идеологических метаморфоз связь времен за счет обращения к непреходящей ценностной матрице классического (христианского) гуманизма. «Критики и писатели оттепели стремились либо переосмыслить партийность в свете новых ценностей, либо заменить ее так называемыми общечеловеческими, гуманистическими идеалами. Важным шагом на этом пути было создание альтернативы положительному герою в лице явно не-советских, но официально не запрещенных икон мировой культуры: Дон Кихота, Гамлета (козинцевские театральные постановки и фильм), князя Мышкина (знаменитая постановка "Идиота" Достоевского в ленинградском БДТ) и даже Христа ("Не хлебом единым" Дудинцева и "Доктор Живаго" Пастернака)» [24]. Как известно, Дон Кихот и для Достоевского являлся едва ли не прототипом Мышкина в качестве пресловутого «положительно прекрасного» человека, за тем лишь исключением, что герой Сервантеса, по мнению автора «Идиота», прекрасен прежде всего тем, что смешон, а Мышкин – своей невинностью. А единение «сиятельнейшего князя» с принцем датским случится уже в 60-х благодаря устойчивой зрительской идентификации этих персонажей с одним артистом – Иннокентием Смоктуновским.
Так или иначе, князь Мышкин и его создатель оказались на авансцене «оттепельной» культурной революции. Однако выход в массы, то есть на киноэкран, по-прежнему требовал большего соответствия советским идеологемам, нежели изначально столично-элитарная театральная сцена. Главной задачей Пырьева в работе над киноадаптацией романа, по его собственным словам, стала борьба с «достоевщиной» в Достоевском: «… то, что мы называем теперь "достоевщиной", те болезни тела и духа, что составляют другую сторону сложного и противоречивого творчества Достоевского, я решительно отбрасывал» [25]. Под «достоевщиной» здесь следует понимать христианские мотивы творчества писателя и все, связанное с физической и тем более психической болезненностью героев. Неслучайно отмеченным всеми без исключения рецензентами фильма Пырьева как главное отступление режиссера от текста романа стало безоговорочное «оздоровление» Мышкина. Ростислав Юренев считал отказ от демонстрации психофизического нездоровья Мышкина не уступкой советским канонам показа положительного героя, но авторской интерпретацией образа: «режиссер и молодой артист Ю. Яковлев отнюдь не пассивно переносят образ из романа, а трактуют его по-своему. Они почти совершенно отказываются от признаков психической болезни князя, в которой Достоевский был склонен видеть объяснение его озаренности и проницательности» [40][3].
В провозглашенной режиссером борьбе с «достоевщиной» угадывается литературоведческий кавалеризм в духе Добролюбова. Единственным русским классиком XIX века, к которому по-настоящему адаптировался советский киноэкран сталинской эпохи был Островский, уложенный в узнаваемую схему борьбы «лучей света» с «темным царством». Под эту апробированную конфигурацию подгонял героев Достоевского Пырьев[4], избрав, как позже напишет Андрей Шемякин об экранизации «Братьев Карамазовых» (1969), «изображение бытового разврата вместо экзистенциальных бездн» [37]. Кто-то из критиков негативно реагировал на ощутимое низведение Достоевского к Островскому, правда на уровне не удавшихся частностей (образ Рогожина). Ханютин довольно резко писал: «…это уже не Достоевский, не Рогожин. Это загулявшийся купчик Вася из "Бесприданницы"» [36]. Вторила ему Нея Зоркая, которой Рогожин «скорее напоминает купца-самодура из Островского или Мамина-Сибиряка» [8]. Кто-то же, наоборот, не усмотрел в этом движении к Островскому признака режиссерской приверженности наработанным привычкам советского экрана в отношениях с русской классикой, но задним числом приписал самому Достоевскому интенции пырьевского фильма: «Основным конфликтом романа Достоевский делал столкновение особо чистого человека, отличного ото всех уже своим психологическим складом, с порочным жестким и страшным капиталистическим миром» [16].
Советский Мышкин лишался даже намеков на христологические коннотации созданного Достоевским образа («князь Христос») и всяких признаков психического расстройства и становился при этом светлым борцом с миром капиталистического чистогана. Сам Пырьев высказался по поводу основной темы романа с присущей ему категоричностью: «Стоит, вспоминая содержание романа, как бы слегка прищуриться; тогда исчезает из поля зрения второстепенное и остаются человек и власть денег. Власть золота, губящая, развращающая людей, лишающая их человеческого облика и достоинства, вот основная мысль романа. В такой трактовке он и должен был предстать на экране» [25]. Сложно не согласиться с Иосифом Маневичем, который напрямую связывал отсутствие запланированной второй серии «Идиота» с осуществленной Пырьевым смысловой редукцией сочинения Достоевского до уровня экспрессивной мещанской драмы. Вот его рассуждение: «…генерализация чистогана при экранизации "Идиота" таила и многие опасности. Все тематическое богатство романа оказалось невозможно свести к одной проблеме, поскольку уже за пределами первой трети авторского повествования она отступала перед рядом других моральных и социально-политических проблем. Именно поэтому картина Пырьева, построенная на теме денег, получилась экранизацией первых глав романа» [14].
С точки зрения политической прагматики выход фильма Пырьева на экраны не только совпадал с внутренними тенденциями либерализации культуры, но и выполнял определенную внешнеполитическую задачу. Со времен «оттепели» экранизации русской классической литературы стали рассматриваться в том числе и в геополитическом измерении. Советская политика здесь была в буквальном смысле реакционной. Выход резонансного зарубежного фильма на основе русской классики неизменно вызывал досужие упреки в отклонении от литературного первоисточника и провоцировал на создание достойного «ответа Чемберлену». Самым показательным примером здесь можно считать оскароносную «Войну и мир» Сергея Бондарчука (1967), призванную затмить популярную американскую экранизацию Кинга Видора (1956). В анамнезе пырьевского «Идиота» помимо фильма Куросавы, где действие перенесено в Японию и оттого не затрагивает геополитических амбиций присвоения классического наследия, была еще французская постановка с молодым Ж. Филипом в роли князя Мышкина (Ж. Лампен, 1946). Неслучайно советская кинономенклатура и пресса болезненно отреагировали на решение руководства Венецианского фестиваля не включать картину Пырьева в конкурс, увидев в нем политический подтекст. В ответ на отказ, мотивированный вполне обоснованным сравнением фильма с театральным спектаклем, последовала телеграмма в адрес оргкомитета фестиваля с выражением решительного протеста и осуждением дискриминации советского кино [23].
Как ни странно, переход Пырьева от «лакировочных» фильмов сталинской эпохи к экранизации «Идиота» с прагматической точки зрения не был столь противоестественным, как это может показаться, если отталкиваться от содержательной глубины материала. Пырьев по-прежнему выступал в роли создателя открыточно-выставочных фильмов, просто объект изображения сменился со сказочно плодоносных колхозных хозяйств на экспортную «духовность» á la russe. Одним из триумфаторов Венецианского кинофестиваля, от участия в котором было отказано «Идиоту», стала итальянская картина «Белые ночи» (Л. Висконти, 1957) по одноименной повести Достоевского, которую спустя два года экранизировал и Пырьев. Актриса Мария Шелл, сыгравшая в «Белых ночах» Висконти в дуэте с Мастроянни, тут же снялась в роли Грушеньки в американской балаганной экранизации «Братьев Карамазовых» (Р. Брукс, 1958). А сам Висконти вновь обратился к Достоевскому, на этот раз косвенно, в фильме «Рокко и его братья» (1961). На эти фильмы Пырьев ответил своей последней работой, выдвинутой советским киноруководством на «Оскар» и удостоенной номинации.
В свою очередь навязчивая борьба с «достоевщиной» отражает не только устойчивую тенденцию к посильной идеологической «советизации» любого дореволюционного писателя, но и связана с противодействием «буржуазным интерпретациям» творчества Достоевского, также заново открытого после войны с французским экзистенциализмом. Вот так воинственно вела борьбу за «подлинного» Достоевского советская кинопечать: «До сих пор мир борется и сражается (курсив мой. – А.А.) за Достоевского и против него. <…> Много ставят на сцене и на экране Достоевского на Западе; моден он и в Америке. Известно, что тем, кто обращается сейчас к народам с проповедью философии обреченности, безысходного одиночества, духовной изоляции человека, свойственно искать "оправдания" в образах Достоевского. Мир Ставрогиных и "Двойников", мир "Человека из подполья" – вот что заполняет буржуазные экраны. Не Достоевский, а достоевщина привлекает авторов и популяризаторов философии пессимизма и отчаяния, философии ужаса и смирения перед страшной действительностью. Но победа никогда еще не доставалась тому, для кого Достоевский был лишь поводом для беззастенчивых психофизических опытов, а новое свидетельство этого – провал американского фильма "Братья Карамазовы" на том самом Каннском фестивале, где советский фильм "Летят журавли" получил большой приз (к слову о важности символического капитала фестивальных побед. – А.А.). Фильм И. Пырьева "Идиот", созданный в момент обострения идеологической борьбы, явился не только защитой памяти великого художника, одними непонятого, а другими сознательно попранного и изуродованного, но и страстным протестом против модных в буржуазном искусстве мотивов пессимизма и обреченности» [11]. В свете обозначенного идеологического противостояния кажется избыточным вопрос тех же авторов самим себе, «случайно или нет один из самых наших жизнелюбивых и оптимистичных художников <…> в расцвете своего творчества обратился вдруг сердцем и мыслью к Достоевскому?» [11] Это «обращение» отнюдь не случайно: советский Достоевский жизнерадостного Пырьева был призван под знамена борьбы с буржуазным Достоевским многомудрых западных проповедников пессимизма и обреченности.
2. Случайные встречи: «идиотические» параллели
Интервенция заслуженного комедиографа Пырьева в область глубокой психологической литературы отчасти может быть объяснена сохранявшейся в советской культурной этике иерархии высоких и низких жанров. Не лишенный художественного честолюбия режиссер, выдвинувшийся в 60-е в предводители наконец учрежденного Союза советских кинематографистов, должен был продемонстрировать и переход на качественно новый уровень творческой самореализации. Советскому кинорежиссеру, ищущему настоящего признания, полагалось быть не только идеологически благонадежным, но и максимально серьезным. Когда же почет и слава настигали ведущих комедиографов, требовались непременные оговорки об их гипотетической способности и к трагическому.
В таком ключе рассуждает артист Анатолий Папанов в дружеском посвящении своему кино-первооткрывателю: «Интересно было бы сделать такой эксперимент: дать Эльдару Рязанову поставить трагедию. Допустим, одно из произведений Федора Михайловича Достоевского. Убежден, что он смог бы на первый план поставить все светлое, радостное, жизнеутверждающее (иными словами, обойтись без «достоевщины». – А.А.), что заложено в трагедийнейшем из всех русских писателей» [20]. Неожиданным образом эта мысль продлевается в письме Рязанову от почитателя его таланта, отрывок из которого приводит в своем очерке о творчестве режиссера критик Евгений Громов: «Я перечитал произведение Ф. Достоевского "Идиот", – пишет читатель Ю. Гольянов из Горького, – и мне пришла интересная мысль: а что если Вам написать сценарий по мотивам этого произведения, это бы получилось очень здорово с Вашим-то размахом и пониманием истинно русского характера» [4]. Несмотря на очевидную наивность аргументации высказанной здесь «интересной мысли», мне она кажется отнюдь не безосновательной.
Дело в том, что упомянутый триумвират Дон Кихота, Мышкина и Гамлета на излете «оттепели» получил триединое ироническое воплощение в образе героя трагикомедии «Берегись автомобиля» (Э. Рязанов, 1966) Юрии Деточкине. Деточкин – уникальный персонаж-интертекст, его героическая генеалогия далеко не очевидная для теперешнего зрителя, не вызывала сомнений у зрителя – современника фильма. Нея Зоркая в своей яркой рецензии на фильм задается риторическим вопросом о судьбе героя: «Что же делать с этим отечественным Робином Гудом, с этим Дон Кихотом, вооруженным отмычкой, с этим князем Мышкиным при портфеле служащего инспекции Госстраха?» [9]. Достоевский настаивал на принципиальном различении идальго из Ла-Манчи и своего «рыцаря бедного» в связи с абсолютной некомичностью Мышкина. В трагикомедии Рязанова комический Дон Кихот и трагический Мышкин могут быть условно синтезированы в образ одновременно смешной и возвышенно-драматический. Главный признак родства со знаменитыми предками у Деточкина наличествует беспрекословно: он противопоставлен остальному социуму и пребывает в нем на правах юродивого.
Если связь Деточкина с Дон Кихотом без труда обнаруживается на уровне сюжета[5], то «родство» Деточкина с Мышкиным в действительности мало связано с текстом Достоевского и восходит уже к современным фильму театральным и кинематографическим ассоциациям[6]. Когда героиня Ольги Аросевой, по сюжету возлюбленная Деточкина, в сердцах отчаянно разражалась приговором «Ты посмотри на себя – ведь ты же идиот!», «для советского зрителя шестидесятых годов эта интертекстуальная ирония усиливалась еще и тем, что в те же шестидесятые Смоктуновский исполнял роль князя Мышкина в театральной постановке по роману Достоевского. Более того, актер Юрий Яковлев – закадровый голос в «Берегись автомобиля» – также вызывал у зрителя ассоциацию со знаменитым героем Достоевского: Яковлев вошел в когорту знаменитостей, сыграв князя Мышкина в киноверсии "Идиота" Ивана Пырьева. Безумие Деточкина перекликается со «святым безумием» христообразного героя Достоевского» [24]. Смоктуновский-Деточкин, играющий Гамлета в постановке самодеятельного театра, – дружественно-язвительный привет Рязанова своему вгиковскому мастеру Григорию Козинцеву, а в заигрывании с образом князя Мышкина угадывается обращение к другому наставнику – «крестному отцу» Рязанова в режиссуре, Ивану Пырьеву. Есть какая-то неуловимая закономерность в том, что уже в 70-е в число любимых рязановских артистов добавится Андрей Мягков, впервые по-настоящему проявивший себя в кино исполнением роли Алеши Карамазова в последнем фильме Пырьева. В новогодней социальной сказке Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1979) Мягков и Яковлев – два актерских открытия пырьевских экранизаций Достоевского – разыграют тандем антагонистов, где Яковлеву достанется роль Ипполита, и в этом имени снова мелькнет навязчивая и скорее всего не лишенная усмешки ассоциация с текстом «Идиота».
Напрямую Деточкин наследует у Мышкина по крайней мере особую детскость характера, отраженную авторами в фамилии, на слух навевающей воспоминание о герое «Бедных людей», а также любовь к детям, отмеченную закадровым Яковлевым в сцене погони и подтвержденную на деле переводом Деточкиным всей выручки от угонов на счет детского дома. В статье о Рязанове выдающийся критик-портретист Нея Зоркая приводит его слова о Деточкине, которые очень напоминают сказанное и написанное Достоевским о своем «положительно прекрасном» герое. «Мы хотели, – рассказывает режиссер, – чтоб в его реальность зритель верил и не верил… Он, если хотите, идеальный герой, который спущен с небес на прозаическую землю, чтобы обнаружить наши отклонения от социальных и человеческих норм» [10]. Сам режиссер в свою очередь заявлял о наличии в образе Деточкина «гена» князя Мышкина, помноженного на Дон Кихота и героя комедий Чаплина [27].
За несколько лет до явления Деточкина Рязанов уже предпринимал попытку создания фильма, в центре которого окажется такой герой-медиум, через которого будут проявляться пороки и странности советского общества начала 60-х. Речь о фильме «Человек ниоткуда» (1961) по сценарию Леонида Зорина, главным героем которого стал снежный человек из племени тапи по имени Чудак. Привлекательность «чудачества» в любых его проявлениях вообще становится заметной приметой времени. Почти тезкой рязановского Чудака можно считать еще одного заметного героя на литературно-кинематографической карте 60-х, безымянного шукшинского «чудика», в дальних предках которого некоторые исследователи обнаруживают не кого иного, как князя Льва Николаевича Мышкина [13]. Самый прозрачный намек на это неожиданно аристократическое происхождение деревенского недотепы дан самим Шукшиным в фамилии Князев, носителем которой выступил герой рассказа «Чудик», превратившийся в итоге в архетипический образ шукшинской поэтики. Чудик Шукшина – это, конечно, изрядно профанированный Мышкин, чье первородство восходит не к Христу, а к Ивану-дураку из русской народной сказки. Связь чудиков с возвышенным прообразом князя Мышкина опять же сводится к особому положению героя в системе персонажей, его заявленной автором как душеспасительная и одновременно губительная инаковость на грани юродства. Однако есть у Шукшина и прямое (во всяком случае, на наш взгляд) обращение к тексту романа Достоевского. Рассказ «Миль пардон, мадам!» о деревенском сказителе Броньке Пупкове. «Главным интертекстуальным источником шукшинского рассказа, – пишет Рауль Эшельман, – несомненно, является "Идиот" Достоевского, где генерал Иволгин «разоблачает» рассказ Лебедева о потерянной на войне ноге. <…> Мало того, выдумка Пупкова о встрече с Гитлером сильно напоминает невероятную историю Иволгина о его знакомстве с Наполеоном» [39]. По иронии судьбы, исполнитель роли Пупкова в киноновелле из фильма «Странные люди» (В. Шукшин, 1968) был заодно и Рогожиным из того самого легендарного спектакля Товстоногова, и однофамильцем вероятного прототипа шукшинского героя из романа Достоевского.
В Егоре Полушкине, герое отчетливо шукшинской по духу повести Бориса Васильева «Не стреляйте в белых лебедей», без труда узнается типичный шукшинский чудик. В экранной версии этой истории (Р. Нахапетов, 1980) главную роль исполнил Станислав Любшин, тремя годами ранее сам экранизировавший прозу Шукшина («Позови меня в даль светлую», С. Любшин, Г. Лавров, 1977). Рефреном повести Васильева и фильма Нахапетова стал печальный упрек жены Егора в адрес непутевого мужа-чудика: «бедоносец ты мой». В этой проникнутой любовью инвективе помимо противопоставления героя Георгию (а в фольклорной традиции Егорию) Победоносцу, содержится, конечно, и намек на инверсию «народа-богоносца» из публицистических откровений Достоевского.