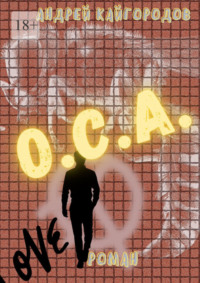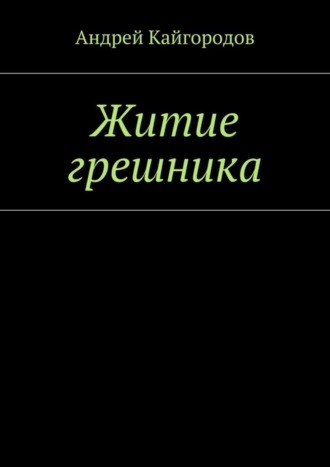
Полная версия
Житие грешника
– У них постоянно так, – сказал толстый тип в костюме и с галстуком, – он в армии был, ему сообщили, что она родила.
– Нагуляла что ли? – спросил кто-то из толпы.
– Да нет, когда его забирали, она уже была беременная. Не знаю, приезжал он на побывку или нет, только после получил письмо. Ему мать написала, что, мол, ребенок заболел, простыл или грипп, не знаю, ну а жена то бишь его проблядовала, вовремя врача не вызвала, ну и умер сынишка-то. Годик ему, что ли, был, не знаю. Ну и потом Серега вернулся да запил, а она у него, сразу после смерти сына, начала квасить. Сейчас вместе пьют, да трахаются с кем попало, она частенько домой мужиков водит, денег-то нет, а выпить хочется. Он ее частенько поколачивает, но и сам тоже баб таскает в дом, да и с мужиками часто заявляется, чего ржете, ясно что не для этого дела, сам напьется, отрубится, ну они ее, пока он дрыхнет, а она не сопротивляется, лишь бы наливали.
На кладбище было холодно, кто-то сказал, что не следует грустить, так как покойный при жизни был человеком веселым и по этому поводу нужно выпить за него. Весь вечер и большую половину ночи мы пили, рассказывали анекдоты, делились неприкрытым цинизмом откровений. Боже мой, как все это грустно. Посмотришь на всю эту резиновую процессию и подумаешь: уж лучше пусть псы сожрут твое бренное тело, нежели своей кончиной увеличить количество праздников, так любимых и почитаемых русским народом, коие он так любит смаковать. Так принято у нас: если торжество, то всюду царит мрачность и скука, а если похороны, то веселье и непринужденность в общении, и то и другое сопровождается обильным количеством спиртного, без этого нельзя. Жабы надувают пузыри во время брачных игрищ, для того, что бы привлечь партнера, русский человек – во время праздников, для того, что бы показать, насколько он значим во вселенной, населенной гуманоидами.
Случай беспрецедентный в мировой практике.Один мертвый человек вдруг увидел себя,Совершенно случайно в зеркале и воскрес.Не может быть, – скажите вы.А я лишь посмеюсь над вамиИ перестану мычать по утрам.Обрывки какого-то неясного мутного сна возникают в моем сознании. Песочная женщина с миндалевидными глазами предлагает мне близость. Я леплю из нее замок, сказочный готический собор, и проваливаюсь в него словно в огромную римскую клоаку. Но насколько долог мой полет под небесным сводом призрачной реальности, томительный всплеск секунд. Я просыпаюсь мокрый и липкий, как загнанная лошадь с мерзким налетом пошлости на зубах, простынь моя насквозь пропиталась развратом и возбуждением, а червяки в моем мозгу стонут от невыносимой жажды и недостатка алкоголя, обильно удобренного никотиновой смолой. Волна пустоты, безразличия и уныния накрывает меня с головой. А с головы в свою очередь лезут волосы, как пух с одуванчика в ветреную погоду. Я лысею, тупею, схожу с ума, я размышляю о смысле жизни и прихожу к выводу, что он заключен в некую целлофановую оболочку, внутри которой можно беспрепятственно совокупляться с песочными женщинами, либо разорвать ее, оболочку, и не совокупляться ни с кем. Затем мои мысли, попав в болотную топь, засасывает смрадная вонючая трясина и они мчатся, отделившись от меня, к противоположному краю земли, к китам и черепахам, превращаясь в яйцо, в крупинку риса, в хаос, кромешный мрак, от них слегка отдает разложением и слизью. Я пытаюсь собрать их по крупицам, но они, словно обезумев, со скоростью, превышающей скорость света, несутся, совершенно не желая останавливаться, и делаются невесомыми и совершенно неуловимыми. Я не знаю, как мне приостановить их неугомонную прыть, как ухватить хоть одну мыслишку за жабры, иначе, скользкие как рыбы, они лишь машут мне хвостом и исчезают в бурном водовороте моих мозговых нечистот. Немного полежав, уткнувшись головой в потолок, мне все-таки удалось извернуться и ухватить одну из этих ужасных бестий, летающих, как штормовой ветер в моей голове. Однако понять и проникнуть в ее утробу для меня представилось затруднительным.
«За окном, принимая грязевые ванны, потоками ручьев, растворивших в водах своих тонны дерьма, резвилась новорожденная красавица – весна. Должно быть, это благодатное время чудесно и притягательно, но не для меня. Десять тысяч иголок в разверстую плоть, апофеоз страданий. Весна – это прилетели голодные грачи, для того чтобы склевать мою печень. Дожидаться страданий и страдать каждой новой весной все труднее и труднее. Паршивому человечишке всегда трудно в любое время года, не говоря уж о весне, когда все радуются и веселятся, он не любит когда всем хорошо, когда всем хорошо, ему плохо. Такая уж у него натура. Весной, как известно, обостряются чувства, снег сходит и все дерьмо прет наружу, и человеку паршивому становится неуютно, он словно бы голый и нечем прикрыть ему свой стыд и срам, от этого и страдает. Это благодатное время для сумерек души, время, когда черви в твоем мозгу активизируются и начинают поедать зачатки зеленых лепестков, твою надежду на спасение. Мрачные, как непроглядные черные дыры, грехи собираются в стаю и воют словно хор голодных, осиротелых волков. Смрадные, пахнущие разложением мысли гонят изуродованную, многострадальную душу прочь от душного тела – сосуда греха и разврата – в мир иной. Убей себя, что бы избавиться от того, кого ты презираешь! Но все это лишь способ самобичевания. Никаких летальных исходов. Более того, все новые и новые грехи, все более и более изощренные в своей простоте. Это входит в привычку. Словно вдохнуть полной грудью свежего опьяняющего воздуха, а затем, покаявшись, выдохнуть через нос с полной моральной готовностью вновь насладиться обжигающей прелестью свежей прохлады. И в результате этих манипуляций аппендикс – совесть, как орган, некогда управлявший человеческими поступками, можно вырезать за ненадобностью оного. Тогда зачем нужен выдох, к чему нелепые раскаяния содеянного, кто в замен совести возьмется управлять человечишкой? Страх. Это он пожрал совесть, он проник в каждую клеточку, поглотив черными дырами своей сущности млечные пути, галактики, мириады звезд космического небосвода души. И теперь страх повелевает человеком, определяет его поступки, дает разрешение на вдох и выдох. Ищет каждый утопающий, за что ухватиться, оправдания своим поступкам каждый грешник, не покаяния, а оправдания. Покаяние для человека – это не очищение, а скорее затирание, размазывание четких линий, от того и получается грязь, грязь, которая делает из души помойное ведро. Какое покаяние, смысл этого слова давно растаял в воздухе, как никому не нужное облако-призрак. Покаяние, как и любовь – ископаемые динозавры. Так что покаяние – оправдание, любовь – совокупление.
Всю свою сознательную жизнь я только и делаю, что бегу, то от одного, то от другого. В конце концов осознаешь всю банальность, затасканность этой проблемы, этого кросса от самого себя, забега длиною в жизнь. Я никогда не думал, что моя жизнь будет такой, какова она сейчас. Я ощущаю себя тем зеленым школьником, молча взирающим на потолок, из соседней комнаты доносятся звуки телевизора, там мама и папа. А я не причастен ни к чему, я ограничен стенами, нет никого, только остро выраженное одиночество. Внутри тебя бездонный темный тоннель, а перед ним знак вопроса. Ответь, что, что ты хочешь, чего не хватает, почему дискомфорт, разъясни его природу? Нет ответа. Есть жуткое, тошнотворное ощущения пустоты, каждой клеткой. Носилки на дереве скорби.
Глава 4
К двадцати трем годам Ник уже слыл поэтом и писателем. Писал он в основном короткие рассказы и делал это на одном дыхании. Как только муза, гостившая у него, отправлялась на обед, так сразу молодой автор забрасывал свое произведение и уж больше к нему не возвращался, от чего бесконечно страдал.
– Послушай, Чех, – сказал Ник своему приятелю, когда они в очередной раз устроили вакхический праздник. На этот раз торжество было приурочено к выходу совместного сборника стихов, в котором приняли участие шесть начинающих авторов. – Ты пробовал роман написать? Я всякий раз берусь, но все как-то не могу до конца довести. Усидчивости, что ли, не хватает, а может тему не могу ухватить, не знаю о чем писать. Правда, есть кой-какие наметки.
– Никитушка, лапушка, почитай стишки, – повиснув на нем, как кошка, стала упрашивать, изрядно подвыпившая миловидная блондинка с роскошной грудью, – про меня, ты же читал в прошлый раз.
Ник посмотрел на нее исподлобья слегка осоловелыми глазами, полными нескрываемой ненависти.
– Была ли ты прекрасна?Возможно и была.В утробе своей мамы,Что бросила тебя.В сухих объятьях братцаТщедушного козлаИли под телом пылкимРодимого отца,Или когда учительСрывал с тебя трусы,Потом, когда пятеркиВ дом приносила ты.А ныне твое телоДавно уж ждет земля…Дальше сама досочиняй.– Ты идиот, – пристыженная и оскорбленная, она покинула кухню и растворилась в безумстве происходящего, в комнате, где весь остальной народ бурно отмечал презентацию книги.
– Ты чего, Ник, что случилось?
– Не знаю, притомился. Ну, что скажешь по поводу романа?
– Послушай, на кой он тебе нужен? Куда ты с ним? Ну, напишешь, и что дальше? Печатать? – где бабки, к тому же, насколько я тебя знаю, ни детективов, ни фантастики ты не пишешь. Роман про любовь? Не смеши меня. Чего тебе надо, ты пишешь рассказы, ну и пиши себе. Короткое, емкое произведение легче продается, быстрее пишется, ну и все что из этого вытекает.
– Да хрен бы с ней, с продажей, с рассказом, с книгой. Сейчас не напечатают, напечатают потом, потом не напечатают – да и хрен бы с ним. Пойми ты, важно то, что ты написал роман, испытать это чувство опустошения, радости, усталости и всего прочего. Вот в чем дело.
– Не знаю, куда-то тебя уносит. Давай-ка лучше выпьем.
Водка приятно обожгла их пищеводы и постепенно стала всасываться через желудок в кровь. Чех запил пивом и закурил сигарету.
– Ты знаешь, Ник, у меня несколько иной кайф. Я наслаждаюсь самим процессом. Меня прет, когда я пишу, а после завершения возникает пустота, которая слегка обламывает. И всегда после этого тянет просто нажраться, да трахнуть кого-нибудь. Вот такие дела. Кстати, ты не будешь возражать, если я Верочкой займусь, а то ты ее немного подобидел, глядишь приласкаю ее, успокою?
– Да, да. Иди в ванную, я скажу, чтобы не тревожили.
Чех удалился, а немного спустя его силуэт и изящное тело пышногрудой красавицы проследовали мимо кухни в ванную комнату.
– О, ванная комната, – произнес Ник, погрузившись в хмельные мрачные думы своего безумия.
Занятия онанизмом с собственными мозгами вряд ли помогут на пути в поисках истины.
Ник налил еще полрюмки и выпил залпом.
За окном брезжил рассвет, стирая своей призрачной резинкой черноту ночи.
– Мне двадцать пять лет, – произнес Ник в пустоту гнетущего одиночества кухни, – и что из этого следует? Ничего. Нет работы, денег, жены, семьи, любви, ничего нет. Все же нельзя так пессимистически, что-то ведь в конце концов должно быть? Да, должно. И даже более того, пожалуй, что есть – пустота и тошнотворное одиночество, больной желудок, страх перед будущим и прошлым, ненависть к себе и людям, и желание. Да вы, батенька, при всем негативизме оценок не перестаете оставаться оптимистом. Желание – это явно эрос. Не знаю, не знаю. Желание может проявляться и в несколько ином ключе, например, как стремление к танатосу. Где же здесь зарыт оптимизм? Как же где – желание и стремление. Не думаю, что желание и стремление смерти так уж оптимистично выглядит, да и само желание и стремление, как некие душевные позывы, мне кажется, не показатель полярности человеческой натуры. А что же тогда показатель? Я думаю, что отношение к жизни.
Ник взял со стола нож с коротким и острым лезвием и спокойно, с небольшим нажимом, словно мелом по асфальту, прочертил прямую, бесконечную линию на руке, чуть ниже сгиба локтя.
Плоть расступилась под холодным равнодушием стали, предоставляя разгоряченному алкоголем организму расплескать свою живительную влагу.
– Ха-ха-ха, как приятно по утру отыметь себя в саду.
Ник зажал кровоточащую рану рукой и двинулся в ванную. Он распахнул дверь, и не обременяя себя благочестием, бесцеремонно вошел внутрь, не обращая никакого внимания на совокупляющихся. Верка взвизгнула, скорее от испуга, что кто-то вошел, нежели от вида крови на руке Ника.
– Занимайтесь, занимайтесь, – пьяным голосом произнес хозяин квартиры.
Два голых тела, соединенные по принципу «гнездо – джек», недоуменно взирали на молодого писателя.
Ник открыл кран и предоставил струе холодной воды зализывать кровоточащую рану.
– Просто иногда человеку необходимо избавиться от дурной крови, – уставившись в свое отражение, произнес Ник, – кто-то бьет друг дружке морды, кто-то прокалывает себе соски, члены, носы. А чего, раньше даже лечили кровопусканием. Женщинам и того проще, они избавляются от этого недуга регулярно, так ведь, Вер, не будь у вас менструаций, последствия могли бы быть крайне плачевными, а так вы должны благодарить бога за этот дар. Что скажешь, Вера?
Ник повернул голову и не без любопытства пробежался глазами по ничего непонимающим, застывшим от удивления и страха, обнаженным телам.
– Закатать бы вас в бронзу, – придавая своим словам задумчивость и томность произнес он. – Ну что вы, все в порядке, продолжайте, – сказал Ник, как бы извиняясь, при этом положив свою руку на остывающую ягодицу приятеля, слегка подтолкнул ее несколько раз. Чех словно послушная неваляшка принялся тихонько двигаться. Вера, стоя раком, опершись руками о стену ванной, тупо смотрела на струю воды, ниспадающую на сырое человеческое мясо, выделяющее кровь. То ли от большого количества спиртного, находившегося на тот момент в организме девушки, то ли от шокирующего вида картины, стоящей перед глазами, ее вырвало.
– Ну, ну, ну, ничего, это бывает, ничего, Вер, все бывает, – сочувственно произнес Ник, набирая в ладонь воду и смывая блевотину с лица девушки. – Расслабьтесь, что вы, в самом деле, как дети малые, ей богу.
Ник молча мочил обезображенную резанной раной руку. Казалось, он впал в прострацию, уснул или, хуже того, умер. Просто стоял, стоял и так, стоя, и умер. Молодые люди как бы по инерции продолжали заниматься совокуплением, но это занятие в данный момент явно не приносило им никакого удовлетворения.
– Он чего, уснул? – шепотом спросила Вера.
– Откуда я знаю. Ник, ты в порядке?
Юноша помотал головой.
– Я думаю, думаю Чех. Скажи, ты смог бы убить человека?
– Не знаю, смотря как и за что.
– Да просто так, ни за что, горло перерезать, вот Верке хотя бы.
– Перестаньте, перестаньте, – готовая провалиться в истерический обморок, умоляюще произнесла Вера, – вы можете нормально разговаривать? Если вы не прекратите, я либо заору, либо сблюю опять.
– Ну, ладно, Вер, ты же не за обеденным столом сидишь, в конце то концов, а трахаешься в ванной, и при том, что тебя окружает в данный момент цвет русской современной литературной мысли. Писатель и поэт, Вера, творит не только пером или ручкой, он творит прежде всего мозгами, и тут никакие обстоятельства не могут ему помешать, потому что, Вера, он творит всегда, даже во сне, не говоря уже о данной сложившейся ситуации. Так что в данный момент, Вера, ты удостоилась чести наблюдать этот самый творческий процесс. Ладно, оставлю вас, не буду мешать.
Ник достал из шкафчика йод и вату, по краям обработал рану, затем взял бинт и вышел из ванной, прикрыв за собой дверь.
Когда Чех с Верой вернулись на кухню, их радушно встретил Ник с тугой повязкой на руке.
– Ну что, все хорошо? – прищурившись, улыбнулся он.
– Нормально, – сухо произнес Чех, явно недовольный произошедшим, – наливай, что ли.
Юноши залпом опустошили наполненные рюмки, запили пивом и закурили.
– Хорошо пошла, – сказал расслабившийся после изнурительной процедуры совокупления Чех.
Вера все сидела с наполненной рюмкой никак не решаясь выпить.
– Ты чего, Вера, стесняешься или брезгуешь?
– Вы идиоты, нельзя водку запивать пивом, это вредно.
Ребята улыбнулись.
– А чем можно? – спросил Чех.
– Водой.
– Очень даже полезно, – съязвил Ник. Он взял со стола пустой стакан и наполнил его водой из-под крана. – Прошу, мадам, запить целебной водичкой, с оздоровительными свойствами коей, по всей видимости, мадам уже имела честь ознакомиться. Да, кстати, Вер, ты гонорею так не пробовала лечить?
– Пошел ты.
Девушка лишь махнула рукой и заглотила содержимое рюмки.
– Идите вы, – переведя дух, сказала она. – Дайте сигарету даме.
Чех протянул ей открытую пачку.
– Ты поешь чего-нибудь, а то совсем свалишься, – сказал заботливый Чех.
– Говна, что ли, поесть, в этом доме и говна не найдешь. Поешь… Поела бы, если было.
– А че тебе еще надо? – возмутился обиженный хозяин дома. – Вот капусту жри, огурцы соленые, вот хлеб.
– Ага, чтобы потом опять блевать вашими солеными огурцами, – она взяла с тарелки сиротливо лежащий огурец и надкусила его.
Вера слегка угомонилась, похрумывая огурцом, приятно ощущая, как некое блаженство растекается по ее кровотоку, обволакивая негой все члены организма, стучась в мозг.
– Ты мне так и не ответил, убил бы ты или нет? – вновь спросил Ник.
– Нет, – произнес Чех.
– А если, предположим, у него никого нет, ни родных, ни близких, совершенно одинокий человек, к примеру, бомж.
– Думаю, что все рано бы не отважился, да и зачем, собственно, мне его убивать?
– А я бы, наверное, смог, – задумчиво пробормотал Ник.
Они молча курили, думая каждый о своем.
– Послушай, Чех, – разорвал, словно ситцевую материю, молчаливую тяжесть минут Ник, – возвращаясь к разговору, убить бомжа, понятное дело, особого труда не составляет, это мне представляется даже неким одолжением со стороны убийцы по отношению к деградировавшему млекопитающему. Но, это же самое убийство приобретает совсем другое звучание, когда, – Ник прищурился, его глаза заблестели, а губы искривились гаденькой усмешкой, – бывший бомж, просящий у неба о смерти, благодаря тебе стал отличать аромат розы от запаха нечистот. Когда он вместо корки черствого хлеба попросит бутерброд с икрой, когда он устыдится грязи под своими ногтями, когда он вновь вдохнет полной грудью давно забытые прелести этого мира, он уже не будет тем, кем был, оставаясь для всего общества бомжом. И вот тогда его судьба в твою ладонь протянет меч. Что думаешь?
– Я думаю, что ты, как бы это лучше выразиться, слегка не в себе, – сказал изрядно загрустивший юноша, – ты из этих бредней хочешь состряпать роман?
– Не знаю, что-то зреет во мне, пока не знаю, что.
– Никитушка, – встряла в разговор изрядно захмелевшая Вера, – ты точно рехнулся на фоне своей литературы. Я тебе скажу, что нужно делать.
– Для чего, Вера?
– Для того, чтобы поправить крышу. Во-первых – устроиться на работу, но так, чтобы труд был физический. Во-вторых – найти бабу, для, хотя бы, трехразового в неделю совокупления. И подобные мысли пройдут сами собой, да, да.
– Насчет работы я подумаю, а вот по поводу бабы, может ты, Вера, расстараешься для меня, хотя два раза в неделю, а?
– Извини, не могу, так как больше жизни люблю товарища Чехова.
– Антона Падловича?
– Нет, почему, вот этого Падловича.
– И давно ли? – разливая по рюмкам водку, спросил Чех.
– С сегодняшней ночи.
На кухню потихоньку стал подтягиваться развеселенный танцами и водкой народ.
– Ник, это чего у тебя, а чего кровь на полу?
– Вы чего, ребята, тут делали?
– Успокойтесь, все в порядке. Безумную оргию в стиле императора Веспасиана объявляю закрытой. Кто в состоянии, прошу покинуть стены моего вакхического храма. Все иные могут остаться, но при одном условии – не докапываться до меня с разными вопросами по поводу и без. Совещание объявляю закрытым.
Несколько человек, обремененных домашними проблемами, покинули стены холостяцкой квартиры молодого поэта, мечтающего написать роман, кто-то уединился в ванной, все остальные принялись допивать оставшуюся водку и мирно беседовать о всевозможной ерунде, о Вийоне и Платоне, об электровибраторах и анальных внедрителях, о черных дырах и волосатых грудях.
Над городом, продираясь сквозь бархат ночи, вставало солнце, растворяя лунную мантию в прозрачности неба.
Глава 5
Дверь открылась и в квартиру вошло невысокое существо, не имеющее возраста, источающее едкую вонь. Оно обладало женскими половыми признаками, неряшливо спрятанными под лопающимися от грязи лохмотьями, с синим и потресканным от ссадин и синяков вечно пьяным лицом и чудовищным образом запутанной, годами не мытой и не чесанной конской гривой. Следом за ней вошел хозяин квартиры, закрыв за собой дверь.
– Ты скинь все тут у порога, – сказал он негромко, снимая обувь.
– С какой это стати? – огрызнулась бомжиха.
– А с такой, – повысив голос произнес Ник, – чтобы аромат, который ты источаешь, не проглотил, словно кошка мышку, и без того скудные запасы кислорода моего жилища. Пока ты раздеваешься, я наберу воду в ванну, отпаришься, отмоешься, а уж тогда и выпьем и поговорим. Не волнуйся, одежду я тебе дам.
Ник оставил гостью у порога, а сам прямиком отправился в совмещенный санузел, для заполнения жидкостью моечного сосуда, именуемого ванной.
После процедуры очищения водой в сочетании с моющими средствами существо приобрело довольно сносный женский вид. Конечно, в этом истрепанном и потасканном теле сложно было найти сходство с обнаженной Махой, однако, здесь присутствовало все, на что можно бы было взглянуть не без вожделения. Небольшие коричневатые сморщенные кружочки с торчащими, как гвозди из забора, сосками на припухлых, слегка обвислых грудях, плоский, словно асфальтовая дорога, живот, заканчивающийся небрежно выбритым лобком, пышная и на вид упругая задница со следами насилия и две стройные, покрытые язвами и коростами, ножки. Все это в полной красе предстало пред ясны очи молодого писателя, хозяйничавшего на кухне.
– Вот одежда, надень, – Ник указал рукой на табурет, где лежали новая белая футболка и старенькие, потертые, но чистые джинсы.
– А где мои шмотки? – рассматривая предложенную одежду, спросила женщина, ничуть не стесняясь своей наготы.
– Я их выкинул.
– Куда?
– Куда? В мусоропровод. Вообще-то, нужно было бы их сжечь и в землю закопать, как яда содержащие отходы, ну да ладно, так, глядишь, может быть, крысы потравятся немного.
Женщина молча надела предложенные Ником вещи и села за стол.
– Значит, ты писатель?
– Да как тебе сказать, еще не вполне.
– Это как?
– Вот, так. Не знаю, как это лучше объяснить. Видишь ли, я, конечно, пишу всякую там лабудень, но этого недостаточно, контора тоже пишет.
– А чего еще нужно?
– Да хрен его знает. Давай, что ли, выпьем?
Ник достал из холодильника бутылку портвейна и разлил ее содержимое по стаканам.
– За знакомство!
Звякнули два граненых стакана, возвещая о начале новой жизненной ипостаси для находящихся в этой кухне. Холодная жидкость приятно пощекотала стенки пищевода и улеглась на дне желудка теплым пушистым комочком.
– А курить у тебя есть?
Ник достал из кармана пачку сигарет и угостил гостью, после чего сам достал сигаретку и с наслаждением закурил. В воздухе повисла неловкая пауза. Женщина, докурив сигарету, пристально взглянула на хозяина квартиры.
– Послушай, какого хрена ты притащил меня сюда и поишь? Хочешь трахнуть? Так трахай.
– Нет.
– Ты импотент?
– Нет. Я просто думаю, не стоит начинать с этого наше знакомство.
– Начинать? Знакомство? Я не понимаю, может ты извращенец какой? Притащил в дом, отмыл, напоил. Че тебе надо?
Ник разлил по стаканам остатки портвейна и хриплым голосом произнес:
– Мне нужна, фигурально выражаясь, твоя жизнь. Я хочу ей наполнить, как вином эти стаканы, свой роман. Все, что от тебя требуется – полная и чистосердечная исповедь.
– Ты че, поп, что б тебе исповедовалась?
– На тот момент, пока ты живешь у меня, я и поп и прокурор и все прочее. Послушай, мы с тобой заключаем сделку на обоюдно выгодных условиях. С твоей стороны требуется поведать о своем жизненном пути, но при этом мне не нужны сухие факты твоей биографии – родилась там-то, жила с тем-то, нет, все в подробностях до сегодняшнего дня. Не сухая хронологическая таблица определяет человека, а его поступки, взгляды на жизнь, восприятие этого мира через призму его собственных кишок. Только так можно составить характеристику тому или иному человеку и попытаться понять, кто же он на самом деле. Хотя, конечно, и это эфемерно. Ну да ладно. Я в свою очередь гарантирую тебе крышу над головой, полный пансион, уют и комфорт, хлеб и вино. Как ты на это смотришь?