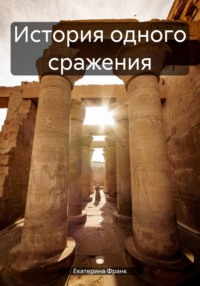полная версия
полная версияПод флагом цвета крови и свободы
– А как же…
– Твой старпом тоже здесь. Я распорядился накормить его и разместить пока с моими людьми, – лицо Джона Рэдфорда внезапно стало еще мрачнее, и смутная тень сочувствия мелькнула в его чертах: – Он мне все рассказал. Сожалею о том, что случилось, Джек.
– О чем ты? – растерянно переспросил сын, стискивая виски пальцами – казалось, что голова готова лопнуть от множества нежеланных воспоминаний и образов.
«Прости меня, Джек…» – последнее, что он мог воскресить в своем сознании: голос Эрнесты, усталый и хриплый, но решительный, как и всегда. Его лучший – и едва ли не единственный настоящий друг с самого детства, храбрая и отзывчивая девочка, вся вина которой заключалась лишь в родительской любви, которой он так долго и мучительно завидовал… И бледное, бескровное лицо Генри с закрытыми глазами – на него Рэдфорд смотрел, проклиная себя за загубленную ради него юную, чистую и храбрую душу – смотрел до самого последнего мгновения, когда в голове все разорвалось и наступила темнота.
– … Она оглушила тебя и велела твоему старпому уходить немедленно, не дожидаясь ее. Ты помнишь то, что было до этого? – едва прорвался в его утопающий разум голос отца.
Джек наклонился вперед и закрыл лицо руками. Он не плакал – не потому, что не хотел этого: быть может, завой он в голос и начни крушить все вокруг, ему и стало бы легче; но жертва двух близких людей сковала его по рукам и ногам. Разве ради его истерик и бессмысленных жалоб они отдали свои жизни? Как вернуть, оплатить этот долг, Рэдфорд не знал; знал лишь, что ни слезами, ни вечным раскаянием, ни даже самыми великими подвигами ему не удастся совершить это.
– Мне жаль, – сказал отец, каким-то чужим, непривычным движением кладя руку ему на плечо. Джек не стал ее сбрасывать – сил на театральные жесты у него не осталось совсем.
– Она мертва, – опустошенно проговорил он, глядя в пустоту перед собой. – Эрнеста мертва, потому что пыталась остановить все это… Кому я лгу? Она просто хотела защитить меня, потому что считала своим другом – или еще Бог весть почему, потому что я все равно этого не заслуживал… И Генри мертв. Генри мертв, – повторил он страшные слова, про себя удивляясь тому, что еще жив, сказав это вслух. Джон Рэдфорд внимательно посмотрел на него:
– Тот мальчик, что вступался за тебя на Меланетто и дерзил мне? Разве он не предал тебя?
– Нет, – выдавил Джек сквозь зубы. – То есть… да, но это уже не важно. Он пришел туда, чтобы спасти меня, и отдал за это свою жизнь. Все равно, что я своими руками убил его…
– По-твоему, это одно и то же?
– А по-твоему, нет? – резко возразил Джек и тотчас прибавил глухо, вновь отведя взгляд: – В любом случае, я виновен в его смерти. В их смертях… Я всегда хотел спросить у тебя, но почему-то не мог сделать этого, – проговорил он вдруг сдавленным, надтреснутым голосом. – Что ты чувствовал, когда убил его? Когда ты убил Кристофера?
Властитель Меланетто свел нависшие брови, и на мгновение лицо его стало действительно страшным; затем он поднял на сына взгляд – тяжелый, неприятный в своей суровой откровенности, но прямой:
– Я знал, что это было правильным решением. И поэтому не чувствовал ничего.
– Ничего? – повторил Джек упавшим голосом. Надрывный смех – смех сумасшедшего, смех комедианта, исполняющего ненавистную роль, смех, похожий на карканье ворона и предсмертные вопли истязаемых куда больше, чем на выражение веселья – вырвался вдруг из его исхудалой груди с такой силой, что он завалился набок и упал бы с кровати, не подхвати его Рэдфорд-старший. – Ничего! Милостивый Боже, как я сразу не догадался!.. Я же столько лет гадал… я молился о том, чтобы это оказался не ты!.. – выдыхал Джек, перемежая слова стонами боли: истерзанное тело, не готовое еще к подобным приступам, давало о себе знать. Властитель Меланетто молчал, сжимая плечо сына – неумело и грубо, впервые в жизни хоть как-то его поддерживая, пусть и в самом прямом, незатейливом смысле этого слова.
– И все это – ради чего? Зачем тебе потребовалось убивать его? – отсмеявшись, прошептал Джек обессиленно. Рэдфорд-старший не шелохнулся; лицо его стало еще более мрачным. – Неужели ты… таким извращенным образом пытался вернуть меня назад?
– Нет. Вернее, дело было не только в этом, – отвернувшись, после долгого молчания признался властитель Меланетто. – Мы действительно часто ссорились с тобой именно из-за него, и я думал – думал иногда, что, если Кристофера не станет, то мы…
– То мы вдруг станем чудесной и любящей семьей, живущей душа в душу? – горько усмехнулся Джек. – Неужели ты сам не понимал, что это так не работает?
– Сказал же, дело было не в этом, – на мгновение в голосе Рэдфорда-старшего снова появилось прежнее злое раздражение, но он сдержал себя и прибавил тише: – Когда ты сбежал, я… Я просто понял, что так больше не может продолжаться.
– Как ты живешь с этим? – спросил сын совсем тихо, вновь закрывая лицо ладонями и бессильно горбясь. Джон Рэдфорд пожал плечами:
– Время лечит. Оно заставляет забыть все.
– Не все, – возразил Джек, отворачиваясь. В голосе его слышалась глухая, неизбывная тоска: – Я так и не смог забыть ничего: ни того, как твои люди убили мою мать – ни того, что ты сам делал со мной…
В каюте наступила наступила тягостная тишина; можно было расслышать, как за приоткрытым окном – единственным источником света в полутемной комнате – мирно и безмятежно плескались волны. Двое мужчин, сидевших бок о бок на кровати, молчали: отец и сын, никогда прежде не бывшие семьей – в эту минуту оба они сознавали яснее всего, сколь бесконечно далеки друг от друга.
– Твой сын сейчас в моем доме, на Тортуге, – негромко, устало заговорил вдруг Джон Рэдфорд. Джек поднял голову: лицо его моментально побелело, глаза загорелись:
– Роджер?.. С ним же все…
– Да, да. Я оставил его на попечении надежных людей, – кивнул властитель Меланетто. – Он напомнил мне кое-что, о чем я очень много лет пытался забыть.
– Надеюсь, что не меня в детстве, – глухо, но с отчетливым металлом в голосе начал Джек. – Потому что если ты хоть пальцем до него дотронулся…
– Я никогда тебе этого не рассказывал, – продолжил Джон все тем же странным тоном. – На самом деле, я родился и вырос в Старом Свете, в Англии. Мой отец был обычнейшим бродягой, каких тогда сотни ходили по дорогам: где крали, где грабили, где брались за какую-то мелкую работу. Службу он потерял, когда лишился ноги – я даже не знаю, кем он был – а после смерти матери остался мне единственной родней. Так мы и ходили по дорогам: я, тощий чумазый мальчишка, и он – одноногий калека с котомкой за спиной. Как же он играл в карты! Не могу даже представить, сколько раз та засаленная колода давала нам ужин и ночлег…
– А что же случилось потом? – тихо спросил Джек; по тону отца он уже почти наполовину догадывался, каким будет ответ. Тот поджал морщинистые губы и дернул щекой:
– Его повесили у меня на глазах в Бристоле. За бродяжничество, по всем правилам славного английского закона. Меня тогда всего лишь высекли плетьми и заставили смотреть – знали бы они, кем я стану, живо вздернули бы рядом с отцом… Потому что закон – закон всегда должен исполняться! Этот урок я запомнил на всю жизнь, – хрипло, без тени веселья расхохотался он. – На глазах у толпы – это все плевать, а вот то, чтобы я как следует прочувствовал – меня даже держали за голову, не давали отвернуться. Но я бы все равно глядел: хотел еще раз увидеть отца, хоть живого, хоть мертвого… И не отходил от виселицы, даже когда все разошлись и смеркаться начало – тогда-то капитан Флинт меня и приметил, взял к себе на судно «пороховой обезьянкой». Один из повешенных вместе с отцом оказался его знакомым, вот он и пришел на площадь поглядеть…
– К чему ты рассказываешь мне все это? – спросил Джек с явным раздражением. – Думаешь, я расчувствуюсь оттого, что спустя столько лет ты начал давить на жалость?..
– Какой бы голодной и опасной ни была моя тогдашняя жизнь – это время я до сих пор вспоминаю как самое счастливое, – глухо проронил властитель Меланетто; хотя взгляд его был обращен на лицо сына, смотрел он словно разом и на него, и куда-то очень далеко – намного дальше скрытого за необъятным морским горизонтом. – Теперь я понимаю, что то счастье было в моей жизни только благодаря отцу. Я не сумел сберечь его и дать тебе, Джек, – видя, что сын собирается что-то сказать, он предостерегающе поднял руку и внезапно положи на его плечо, наклонившись вперед. – Но ты сумел подарить то же чувство Роджеру.
– Он сам… Это он так сказал? – спросил Джек. Джон Рэдфорд рывком подался навстречу сына, положив и вторую руку ему на плечо в попытке заключить в странное, незаконченное подобие объятий – так, что между ними оставалось около фута пустого пространства:
– Да. Он любит своего отца точно так же, как тот любит его, а я… Я так и не смог полюбить тебя. Я знаю, что задумали те двое, торгаш Рочестер и капитан де Гарсия: быть может, сейчас последняя возможность для меня сказать тебе это. Прости меня за все, Джек, если можешь, – едва ли не впервые в жизни он потянулся обнять сына, остановился было, словно растерявшись – но тот не вырвался и даже опустил, помедлив, обе руки на его спину – осторожно, словно боясь обжечься.
– Вот что я хотел тебе сказать, – пробормотал ему в плечо отец, тяжело, прерывисто выдыхая слова. – Ненавидишь меня, а?
– Ненавижу? – повторил Джек, глядя на него одновременно с недоумением и тоской. – Нет. Нет, я никогда не ненавидел тебя. Раньше, конечно, злился… Но потом это все прошло. Наверное, даже не прошло, а просто я сам научился с этим жить…
– Хочешь сказать, что все-таки простил меня? – в мрачных глазах Джона Рэдфорда внезапно загорелось какое-то новое выражение, описать которое Джек едва ли смог; подобным образом на него смотрел Роджер, когда умолял принять его в команду и впервые назвал отцом, но сам капитан никак не мог назвать такое сравнение подходящим.
– Тебе не нужно было никого убивать, – ответил он настолько честно, насколько сам мог распознать собственные чувства – на которые вообще редко раньше обращал внимание. – Я все равно тебя не ненавидел за тот приговор, но и возвращаться бы не стал ни за что. Ты – мой отец. Такой, какой есть, ты когда-то пришел к моей матери и дал мне жизнь; так уж вышло, что ты не запомнил даже ее лица и имени, а после почему-то не смог принять, что у тебя есть сын. Положим, ты не любил меня – это я уже понял много лет назад… Я хочу сказать: не нужно себя сейчас ни в чем винить, и в любом случае – не время теперь для этого. Куда больше событий пятнадцатилетней давности меня сейчас интересует будущее – в частности, будущее моего сына, потому что если Хуан де Гарсия приведет свою угрозу в исполнение – то и Роджер, и все люди, которые находятся на Тортуге, окажутся запертыми в ловушке.
– Мы уже подтянули к форту все имеющиеся резервы, – при упоминании угрозы нападения Джон Рэдфорд мгновенно подобрался, став похожим на прежнего себя – но Джек лишь коротко усмехнулся:
– И оставили без защиты всю остальную территорию острова? Нет, отец, так не пойдет. Вели позвать мистера Макферсона: у нас еще есть несколько часов, чтобы все обдумать…
***
Когда Генри открыл глаза, была глубокая ночь – он сразу понял это по кромешной темноте за окном каюты, в которой лежал. В свете одинокой свечи, тем не менее, он смог различить окружающую его обстановку и лицо Эрнесты Морено, сразу же склонившееся над ним.
– Генри, ну слава Богу! Я думала, ты уже не поднимешься, – искренне приветствовала она его пробуждение, звякая чем-то стеклянным справа от него – юноша хотел было повернуться и посмотреть, чем именно, но отказался от этой затеи из-за мгновенно пронзившей грудь и плечо вспышке боли.
– Не двигайся, – сразу озвучила те же мысли Морено, поднося к его губам кружку с водой – когда юноша, жадно глотая, опустошил ее наполовину, она долила туда какую-то вязкую жидкость и велела: – Пей. Тебе нужно как можно скорее встать на ноги.
– Сколько я уже здесь? – Генри вдруг тревожно завозился и принялся озираться по сторонам, позабыв о боли. – Джек… Джек в безопасности?
– Думаю, он уже на Тортуге. Ты три дня провел без сознания, – сообщила Морено спокойно, кладя ему на лоб прохладную ладонь. Пальцы у нее были тонкие, легкие, но твердые, с шероховатыми мозолями на подушечках. – Если хочешь есть, могу предложить суп из вареной черепахи – меня в детстве мама лечила чем-то похожим.
Фокс помотал было головой, но в животе у него предательски заурчало, и юноша понял, что, несмотря на слабость, просто зверски голоден. Эрнеста понимающе усмехнулась; когда она, взяв со стола миску со слегка остывшим варевом, подсела ближе к нему и принялась без малейшего стеснения кормить с ложки, Генри заметил, что у нее был крайне усталый вид.
– Значит, мы… Мы все еще находимся на испанском корабле? – пережевывая мягкое черепашье мясо, спросил он. Эрнеста пожала плечами:
– Ты, знаешь ли, был не в том состоянии, чтобы пережить путешествие на шлюпке.
– Но как же они… Как вы вынудили их оставить нам жизнь? – все еще недоумевал Генри, словно вовсе не страшась чудом минувшей их участи. Быть может, так оно и было, за компанию подцепляя белыми зубами кусочек мяса, размышляла рассеянно девушка.
– У меня есть информация, которая им нужна. Мы заключили соглашение после смерти капитана Гарсии, – ответила она как можно лаконичнее, все равно запнувшись на чужом имени. Гордого хозяина судна, своего хозяина и мучителя, матросы выбросили за борт, по-видимому, все еще боясь его и оттого зашив в парусину, как положено; трупы прочих офицеров они намеренно швыряли в море растерзанными и обнаженными, празднуя свою победу. Морено не могла их осуждать – ей и самой наверняка хотелось бы чего-то подобного на их месте; но с каждым таким сброшенным в воду телом крепла ее решимость в правильности принятого решения и таяла без того смутная тень жалости к будто и впрямь продавшим Гарсии свои души людям; унеся их с собой в могилу, испанский капитан открыл дверь необузданной жестокости своих бывших подчиненных.
– Мэм, – слабым голосом позвал ее юноша: после трапезы его заметно клонило опять в сон. – Мэм, когда мы плыли сюда с мистером Макферсоном, я… Он сказал, что мой отец погиб, защищая Джека. Это правда?
– Генри, ты же знаешь, я не трогаю чужие секреты, – чуть заметно усмехнулась Эрнеста.
– Знаю, но… Прошу вас, скажите! Джек… говорил что-нибудь об этом?
– Да, – после продолжительного молчания кивнула девушка. Фокс откинулся обратно на подушку, с которой привстал в порыве волнения, и закрыл глаза.
– Я почти не знал отца, – тихо признался он. – Мы с ним совсем редко виделись после того, как он ушел в пираты. Мать говорила забыть его совсем, но я никак не мог… Потом она умерла, а от отца так и не было больше вестей. Он никогда не рассказывал ничего ни о своей команде, ни о капитане – я и предположить не мог, что это был именно Джек…
– Я сожалею, Генри, – призналась Морено, поглаживая его по волосам. Фокс накрыл ее пальцы своими:
– Почему он так поступил? Почему для отца было так важно…
– Потому что Джек был его капитаном. В пиратской команде все друг другу братья, хоть многие и забывают об этом, а некоторые так и не знают до конца, – твердо ответила Морено, с затаенной, тоскливой печалью глядя поверх его головы в ночное небо за окном.
– Как вы думаете, – прошептал Генри, – как бы подумал пират? Джек мог бы простить меня когда-нибудь – или же…
– Думаю, в вопросах, касающихся тебя, Джек пират куда меньше, чем обычно, – пожала плечами Эрнеста.
– А вы, мэм? Вы простили меня?
– Это не вопрос прощения, Генри, – серьезно возразила девушка. – Я представляю, почему ты поступал именно так; наверное, на твоем месте многие сделали бы то же самое. Но одно могу сказать точно: если человек заслужил расположение и любовь моего друга, то вместе с ними он получил и мое уважение.
Некоторое время они сидели в тишине. Морено прислушивалась к доносившимся из трюма звукам и гадала, надолго ли хватит терпения матросов: условленные пять дней вполне могли сократиться, дойди до тех сведения о том, что Фокс очнулся.
– Спи, Генри, – посоветовала Эрнеста, оторвавшись от тягостных мыслей и сняв руку со лба юноши: Фокс дышал глубоко, ровно, да и рана его выглядела куда лучше прежнего. В первые два дня судовой врач, со страхом косясь на нее и отлично сознавая, кому обязан жизнью, бормотал на скверной латыни что-то о кризисе и критическом положении больного; Морено плохо понимала его, но и сама видела, что дела Генри плохи. На третий день ему неожиданно полегчало, спал жар и почти прошла лихорадка – а к ночи он очнулся столь внезапно, что Эрнеста сперва решила, что просто-напросто задремала и увидела желаемое во сне. За эти дни она успела изучить все записи Гарсии, отделив сообщения о живых от мертвых; вторых оказалось значительно больше, как Морено и подозревала с самого начала. Различной длительности тюремные сроки, ссылки в колонии, списки казненных и пропавших без вести годы назад с ужасающей ясностью вставали перед ее глазами. Эрнеста сама с трудом понимала то, как родственники этих несчастных могли спустя столь долгое время еще рассчитывать на что-то, ради чего стоило бы идти в подобную кабалу… Впрямь, что ли, прав был капитан Гарсия, рассуждавший об управлении людьми через их привязанности? Она помнила, как страшно ей было брать в руки лист бумаги, содержавший сведения о ее родителях. Не предпочли ли так же эти бесчисленные матросы нескончаемую, несбыточную надежду жестокой действительности, о которой догадывались, но не желали этого признавать?
Когда Фокс пришел в себя во второй раз поздним утром, Морено как раз сидела за столом, перебирая выученные едва ли не наизусть документы. Того, что кто-то внезапно войдет и обнаружит их, она не боялась: в каюте капитана Гарсии дверь запиралась изнутри на особо прочный засов, а положение мебели было таково, что в случае чего вполне можно было с успехом забаррикадироваться ею в считанные минуты и затем отстреливаться от нападавших.
– Что это? – спросил Фокс, указывая взглядом на бумаги. Эрнеста помолчала, но, сознавая необходимость этого, коротко объяснила ему положение дел. Генри слушал внимательно, не перебивая; когда она закончила, неожиданно заявил:
– Я здоров. Расскажите этим людям то, что они хотят знать! Вы сами сказали – у многих из них все еще живы те, ради кого они и пришли к капитану Гарсии.
– Генри, – Эрнеста потерла лоб, с трудом подавляя тяжелый вздох, – Генри, все не так просто, как тебе кажется. Мы до сих пор живы лишь потому, что я не открыла им по первому требованию местонахождение бумаг…
– И поэтому вы собираетесь молчать?
– И поэтому я ничего не скажу им, пока не смогу гарантировать нашу безопасность! – отрезала Морено, собирая бумаги и укладывая в тайник. У нее самой было тяжело и мерзко на душе, но признать подобное она никак не могла. Да и в любом случае – что бы это изменило?
В дверь постучали – Педро принес еду. Эрнеста завтракала на рассвете, более шести часов назад, и разделила принесенное на троих, пусть и не поровну: Фоксу, как раненому, достались куски побольше и получше, Педро и ей самой – поделенные поровну остатки. Отщипывая по чуть-чуть, она молчала и надеялась, что юноше тоже достанет ума держать язык за зубами.
– Команда совсем на взводе. Никогда их такими не видел, – мрачно сообщил Санчес, косясь на Генри – Морено успокаивающе провела ладонью по воздуху, призывая его не скрывать происходящего от юноши. – Лучше дайте им то, чего они хотят, и не медлите!
– Сэр, а ради кого вы сами здесь оказались? – вмешался неожиданно Фокс, глядя на него почти прежними чарующими глазами; Эрнеста отвернулась, сделав вид, что сбрасывает в черепаший панцирь кости и прочие объедки, однако искоса она наблюдала за тем, как Педро ответил после продолжительной паузы:
– Ради того, кого уже нет на свете. Капитан обманул меня, как и многих других здесь.
– Это мисс Эрнеста вам рассказала о… – Генри посмотрел в его глаза и так и не закончил фразу. Бывший пират поднялся, чуть кряхтя, и принял из рук девушки пустую посуду.
– Да, – ответил он так тихо, что даже человеку с превосходным слухом пришлось бы напрячься, чтобы разобрать это; однако Генри, судя по выражению его лица, понял все.
К удивлению Эрнесты, он молчал действительно долго: настолько, что она, уже не прячась от него за работой, опустилась в кресло и уперлась лбом в сцепленные в замок руки. Услышав позади себя его шаги, Морено даже не оглянулась.
– Капитан Гарсия умер, но Рочестер сейчас наверняка уже приближается к Тортуге со своим флотом. Он не станет рисковать, когда против него существует такой компромат – он атакует, Генри, – проговорила она негромко, обдуманно и почти бесстрастно – за четыре дня успев свыкнуться с этими мыслями. – Я знаю, на каких кораблях ходят пираты: их суда хороши для абордажа и длительных рейдов, но плохи для серьезного боя. Нам нужны эти галеоны, чтобы переломить ход сражения.
– Если оно вовсе состоится, – напомнил Генри серьезно. Эрнеста тряхнула рассыпавшимися волосами:
– У меня есть то, что нужно этим людям. Используя бумаги, я смогу заставить их подчиниться…
– И чем же тогда вы поступите лучше Гарсии? – в запале возмутился Фокс, сразу же об этом пожалев: глаза Эрнесты полыхнули, как не остывший уголь в костре:
– Я спасаю наши с тобой жизни, не считая тех, кто сейчас находится в ловушке на Тортуге!
– Вы ошибаетесь! – с неожиданным жаром возразил Генри. – Вы знаете, почему я вернулся спасать Джека? Причин много, но одна из них – ваши поступки, которые я видел все это время. Вы же сами всегда заботились о своей команде…
– Эти люди мне не команда, моя команда сейчас на Тортуге! – отрезала Морено. Генри почти с сочувствием взглянул на нее и покачал головой:
– Вы просто лжете сами себе, мэм. Есть другой способ уговорить тех людей помочь нам! Они в отчаянии после стольких лет обмана, но если сейчас протянуть им руку помощи…
– Когда они получат, что хотят, – жестко перебила его Эрнеста, – никто уже не заставит этих людей подчиниться. Им не нужна эта правда! Они не в состоянии распорядиться ею и смириться с реальностью. Жаль, что ты не видел, как твои несчастные страдальцы поступили с офицерами Гарсии после его смерти… Между прочим, их участь могли разделить и мы!
– Вы так говорите, потому что мистера Дойли нет с нами, – едва ли не с искренним раскаянием вымолвил Генри. Удар попал в цель: Эрнеста остановилась, как вкопанная, и обернулась к нему с опасно неподвижным лицом – как всегда, когда внутри нее закипал неистовый гнев. Однако Фокс, движимый одному Богу известным чувством – никогда прежде Морено не видела у него такого лица, бледного и вдохновенного – не подумал остановиться:
– Я знаю, о чем вы думаете: что все, случившееся с нами – это моя вина, с этим я не спорю. Вы вправе ненавидеть меня, и я… когда все закончится, я готов буду ответить за свои преступления сполна. Но сейчас – вы знаете сами, и я знаю: будь мистер Дойли здесь, с нами, то он выступил бы против этого плана. Как и Джек, и вы сами тоже – во всяком случае, прежняя вы: та Эрнеста Морено, которая скорее умерла бы, чем предала доверившихся ей людей! – Голос Генри сорвался, и на мгновение он умолк, но сразу же продолжил, задыхаясь от волнения: – Это же ваши… ваши и Джека слова все это время не давали мне покоя… Ни днем, ни ночью я не мог избавиться от них! Когда думал, что он и вы остались здесь в окружении врагов – двое самых лучших, честнейших и достойнейших людей, каких я знаю… – на секунду он опустил голову, пытаясь справиться с собой, и лишь боль, заглушившая его голос, свидетельствовала о том, что пришлось пережить Фоксу в своем собственном аду за минувшие три недели. Морено чувствовала, что юноша, стоявший перед ней, вырвался из него уже совсем иным человеком, нежели тот, которого она запомнила; и прежнее чувство, столь часто некстати бравшее верх в ее сердце, на мгновение возобладало вновь.
– Мистер Дойли сам выбрал свою судьбу, Генри, – произнесла она негромко, берясь за дверную скобу и мысленно собираясь перед принятием одного из самых тяжелых решений в своей жизни. – Не терзай себя этим. Останься здесь и жди: я все сделаю сама.
Наверху мрачные, действительно явно на взводе матросы словно ожидали ее – быть может, так оно и было, Эрнеста не собиралась проверять. Во всяком случае, многие из них оказались явно из команд других галеонов, помимо «Бесстрашного»: за минувшие три недели Морено неплохо научилась не только запоминать их лица, но и местонахождение в составе эскадры.
Как ни странно, страха она почти не чувствовала – быть может, потому, что это все равно не заставило бы ее отказаться от принятого решения, или потому, что оно было столь отвратительно для нее самой, что Морено заранее приняла любые последствия для себя как заслуженные полностью. Отчасти Фокс был прав: как бы там ни было, эти люди тоже стали ее подчиненными, а значит, она оказалась в ответе и за них тоже; но Эрнеста сознавала болезненно четко, что в подобной ситуации спасти всех никак не удастся. Свою же сторону она выбрала уже давно: в ту самую минуту, когда выбежавший из темного коридора Эдвард Дойли бросил ей отрывистым, равнодушным голосом, что спасти Джека ему не удалось.