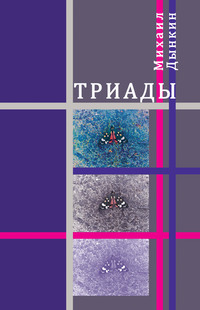Полная версия
Метроном

Михаил Дынкин
Метроном
© М. Дынкин, 2018
© О. Сетринд, оформление, 2018
© Издательство «Водолей», 2018
«Пока среди бездействующих лиц…»
Пока среди бездействующих лицпротагонист слоняется без дела,вдовец-писатель едет в Биаррицс любовницей, ши-тцу и старой девойиз Англии, прижившейся в семье.Она карикатурно некрасиваи вообще немного не в себе,но кто присмотрит за балбесом сыном?Насаженный на вертел из лучей,вдовец-писатель пьёт свой капучинои открывает Барта, чтоб прочестьизвестие о собственной кончине.Он покупает сыну эскимоили бросает мячик собачонке;с любовницы снимает кимоно,строчит в блокноте почерком нечётким,наполовину вписанный в пейзаж,который превращается в картину.И думает, что сам он персонаж,но как сказать любовнице и сынуоб этом? Изменившийся в лицеон навсегда сбивается с маршрутаи видит только женщину в чепце,похожую на Барта почему-то.Серая линия
Камень
Щегол
Тополиным огнём отороченный,просыпается город Петра.За ворованным воздухом очередьзанимают поэты с утра.Слитный гул муравейника в школах, ив классных комнатах, будто во сне,копошатся статисты и олухи,арлекины и прочие все.С бодуна ли училка-конвойная,перекличку затеяв, чтоб ей,объявляет: сегодня – контрольная?Благодарствуем, лучше убей.Уравнения с их неизвестныминенавидящий всею душой,ты решения сдуть не побрезгуешьу отличницы Нади Большой.И когда за широкими окнамисветотени развяжут мешокжухлых листьев – оранжевый с охрою,ты закончишь свой первый стишок.Восемь строчек, сплошная эротика.(Сколько наглости было в щенке!)Станет Надя краснее смородиныи ударит тебя по щеке.«Видишь, в небе рдеет огонёк…»
Видишь, в небе рдеет огонёк?Там летит железный мотылёк;может быть, заходит на посадку.У соседей музыка вприсядку:славный, верно, выдался денёк.Засыхает дикий виноград.Фонари проснулись и горят,обхватили головы руками.Развалюха движется рывкамимимо покосившихся оград.Ты права, но ты и не права.Всё, что было, сплыло на раз-два.Говорят, вначале было Слово.Просто слово, ничего такого:сигарета, музыка, трава.«Сэнсэй сидит в тени цветущей сливы…»
«Сэнсэй сидит в тени цветущей сливы.Его лицо не кажется счастливым,точнее, на сэнсэе нет лица.Поддерживая сломанную руку,он предаётся мыслям о сэппуку,как будто пьёт из черепа отцафамильное достоинство… И всё же,как ни крути, сэнсэй уже не можетрассчитывать на собственные си…Ничком в траву. Лежит, недосягаем.И вот к нему подходят асигаруи хмурятся, поклявшись отомстить.Три года им бродяжничать, таиться,сжимать кольцо вокруг семьи убийцы,свиваясь наподобие вьюнка.Не будет ни промашки, ни поблажки —они играют в облавные шашкинеторопливо, но наверняка…»Ты тащишься в автобусе на службу.Японский бог, кому всё это нужно?Слова, слова, слова, слова, слова.Ну что ж… Умри в тени цветущей сливы,пускай воображаемой, но зримойнастолько, что дымится голова.Мотылёк
Мотылёк, залетевший в квартиру,в лёгкой панике чертит круги.Под сияющей лампой в гостинойначинает своё «помоги».Помоги, мои лапки не гнутся.Голова моя кружится. SOS!А под лампой сидят и смеются,вытирают дорожки из слёз.Будто сами в окошко влетелипо оплошности страшной.Смотри,как над ними смыкаются тени,как у них холодеет внутри.Встал один, и другой потянулся.Разошлись – не друзья, не враги…Слышишь, души на ниточках пульсаначинают своё «помоги»?Помоги, ибо всё, что осталось —нестерпимое жженье в спине.Мы продержимся самую малостьи прижмёмся к последней стене.Снежинка
Внутри снежинки, если присмотреться,тоскует человечек меловой.Его микроскопическое сердцесжимается в предчувствии тогомгновения, в котором всё растает:снежинка, жизнь, Вселенная…Никтос тем человечком цацкаться не станет,пока снежинка гаснет на пальто —такая же, как миллионы прочих;в тех человечки, а в иных – зверьки.«Прости, дружок, прощай, спокойной ночи…» —бормочут на ходу снеговики.«А всего-то и есть, что серебряный зимний денёк…»
А всего-то и есть, что серебряный зимний денёк.Ни прилечь, ни присесть, потому что вокруг Рагнарёк.Остаётся идти днём с огнём в непослушной руке.Остаётся найти человека в сплошном Рагнарьке.Люди ходят на двух. Дух летит, не касаясь земли.Человек или дух, ты дрожишь под напором зимы.И проходишь сквозь снег, существо-антипод или пшик.В кулаке оберег, а фонарик украл снеговик.В животе холодок, остывают в глазах угольки.И стоит городок над замёрзшею змейкой реки;сувенирный такой: бакалея, церквушка, ларёк.Помаши им рукой, выпей чаю в кафе «Рагнарёк».«Елисей видит сон: злые люди везут Елисея…»
Елисей видит сон: злые люди везут Елисеяпо осенней тайге, за которой иная тайга.Там живёт рыба-скит – сухопутная рыба – под серымнепрерывным дождём и, нахохлившись, бродят стога,навещают друг друга, сбиваются в стаи пингвиньи…Бьёт хвостом рыба-скит по растёкшейся тусклой воде.А внутри у неё Просветлённые лепят из глинычёрных бабочек Чжоу, летящих во сне и во тьме.Злые люди кричат: «Вылезай, Елисей, из повозки!Это гиблое место придётся тебе по душе».Он откроет глаза и упрётся коленями в доски,станет мокрой травой, чёрной бабочкой в сером дожде.«Марина вьёт из Мориса верёвки…»
Марина вьёт из Мориса верёвки,затягивает Мориса в узлы.Её глаза – две жуткие воронки,а меж зубов – раздвоенный язык.Она его не держит за зубами.И Мориса не держит: скатертьюдорога… До чего же он забавен —стоит на месте, говоря: «Адью».Проносятся стремительные птицыс кровавыми ошмётками в когтях.Лежит в засаде хищник тигролицый,отец изголодавшихся котят.Деревья наклоняются к беседкам.Кромсает тучу серебристый нож.Куда ни ткнись – натянутая сетка;не перепрыгнешь и не разорвёшь.Поэтому, а может, по-другому,так или эдак, эдак или так…Купил у старой ведьмы мандрагору,да позабыл, что делать с ней, простак.Стоит теперь, болванчиком кивает,адьюкает, а с места ни ногой.Марина ничего не забывает.Марина убивает, дорогой.Марина
Марина курит, стоя у окна.Марина или, может быть, Окавпадает в шум гостиничный, сшибаястолы и стулья,синими шипамипронзая коридорного, покая думаю – ни слова о Мари…Спасаются наружу комары.Вздыхают липы.И почтовый голубьнесёт письмо в потусторонний город,съезжающий с Кудыкиной горы.Там, воротясь со службы, имярекконверт разрежет и увидит снег,сирень в цвету и дуло пистолета,нащупавшее ямку у виска,поскольку не Марина, а тоскастоит в снегу и пишет это лето.И будет адресат ревнив и жёлтлицом, но, вероятно, не нажмётон на собачку – станет жать на жалость,чтоб у Марины челюсти разжались,и лёд январский превратился в мёд.Тогда-то на сетчатке двойникаи заискрится женщина-Ока.И полдень, заполняющий каюту,уйдёт на дно, в последнюю минутуметнув окурок в красный бок буйка.«Я в мальчике провижу старика…»
Я в мальчике провижу старика.Внутри него зелёная река,чьи водоросли, склизки и мохнаты,похожи на пытливые канаты,обвившие купальщикам бока.Сквозь бреши в небе прибывает мрак.Не бойся, мальчик, я тебе не враг,но и не друг – давай за это выпьем.(Грифон грифону третий глаз не выклюйв чужих полузатопленных мирах.)Распад и Лету, берег, ставший дном —я вижу это не в тебе одном,как будто устье сходится с истокоми волны разворачивают домто к западу фасадом, то к востоку.«– Не хотел появляться на свет, так…»
– Не хотел появляться на свет, таки не спрашивал вроде никто.Но запомнил кленовую ветку,майский вечер и вопли котов.Как несли на руках в коммуналку,а позднее вели в первый класс.Собирали с товарищем марки,он калекой вернулся как разиз Афгана, но это спустя летдесять что ли (точней не могу).Дальше тянется то, что не тянетвспоминать. Понимаешь?– Угу.Понимаю.– Женитьба и служба.Недомолвки. Скандалы. Развод…Сам не знаю, кому это нужно.– Никому, – говорит и берётсигарету.– А кто говорит-то?– Человек без особых примет.Сядет рядом и тут же сгорит онили, может быть, скажет:– Привет!Ты бы это… Начнём всё сначала, —усмехнётся, поправит парик…И увижу: за чашкою чаясам с собою толкует старик.Привалился спиной к батарее,дочку с зятем имея в виду;привели его в дом престарелых,а сказали, что в школу ведут.Старик
схоронил трёх жён теперь уже не ходокделит квартиру с призраками и кошкойи соседи слева зовут его «кабысдох»а соседи справа «зомби» и «старикашкой»призраки оживляются по ночамщёлкают пальцами пахнут тоской и потома потом наступает утро и огненная печатьзаверяет действительность или что тамон поднимает к небу слезящиеся глазаи немедленно забывает зачем их поднялу него на щеке зелёная стрекозаа на подбородке вчерашний полдникон вышел за хлебом упал на газон и спити снится ему как у окна в гостинойпыльное кресло качается и скрипитпокрываясь сизою паутинойСтарик-2
После 60-ти стал замечать,что смерть уже близко;и пахнет она чем-то женским – левкоями ли, пачулями.И на всём печать какая-то неразличимая.И птицы летят низко.Еле-еле звучат.– Закрой окно, холодно, – жене говорит он.Сам сидит на стуле, чем не конная статуя?И лунный свет омывает профиль его небритый,в шарики ртути скатываясь.В 65 совершил экскурсию в Шибальбу.Вышел из комы и затаил обиду.Там, под землёю, нет вакантного гида —слишком много туристов к разрушенным пирамидам,а его… видали в гробу.Впрочем, трудно сказать, так ли оно на деле,если ты действительно кончилсяи астральному телу некуда возвращаться.Вот он смотрит в зеркало, а из зеркала смотрит демон —весь в пигментных пятнах, перекошенный, всклоченный,дышащий часто-часто.И нет никого, кто бы его утешил:жена ушла годом раньше,сын живёт за границей…А птицы кричат всё тише,но вид у них шибко страшный.И это уже не птицы.Мойра
Мир был прозрачен, призрачен, непрочен.А мы лежали рядышком, что прочерк,два прочерка в постели и графе«Любовь», поскольку дело не в любви, ноя просыпался лишь наполовину,а ты сидела в маленьком кафев своём воображении, пила тамдвойной эспрессо, плитку шоколадавертела в длинных пальцах. Я же шёлпод душ – не знаю только, наяву ли —стереть с лица улыбочку кривую,использовав стиральный порошокпо назначенью, так сказать, прямому…Мы жили в доме с видами на Мойру:вот ножницы, а вот она сама,склоняясь над трепещущею нитью,бормочет по привычке «извините»,«приятных снов» и прочие слова.Мы смотрим на неё без интереса.И наши жизни, что двойной эспрессо;грохочущий экспресс из пункта Иксв мерцающую точку невозврата,огнём сверхновой бывшею когда-то.И дольше века длится этот микс.«Фрагмент лица. Руки обломок пыльный…»
Фрагмент лица. Руки обломок пыльный.Здесь статуя стояла в водевильнойнелепой позе. Здесь снимали фильмиз чьей-то жизни – трудной и короткой.И ставили его на перемотку.И выходили в непрямой эфир.Фарфоровые куклы на комодах.Какие-то укурки в эпизодах.Игра актёров – так себе игра.Шестнадцать серий втиснув в два сезона,создатели молчат не без резона,поскольку дальше – чёрная дыра.Ты всё забыл, покуда дул на кофе.Тебя здесь нет. Швыряет в реку профисвой пистолет. И мелом обведёнлишь силуэт отсутствия кого-то.И детектива мучает икота.И он идёт к машине под дождём.Тебя здесь нет, но в двадцать пятом кадреподействует (что вообще-то вряд ли),едва над ямой вырастет семья,таблетка от мигрени ли, сирени,от версий, что ещё не просмотрели,от нестыковок, от чужого «я».«Ещё хотелось крепких женских ног…»
Ещё хотелось крепких женских ног —погладить и почувствовать: живые.Свой собственный укромный уголокв саду ещё и чтобы дождевыенад садом проплывали облака.А женщины… Так есть сестра и мама,и этого тебе навернякахватило бы для вводных глав романа.Сначала он по-бунински тягуч,потом по-пастернаковски порывист.Ты запираешь комнату на ключ,чтоб мать с сестрой в вещах твоих не рылись.Идёшь к подруге, пьёшь дрянной портвейн.И вот оно случается, и сноваслучается, но выставлен за дверь,ты зол и бледен. И тебе все сорок.А если присмотреться – шестьдесят,что раздражает молодого босса.И на тебе как будто бы висятдолги и внуки, только первых больше…На старой даче сад шумит листвойи вспыхивают блики на малине.А ты сто лет не виделся с сестрой —с тех самых пор, как мать похоронили.«Там здание стояло буквой «П»…»
Там здание стояло буквой «П»,тяжеловесно и подслеповато,с квартирами, подобными купе,в которых от зарплаты до зарплатыпод стук колёс, и сердца, и т. п.Налево – цирк, направо – лесопаркв грибном дожде ли, гробовом молчанье…Там ты и рос – не хиппи и не панк,они тебя вообще не замечали;и если честно, хорошо, что так.Направо – сквер, налево – гаражи(не уследишь за памятью фальшивой).Просил на вынос калорийной лжио чём-то большем, но не разрешили.Да и зачем оно тебе, скажи.«Вот я иду, а где-то ты идёшь…»
Вот я иду, а где-то ты идёшь,как ранний Бродский или поздний дождь,к облупленной скамейке, на которойгоразд старик, похожий на шута,втолковывать, что всё есть суета.А мы как будто слушаем и тонемв сосудах сообщающихся ям,воздушных, с воробьями по краям.Я – духовидец, ты – канатоходец.Там, наверху, живёт смешной народец,переводящий с дактиля на ямблюбую (представляешь?) чепуху.Никто не знает, что там наверху,хотя путеводителей подробныхне счесть, что вообще-то не удобно;точней, преумножает чепуху(et cetera). Вложи сюда какойзахочешь смысл.Начав за упокой,смиряются, не просят хэппи-энда.Я затаюсь, а ты дождись моментаподать мне знак бегущею строкой:«Экклезиаст-соломинка-омерта».Камень
Действительно, свечи каштановпохожи на свечи, дружок.И вечер, как очи шайтанов,предательски ярок и жёлт.А всё, что пыталось случиться,вплывает в оконный проём.И пеплом Клааса стучитсяв двухкамерном сердце твоём.И плачет оно, и трепещет,и будто бы ходит внутри.Сдавай на хранение вещии камеры плотно запри.Запри, чтоб не вырвался вирус,стремительный вирус стыда.И ключик захватанный выбрось.И не обольщайся, когдапридут бутафоры метафори вылепят ловкий пейзаж:клубящийся облачный табор,каштаны, сносящие баш…На Осипа бледной эмали,под музыку в Летнем саду,поймают тебя, как поймалифилософа Сковороду,нащупав пульсацию камер,чтоб хлынуть в ближайшую щель…Так пой же не дерево – камень,а лучше не пой вообще.Лев
1Когда падёт ерусалимский лев,исполосован римскими орлами,и ты получишь волчий свой билети станешь чем-то вроде быстрой лани,бегущей в гетто; ни тебе клыков,ни яда, ни изогнутых когтей, лишьклубящаяся Тора облаков,которую как мягко ни постелешь —наутро просыпаться в синяках,но сам же знаешь, и в такое утролев на востоке вспыхивает, будтодо времени витает в облаках.2Вот летит на цапле святой хасид.А на нём горит золотой талит.А сама та цапля как снег бела.И бежит по улицам детвора.Все кричат: смотрите, летит хасид!Зажигают свечи, пришёл шаббат.А в вечернем небе звонарь стоити со всею силою бьёт в набат.Как хорош он, Господи, твой народ,озарённый огненной Шехиной,под цветущим деревом Сефиротто живой, то мёртвый он, то живой.3Где-то на Волыни петух закричит на идиш,что пора вставать, и потянется в ешивудлинный ряд теней, только ты ничего не видишь,потому что время давно расползлось по шву.И прорехи в нём залатать петушиным крикомневозможно, сказал бы рабби, не будь он мёртв.И несёт в кувшине радужный призрак Ривкимолоко и мёд.Жизнь ещё кипит в большом самоваре смерти.И сквозь потолок уносится в небо «Шма».И приходят люди, в которых страдает Вертер.А дыра в затылке тем ведь и хороша,что теряешь трупы близких своих из виду.Ров завален с верхом, листья кружат над ним…Но чем ближе к югу траурный клин хасидов,тем неотвратимей синий Ерусалим.«Иосиф и его братья…»
Иосиф и его братья,сёстры его и жёны.Дети его вне бракав домах из жжёногокирпича, ракушечника и дерева.Иосиф и его демоны;один – большой, зеленоватый, внутренний,а второй поменьше, похож на нутрию,заплывающую в сны Иосифа по весне.Иосиф и его смех,плач, шёпот его, палач невидимый.Иосиф и его ланч с Овидием;вечер у Клэр,рандеву с Ягодой.Иосиф в укусах своих химерв Аиде врагов народа.Внутренний демон когтями острымирвёт ему плечи, коленкою бьёт под дых.Где вы, братья мои и сёстры?– В газовых душевых.Он проснётся с криком. И, рядом сидя,фараон его спросит: «Сынмой возлюбленный, что ты такое видел?»И Иосиф ответит: «Сны».«За стеклянной стеной лишь другие…»
За стеклянной стеной лишь другие стеклянные стены,говорил мне Учитель, имея при этом в виду…Ничего не имея; его узловатое теловсё покрылось листвою в каком-то дремучем году.Был ли старец даосом, халдеем, египетским магом,я теперь и не вспомню, но кто же тогда говорит:за стеклянной стеною – треножники вышек Гулага,душевые Дахау, вошёл и навеки размыт.Здесь бессильны слова, потому что они бесполезны.Здесь и нимбы святых полыхают кровавым огнём.Здесь я умер давно, заразился посмертной болезньюи очнулся, проглочен большим деревянным конём.Закричат петухи, неприятели в город ввезут нас,и откроются двери в крутом деревянном боку…За стеклянной стеной не осталось ни блика, ни звука,только пиршество трав, но зелёный к лицу старику.«видишь, небо мертво…»
видишь, небо мертволишь январь с ледяною заточкойпробежит по нему, рассыпая слепящие точкивсё утонет в зимеи себя вне себя забываяоставайтесь в земле —шепчет мёртвым тоска мироваяоставайтесь в землечто поделаешь, вас обманулине младенца обмыли, а старца в снега завернуливам к лицу этот саван, такой серебристый, хрустящийна январском лугу, под копытами тройки летящейто не тройка коней, а расстрельная тройка, да тольковас уже не достать, оттого и не страшно нискольков мерзлоте этой вечной, не зная забот о ночлегевы плывёте по встречной в сколоченном наспех ковчегезаблудившийся светмотыльковые смерчикатарсисперевод на ивритперевод на английский, китайскийпохитители тел забирают своёи свистит имвслед метель-не-метель, распадаясь во тьме на субтитрыЖёлтая линия
Янтарный буйвол
Поклонение волхвов
Когда снег накрыл Хермонскую гору,появились волхвы с дарами.Первый волхв принёс мандрагору,а второй – портрет в золочёной раме.На портрете двигался некто в чёрном,в бутафорских крыльях и с жёлтым глазоммеж бровей.И в медленном танце пчёлыколебались нимбом над ним.И вязыосеняли слева его и справа.А на дальнем плане ключи звенели…Третий волхв меж тем контрабандной пранойокроплял лежащего в колыбели.Было утро. Кажется, было утро.Время концентрическими кругамипо воде дождя разошлось и будтоощутило впадину под ногами.Там, над тельцем плачущего младенца,зажимая уши, склонялись трое.И навстречу каждому, метя в сердце,всё тянулось щупальце золотое.Патриархи
1Авраам заносит руку с ножом, и Тетра —грамматон отводит руку его. И словнос четырёх сторон дуют четыре ветра,и под крик ворон свет проникает в сон мой.Там дрожащий отрок на каменистом ложесмотрит на отца и видит то нимб убийцы,то клыки святого, что часто одно и то же,даже если оно двоится.Я кричу во сне – это, на грудь мне Паркасев, когтями рвёт плоть мою, а под плотьюсквозь замёрзший сад осени патриархас золотой трубой ангел летит Господень.2Старый Ицхак выводит ручного големана поводке, расписанном гексаграммами.Старый Ицхак и голем идут по городу,город переливается всеми гранями.Джинны горят на площади подле ратуши;надо бы погасить, потому как утро же.Старый Ицхак семиполосной радугойбровь выгибает – это ни с чем не спутаешь…Ривка готовит завтрак. Вернётся с прогулки муж и вотвсё на столе, ешь, дорогой, и радуйся.Хлебцы хрустят, вьётся дымок над кружками.Благослови, Господи, нашу трапезу!3Иаков зовёт Рахиль, а приходит Лия(может быть, и Лилит, но Иаков о том не знает).В серых его глазах будто багровый ливеньходит, трубя в шофар, мечется, нарезаясумрачные круги, змий-искуситель в каждом.Лия глядит в трюмо, видит лицо Рахили.Дева ты или бес, старец горит от жажды:«Дай увлажнить тобой губы мои сухие!»Бьются они впотьмах, ангел над ними реет;в профиль он что Рахиль, но анфас что Лия.Иаков зовёт Лилит, а приходит времясмерти его, хвост распустив павлиний.4Иосиф стоит в снегу, но откуда здесь взяться снегу?И жена фараона следит за ним из окна.Как же её влечёт к этому человеку!Чем же ей оправдаться? В чём тут её вина?Иосиф стоит в снегу, в яблоневой метели.Что это за страна? Как он сюда попал?Женщина входит в сад. Женщина ждёт в постели.Сердце её поёт. Тело её – напалм.Ляжешь и не с такой, лишь бы скорей убраться…Вот он стучится в дверь, руки его в крови.Лязгнет дверной засов и побледнеют братья:Бык, Скорпион, Стрелец,Симон, Звулун, Леви…«Шли они по воде, но не на плотах, как эти…»
«Шли они по воде, но не на плотах, как эти,а на своих двоих, как только они и могут.И первыми шли старики и дети,а последними силачи с паланкином Бога.И был паланкин тот пуст, но давил такоютяжестью, что казалось, Сам восседает в нём.И были в их ВВС летающие драконыи серафимы, стреляющие огнём.Над шествием развевались штандарты света.Ни вождь, ни первосвященник не помнили, в чём их цель.И если что оставалось, так это вектор,движения, общий контур его в Творце».Обычно на этом месте он замолкает.И слушатели кричат ему: «Ересь!»Иливозмущённо двигая кадыками,растворяются в поднимаемой ветром пыли.Тёмные фокусы
1Приоткроешь дверцу в моей грудии увидишь: зеркало, шкаф, стена.На высоком стуле старик сидит,смотрит с удивлением на тебя.Он сидит и курит большой косяк,поднимает смутные паруса.На полу, ворочаясь так и сяк,тень его часами лежит без сна.Стул плывет по воздуху, воздух сер.На комоде – слоники-шатуны.А в окне распахнутом виден сквер.А над сквером – крапчатый шар луны…Ты прикрыл бы дверцу-то от греха —голова закружится и кранты:превратишься в ветхого старика,пленника покинутой комнаты.2Фокусник открывает багровый рот,и изо рта его тянется серпантинизумрудных змей. И миниатюрный рогвенчает их королеву. И снег летит,расставляя точки над вереницей «и».Фокусник проводит рукой по лбу,и над эстрадой вспыхивают огни,а меж рядами кресел растёт бамбук.Миг – и зайдется в хохоте старый лис,глядя как содрогаясь, молясь, крича,зрители умирают, в буквальном смыс —ле сражены ловкостью трюкача.3Перед тем как лечь, Чарльз выходит на задний двор,на передний план, на последний участок сна.И тогда над ним нависает угрюмый дом,на кривом крыльце – красная полоса.И в одном окне виден сосновый бор,а в другом окне – фабричной трубы цилиндр.То ли это бред, то ли программный сбой;то ли автор врёт, но кто его исцелит?Он и сам не рад, что на сцену выходит Чарльз,что огонь во рту и дрожь не унять в руках,что один из них, верно, умрёт сейчас,но какой из двух, и почему, и как?Замолчи, прошу, рану не береди!Не смотри назад, можешь лишиться сна.Там всё тот же дом с окнами на груди.На кривом крыльце – красная полоса.Новый год
Сперва из текста выпадает снег,а вслед за ним – герой и героиня.Всё это происходит не во сне —они как раз о смерти говорилив шестой главе, и на тебе – летят;вокруг – снежинки, ангелы и галки…И дикторша в вечерних новостяхтот самый текст читает из-под палки.Она доходит до шестой главы.А студия тем временем пустеет,хотя по ней расхаживают львы,застав киномехаников в постелях;читай «врасплох» и сразу отвернись,ведь ты же не выносишь вида крови…В студийных окнах только тёмный низночных небес и кадры старых хроник:отец народов на трибуне ли,лиловый негр, линчуемый толпою;пришельцы на другом конце Земли,идущие на этот за тобою.Они спешат, их душит нервный смех,в их сумках – новогодние подарки.А с неба продолжает падать снег,протагонисты, ангелы и галки.Новый год-2
Уже зажигаются лампы головна всех площадях городских.И зимнее небо – разваренный плов,посыпанный перцем тоски —становится ближе, как этот поёт:две буквы, последняя – «г».И словно на лыжах, скользит самолётв густой новогодней пурге.И в том самолёте сидит пассажир,и кажется, даже живой.Считает воздушные он этажи,соседку считает женой.И пусть эта фифа ему не чета —накрасила рот и молчит,но кто-то же должен платить по счетамза тех, кого не приручил.А город внизу уменьшается всё;глазами похлопал и лёг.И только в эфире, забитом попсой,горит голубой огонёк…Астральный трансформер вздымает Ковши.И, рухнув на Землю с небес,волхвы вспоминают, куда они шлии кто их кураторы здесь.«Снег начинает падать не раньше, чем ты…»
Снег начинает падать не раньше, чем тыгрузно садишься в кресло и замерзаешь.Время несогласованно и плачевно,если смотреть на вещи его глазами.Всё налицо: неровности, швы, помарки.Люди вообще скомканы и приплюснуты.Над головой проносятся вихри кварков,а под ногами лопаются моллюски…Стены покрыты инеем и сквозь них тывидишь дворы в неверном, коварном свете.Спину шоссе перебегают пихты.В дальнем окне пляшет линялый свитер.Прямо под ним – окаменевший мамонт.И дикари кухонными ножамирежут его и впопыхах ломаютлезвия.И когда, раздувая жабры,за гаражом, по крышу ушедшим в землю,штопором входит в воздух косяк салаки,время становится чем-то совсем музейным:мумией, ископаемым, рощей статуй.