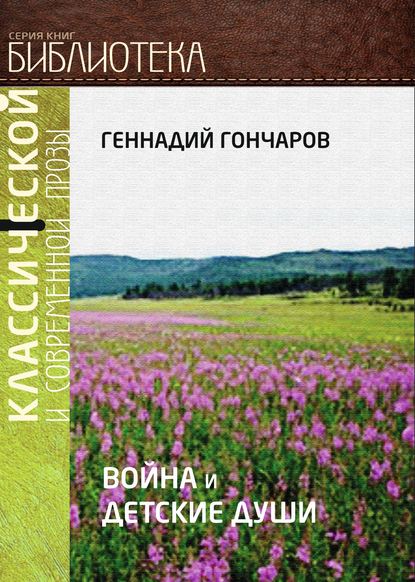Полная версия
Воздух Сомерсетшира

Сола
Воздух Сомерсетшира
Сборник
Маме – которая всегда и навсегда
Падеспань
Когда эта история началась, Сурин помнил отчётливо: летним вечером он стоял у окна и смотрел на дождь, который подчинил себе весь городок.
В дверь позвонили, он не шелохнулся: его настроение вполне можно было бы назвать умиротворённым, благодаря хорошему пищеварению, прохладе, которую принёс с собой ливень, и сознанию собственной значимости. Последнее он любил подчёркивать, потому и ждал, когда прислуга соизволит открыть дверь его дома, чтобы впустить для него новости. «Если хочешь быть свободным, будь финансово независимым», – не первый год твердил он себе подслушанные чужие советы и не терял времени даром.
В ответ на слова горничной Сурин услышал знакомые интонации своей секретарши. Когда он предстал перед ней, та уже прощалась. Она изрядно промокла под дождём и выглядела, как мокрая кошка, но смотрела по-прежнему независимо: ей, похоже, не приходило в голову стесняться своего вида.
– Что такое, Таэра? – спросил он в своей обычной манере бога перед тварью. – Мне кажется, не так давно мы с вами простились?
– Вам письмо, – невозмутимо ответила секретарша. – Вы просили приносить личную почту, приходящую в офис, в любое время. Сегодня она поздняя.
Пока она говорила, хозяин прикинул в уме, что ему известно о ней. Из бедной семьи, каких здесь полно, работает у него года три, говорят, танцует в одной из забегаловок какие-то довоенные смехотворные пляски. Сурин представил её кружащейся в танце: да, вполне!
– Пройдите, осмотритесь в моём доме, – ни с того ни с сего разрешил он и сам себе удивился.
Это был поистине широкий жест, таких слов он от себя не ожидал. А мокрая курица даже не округлила глаза, будто так и должно быть. Впрочем, она вежливо отказалась, а он, неизвестно отчего растерявшись, вскрыл принесённое письмо. Всего каких-то десять строк – и умиротворение как рукой сняло. Досада. Да ещё сознание собственной значимости – иначе он не Сурин!
– У меня будет к вам просьба, Таэра, – сухо, как и положено говорить с подчинённой, произнёс он, – скоро у нас появится человек. Работник. Введёте его в курс дела. Поможете. Заодно расскажете мне о нём.
– Я могу идти?
– Свободны, – холодно изрёк Сурин, словно вынес приговор.
В окно он видел, как девушка, легко перепрыгивая через лужи, скрылась сперва за дождём, потом за домом и совсем исчезла из его жизни. Сурин был слегка задет той лёгкостью, с какой она стряхнула и его значимость, и его поручение, и его самого.
Не прошло и недели, как Таэру вызвали в кабинет Сурина. С ним был высокий молодой мужчина в защитного цвета рубашке, слишком тёплой для здешних мест.
– Таэра, это ваш… э-э… служащий. Знакомьтесь.
– Сурин, – негромко представился «её служащий», и Таэра невольно посмотрела ему в лицо.
Тяжёлый. Это слово пришло в голову, и к чему оно, девушка не знала. Зато знала, к кому относится. На фоне лощёного Сурина, её патрона, бывшего в своей стихии, второй Сурин выглядел уродливым гигантом, совершенно в этом месте лишним. Она кивнула ему – мол, очень приятно. Как зовут, услышал.
– Она покажет твоё рабочее место и поможет… Спрашивай, – в спину им сказал хозяин обоих.
Несколько дней контора гудела от новости: у Сурина, оказывается, есть старший брат! Родной! Совсем непохожие, сводные, может? Или двоюродные? У этого, видно, дела плохи: работает на родственника почти что за так (курьеру и то больше выходит), живёт в халупе, за которую и денег не взять, и смотрит волком!
Таэра в эти дни совершенно забыла о танцах: прибывший Сурин был непригоден копаться в бумагах, а по причине его немногословия трудно было установить, понимает он, что требуется делать, или нет.
Стараясь отделаться от груза безрезультатной работы, девушка свободное время проводила у моря, чтобы на следующее утро вновь увидеть невыразительное лицо «своего» протеже с неизменным выражением напряжённой задумчивости.
– Вы понимаете, о чём я говорю? – как-то отважилась спросить у него Таэра.
– Да. Но звенеть, как вы, я не могу.
– Что? – изумилась секретарша.
Сурин-старший протянул свою лапищу к её лицу и дотронулся до серёг в ушах девушки.
– Вы, когда идёте, звените, – пояснил он мрачно.
– Вам мешает? Снять?
– Брат расстроится. И остальные. Вам идёт.
Таэра была поражена словам Сурина. И польщена.
Сурин-младший редко вызывал её к себе, всего пару раз. В первый раз он с интересом выслушал секретаршу, затем спросил:
– Ну как он вам? Понравился?
Это было зло даже для Сурина.
– Необычный, – только и смогла дипломатично вставить Таэра.
– Говорят, он горел. Вернулся с войны.
Девушка лишь пожала плечами – слишком далеко от их жизни.
– Но я вас загрузил, вы не сердитесь? Просите смело прибавку, но мне хотелось бы не иметь с вами денежных отношений, Таэра. Я предпочёл бы думать о наших с вами планах.
Секретарша промолчала, оставив при первом удобном случае шефа ради протеже.
Во второй раз Сурин выслушал отчёт и неутешительное резюме её усилий, с напором сказал:
– Таэра, не надо добиваться толку. Пусть тупо делает какую-нибудь операцию, этого достаточно. Я на днях уеду на пару недель. Право подписи документов у Н., но смотрите, чтобы они были оформлены, как надо, он этим грешит.
– Посмотрю.
– Вижу, вы устали от этого медведя, – с улыбочкой промолвил шеф, – но потерпите. Надеюсь, когда я вернусь, вы мне дадите ответ.
– Разумеется.
После этого разговора Таэра по-иному смотрела на подопечного несколько дней. Но её спасли море и падеспань – пожалуй, никогда она столько не танцевала, как в это лето. Жизнерадостность скоро к ней вернулась (как раз уехал патрон), но заботу Таэра спрятала, как подобает любой женщине.
Настала жара: все изнывали в ожидании грозы, но не было ни ветерка, ни капли.
– У меня от высокой температуры сердце останавливается, – смеясь и переводя от зноя дух, как-то сказала Таэра Сурину-старшему между делом.
– У меня тоже, – ответил он.
Этой общей точки было достаточно для обоих, и с тех пор Таэру редко видели одну. Не то чтобы не нашлось добрых душ, которые бы не постарались намёками дать понять девушке, что она играет с огнём, но её лёгкий нрав и беззаботность обезоруживали и поневоле вселяли надежду, что всё как-то само уладится, уляжется, образуется.
Не так с Суриным: он был чужак, его побаивались и ненавидели за неприятный вид, за его непрозрачность, за то, что он брат большого человека, за интрижку с Таэрой, которая из всех почему-то предпочла его. А не последняя ведь девка!
Однажды в выходной она появилась в его хибаре с мокрой после купания в море головой.
– Я купила тебе рубашку, – с порога объявила она, – нравится?
– Нет.
– Почему? Я недорого заплатила. Примерь.
– Нет.
– Отчего же нет? Не нравится?
– Это брат велел?
Таэра не удержалась и прыснула.
– Сурин ничем не делится. Никогда. Это всем известно.
Таэра потопталась без дела. Не оборачиваясь, он услышал, как дверь аккуратно прикрыли. Сурин-старший остался один.
Он нашёл её в приморском баре, где она танцевала падеспань. Таэра и сейчас кружилась с кем-то в паре, очень мало волнуясь о чём бы то ни было… Они молча шли по шумной ночной улице, пока он с досадой не спросил:
– Зачем ты танцуешь… это?
– Это называется падеспань. Красиво. Но нужна пара.
– У тебя одной выходит лучше некуда, – он, видно, был не в духе, раз так много говорил.
Таэра покачала головой и промолчала.
– А вы… пришли выпить? – спросила она через несколько шагов. Медведь усмехнулся.
– Мне лучше не пить. Я и так их помню. Всех до единого.
Сурин увидел, как она загадочно улыбнулась.
– Значит, надежда есть, – звонко сказала девушка.
– Какая надежда? – снисходительно спросил Сурин.
– Когда меня не станет, ты будешь помнить обо мне. Да? Да?
И она запрыгала перед ним, как девчонка, беспричинно радуясь всему. Чему? Заплёванной улице? Беспросветной ненужной работе без результата? Тому, что её ещё не сломал никто и не смешал с грязью?
– Слышишь, не скачи, как полоумная, – невольно улыбаясь, сказал он. – Тебе и так влетит за то, что ты со мной.
Не сразу, но Таэра перешла на шаг. Они заявились к нему, двигаясь на ощупь – света не было. Девушка села на подоконник, слушая знакомые приглушённые крики отдыхающих.
– Тебя ругают? Скажи, – из темноты попросил мужчина.
Двигаясь по хибаре, он остановился у окна и мог видеть, как Таэра передёрнула плечами.
– Я выбрала, – негромко сказала она, – а он сам виноват.
– Может, и я виноват? А, Чарна Полонея?
Девушка вздохнула и, подумав, сказала:
– Нет, милый, ты как раз вовремя.
Сказано это было упавшим голосом, и в следующее мгновение они уже были нераздельны.
Потом она вспомнила:
– А ты откуда знаешь моё имя?
– А это была тайна? Узнал из твоей анкеты. Таэра, значит, прозвище?
– Да. Так лучше.
– Что оно означает?
– Ничего, так, пустой звук.
Сурин обнял её. Девушка, как кошка, потёрлась о его плечо головой.
– Какой же ты пустой звук! Я с первого раза услышал, как ты звенишь – очень прихотливый, непустой звук. Так и есть – красавица Чарна Полонея.
– Бабка мне имя дала, думала, оно мне поможет из нищеты выбраться.
– Помогло?
– Сам видишь, что помогло.
Совсем немного Сурин оттаял, и того девчонке хватило. Под утро он сказал ей:
– Я не останусь здесь. Приехал братца позлить, чтоб поменьше строил из себя высокородного. Власть, тоже мне. У меня есть деньги. Хочешь со мной? Уедем на север, там люди как люди, никто в твою сторону криво не глянет.
– Хорошо бы, – она улыбнулась как-то невесело, будто он её сказками потчевал.
– Значит, договорились. Приедет дорогой родственник, и мы уедем.
Так решил Сурин. Таэра промолчала – не верила или думать не хотела.
А жара и духота не унимались. Ни дождя, ни капельки – ничего! Даже у воды спасения не было.
Всем было тяжело, все изнывали, лишь Сурин-старший неизменно был непроницаем.
Сурин-младший приехал раньше на три дня и первым делом позвонил Таэре домой, но трубку взяла какая-то карга и, услышав о девушке, прокаркала:
– Нет её здесь, и не было никогда!
И бросила трубку. Сурин не привык, чтобы его прихоти не исполнялись, а Таэра вполне оформилась как весьма перспективная прихоть, отчего десять дней в разлуке с ней принесли патрону совершенно новые ощущения. Никогда его так не тянуло домой, а после приезда множество чувств подчас перекрывало одно – изумление. Неужели его так скоро можно забыть? Его, такого успешного, self-made? Ещё молодого и совсем неглупого, даже богатого? Даже??? Его предпочесть – кому? Мужлану, медведю, босоте?
Сурину во что бы то ни стало нужна была Таэра: он нашёл, кого вызвать и кинуть на поиски, сам же остался в офисе, прикидывая, как спросит:
– Что надумали, Таэра?
Да, именно так. Поглядим, что она скажет и как посмотрит, ведь того, о чём ему сказали, не может быть!
В приёмной так затрезвонил телефон, что Сурин невольно вздрогнул. Таэра вообще-то должна была подойти, она ведь его секретарша. Впрочем, ладно. Всё здесь наперекосяк без него. Сурин-младший поднял трубку. К то-то вежливо и сухо спросил его, а затем сообщил, что тело его секретарши вынесло сильной волной на берег и его зовут на опознание.
– Я ей не родственник, – резонно заметил Сурин и повесил трубку. Затем запер дверь и забегал из угла в угол, схватившись за голову.
Другой Сурин не чувствовал беды. Он впервые за несколько месяцев вышел в город, с удовольствием вдыхая появившуюся наконец прохладу и спокойно глядя на приезжих. Он не видел Таэру весь вчерашний день. Наверно, опять танцует. Рядом с собой ему не удержать такую девушку. На нём была летняя цветная рубашка, и он был одним из всех. Может быть, и не надо никуда ехать? Этот городок не хуже других, а с братом можно и поговорить. Надо подумать.
Её опознали двоюродные братья. Пришли, глянули, кивнули и вздохнули тяжело. Расписались, где показали.
– Спасибо, – сказали им.
– И вам спасибо, – ответили они и ушли.
Потянуло холодком, начал накрапывать дождь, потом полил.
– А грозы так и нет, – укрывая тело, сказала санитарка.
– Стороной прошла, – проговорила другая.
Разом всё замерло и спряталось, а листва и трава словно развернулись, впитывая каплями тонкие далёкие звуки той плавной музыки, что всегда манит нас и которую мы не всегда слышим. Слышите её, слышите? А?
Весенние курсы в школе миссис Соултерфорд
Когда были расклеены объявления об открытии учебных курсов в школе, наверно, никто не ожидал, что на них наберётся народу, как на ярмарке. Люди грамотные говорили, что объявление о начале занятий печатали в газете, но, сдаётся мне, пришли как раз те, кто не смог бы воспользоваться этим знанием. Зато на объявлении, помимо крупных букв, была фотография школы миссис Соултерфорд, а её у нас все знают.
И другой момент, немаловажный в те дни: миссис объяснила первым пришедшим, а те разнесли всем, что «прослушавшие курсы получат аттестат», то есть грамоте разумеют, а с ним, глядишь, можно и устроиться лучше, чем у окна, потому как зимой большинство тем и заняты.
Так вот, публика на эти курсы ходила пёстрая, а вот Флинна Лаквуда, бог ведает, каким ветром занесло – он-то грамоте разумел ещё до курсов. Говорил, мол, сдаст экзамен на капитана и отчалит на «Вёртком». Впрочем, он всегда был себе на уме, никого не спрашивал, что ему делать.
Могу поспорить, миссис Соултерфорд не ожидала ничего такого, когда посылала на курсы свою дочь, девицу воспитанную и образованную, сразу видно, что характера скромного, только ни на кого не смотрела, а это уже было нехорошо и у многих наших вызывало недовольство. На месте миссис Соултерфорд надо бы было трижды подумать, куда пускаешь свою дочь, но, видать, образованные женщины смотрят по-другому или не глядят вовсе.
Нет, вы не подумайте, в школе всё было пристойно, даже строго, преподаватели в очках сыпали умными словами, чертили формулы (ни черта не разобрать, прошу прощения). Совсем было бы кисло, но после профессоров нас делили поровну. И миссис Соултерфорд с дочерью – каждая у своей половины – вели «литературный язык»: так они его называли, а попросту учили читать и писать. Если бы не «литературный язык», Макс Гейли не устроился полковым писарем, а Уолта Мартена не взяли малевать рекламные объявления на заборах, Марта Доменикс, будучи сиделкой, не умела нацарапать и записочки, не то что письма, а алкоголик Стивенс не мог в пивнушке громогласно заявлять, что теперь-то он проник в тайны науки. Я называю своих знакомых к тому, что очень толково нас обработали дамы Соултерфорд, заставив прописывать буквы, слова, потом – предложения, знали, то есть, своё дело. Не прошло и двух недель, как каждый из нас выходил к доске писать, что скажут, и читать, что укажут. Но сперва, я уже говорил, выступали с кафедры преподаватели. Они вещали, а мы тем временем прорабатывали то, что задавали на «литературном языке».
Пожалуй, лишь одна мисс Соултерфорд писала слово в слово лекции и редко-редко задавала вопрос. Соседка её, моя хорошая знакомая, мисс Энн Эррей, говорила не раз, что почерк у той корявый, неаккуратный, даже удивительно. Такая с виду образованная особа, опрятно одевалась и манеры – с нашими не сравнить, а почерка хорошего нет. Вот у миссис Соултерфорд, у той – да, устойчивый красивый почерк, потому и директор школы. Вот так и подумаешь невольно – не в этом ли корень зла? Не здесь ли разгадка произошедшего?
С лучилась-то, в общем, ерунда. Помню, как сейчас, тот прохладный, словно хрустальный, день. Мисс Соултерфорд вошла в учебный зал на лекцию в сопровождении молодого человека, как я понимаю, её хорошего знакомого, тот распрощался с ней, как только усадил на место. Спешил удрать, я бы сказал, настолько быстро он торопился подальше от нашего общества. Кажется даже мне теперь, что этот господин в дверях столкнулся с кем-то – может, и с Лаквудом. В общем, по всему было видно, что он торопится и не может задержаться в нашем обществе умнеющих на глазах людей.
Надо сказать, этот замечательный господин устроил мисс Соултерфорд на месте, где обычно сидел Лаквуд. Тот, хоть и был парень бойкий и бывалый, но, как и все мы, вёл себя смирно и положительно, так что я б его и не узнал. Вот он, увидев, что место его занято, а дамочка сидит вполоборота и слушает внимательнейшим образом приятельницу, подходит некрупным шагом и нерешительным тоном – это Лаквуд-то? – говорит ей в плечо:
– Прошу прощения, мисс… Не могли бы вы меня выручить?
Клянусь чем угодно, последние слова у него сорвались с языка сами, но как ни странно, барышня его поняла – вот что значит воспитание! Вспорхнув, как птица (как это у них получается – бесшумно и с достоинством), она освободила занятое место и проследовала на своё прежнее, а на губах её впервые играла задорная усмешечка. Держу пари на десятку, что с тех самых пор они и стакнулись. Если бы джентльмен не опростоволосился, они остались чужими! Мы-то сразу не поняли. Было пару раз, когда мисс Соултерфорд не приходила на лекции, а только на «литературный язык» – а ведь до того случая по ней можно было часы сверять… Потом гляжу, Лаквуд сперва с ней здоровался, а она кивала в ответ, затем видели, когда он ей при людях что-то говорил, а она слушала и порой возражала или отвечала. И всё было так диковинно со стороны Лаквуда, а с мисс Соултерфорд – и подавно: она ж ни на кого не глядела, что смотришь на такие дела, словно под гипнозом, и не думаешь ни о хорошем, ни о плохом.
По счастью, Лаквуд вскоре отчалил на своём «Вёртком», так и не окончив курсы. С наступлением лета учёба завершилась, нам вручили аттестаты, школу до осени закрыли…
Как подумаю: что же в моей жизни было светлого, почему-то вспоминаю не детство, нет, а те мирные дни, когда мы таскались на курсы, ни бельмеса не понимая, ради того, чтобы посмотреть на мисс Соултерфорд, обсудить её корявый почерк и неуклюжие ухаживания за ней Лаквуда; где все мы, дураки, были счастливы…
Её новая квартира
Разговор с коллегой не имел никаких практических намерений: из-за своей молчаливости и отсутствия бурной личной жизни она давно стала тем, кому можно рассказать всё что угодно (в основном личные и семейные неурядицы) и получить молчаливое сочувствие. Коллега, эксцентричная дама, переживала нелёгкий возрастной период, в который, как правило, тот, кто недавно смотрел преданно и трепетал под строгим взором, теперь невесть отчего начинал глядеть смело и даже с усмешкой. Вместе они часто ходили на работу (благо, дорога одна!), и коллега вываливала на неё ворох своих проблем: то с мужем поссорятся, то помирятся не так, как надо, то на свадьбу друзья пригласили, отказаться нельзя, а денег в обрез, то вот…
– Квартиру надо сдать двухкомнатную!
И долго объясняла, что хозяин живёт в другом городе, а это двушка его мамы, которая год назад умерла, и теперь квартира пустая и не нужна ему, лишь бы платили коммунальные платежи и т. д. и т. п.
Она сразу посоветовала обратиться к общему их коллеге – мужчине, который жил с матерью и как-то поговаривал о наёмной квартире.
– Представляешь! – через два дня заявила озабоченная коллега, когда они шли утром на работу. – Отказался! А я понадеялась… Сказал, мало в школе платят, а он половину матери отдаёт, так что никак…
Поговорили, да и перекинулись на другое.
Ещё через пару дней коллега сказала, что муж вроде бы подыскал желающую снять квартиру, вечером повезёт смотреть.
Но уже на следующий день:
– Ей не понравилось! Говорит, всё старое, боится газовую плиту зажигать. Молодые, им всё современное мерещится. Не хочет переезжать…
Через день в беседе коллега направила свою энергию на молодых специалистов, и у одной нашлись знакомые – семья – которые сняли бы квартиру столь дёшево. Произошёл обмен телефонами, но она заметила, что коллега отчего-то юлит: вроде говорит, что надо поскорее сдать квартиру, но звонить клиентам не стала. И на очередном променаде к рабочему месту женщина без обиняков пояснила своё отношение:
– Да мне и о себе надо подумать, – призналась она. – В прошлом году зять заикался продать нашу квартиру, чтобы себе купить. Я-то тоже мечтаю где-то голову приклонить. Только я плату не потяну, вот и думаю – и хочется, и колется. Квартира-то хорошая, спокойная, уютная, невысокий этаж, с мебелью…
Тут только она и стала задумываться, как было бы здорово отдышаться в своём углу… Коллега говорила, там есть шкафы – как раз убрать книги, что во множестве заполняли их квартиру. И для остального бы места хватило! И не надо ни телевизора, ни компьютера, она ходила бы туда читать, шить или вязать, красиво окружить себя теми вещами, что копились по пакетам и коробкам…
В её жизни квартирный вопрос не стоял остро: всё время она жила там, куда её привезли из роддома достаточно давно (то есть некорректно было бы сказать, что она появилась на свет в этом жилище, даже ради красного словца!). В квартире жила и её семья – родители в своё время предоставили жильё в их распоряжение, не желая мешать молодой семье. Она знала цену этому подарку и была благодарна родным, которые за неё решили ещё один серьёзный вопрос, значительно облегчив жизнь ей, а себе усложнив.
Ей не приходило в голову роптать на надвигающуюся потихоньку тесноту: она с детства здесь жила и, будучи последним ребёнком, имела свой угол. Став женой и матерью, она понемногу окопалась на кухне. И если не готовила и пила либо ела, то читала или вязала здесь.
Потому неведомые мысли о новом доме не засохли на корню, а получили своё продолжение. Другая квартира понадобилась и мужу: вот бы её со временем выкупить и пусть приватизирует на своё имя, чтобы тёща не фыркала. Можно и о перспективе подумать – сыновья ещё школьники, а им уже тесно… Словом, за такое счастье можно было и заплатить, придумать что-нибудь, извернуться.
Она не заикнулась ни словом мужу, не стала беспокоить. Как нарочно, и коллега перестала говорить о квартире, а спрашивать для себя было не в её правилах. Если надо – сама расскажет, если нет – что ж…
Эти дни её тайны она ходила, как именинница, и уже не так остро ощущала тесноту собственного жилья. Она прокручивала, что может возразить ей муж, когда она приведёт его на квартиру, представляла, как она с детьми затеет уборку и сделает всё по-своему… Повесит занавески…
Но коллега молчала, не догадываясь о её соображениях, и говорила о чём угодно, только не о квартире. Она же чувствовала – это гнёздышко от неё не уйдёт. Поищет коллега квартиросъёмщиков, покочевряжится для приличия и обратится к ней.
…К ак-то вечером пятницы, когда она на кухне замешивала блины, её домашние услышали счастливый смех. Им и закончились и чудесные именины, и приключения с новой квартирой. Разницу между мечтой и реальностью мы все понимаем, между желаниями и возможностями – признаём скрепя сердце. В этом наша слабость, но и наша сила. Да?
Почти тень
…Их взяли врасплох, оттого так и вышло – как кошмарный тягучий сон наяву, когда не можешь проснуться. Девушки слепо тыкались в белые враждебные стены, стараясь найти выход, но в последней комнате, куда они вбежали в панике, забыв про свои нечеловеческие умения, не было ни окон, ни дверей, ни даже самой ничтожной мебели, за которую мог уцепиться глаз, – ничего! Пол, стены, потолок… Их судьба – превратиться в это белое ничто.
Девушка, влетевшая в комнату первой, первая это и понимает, и наконец-то внутреннее сопротивление заставляет её действовать в безнадёжном для них положении.
– Я помогу и научу, как надо! – кричит вторая.
И по её голосу первая понимает, что та тоже пришла в себя и готова действовать по-своему. Лишь бы не помешать ей.
…Она бежала, отвлекая на себя попадавшихся людей, которые, как всегда, минуты опасности не знали, не чувствовали, а проснулись от шума. Много ли было толку в таком её действии – отвлекать от беды, – но ей казалось, что когда она бежит и кричит, что в голову приходит, то хоть немного превращается в тень или в ночной порывистый ветер, настолько тяжела надвинувшаяся беда…
…Девушкам удалось задуманное, но каждая принесла жертву: одна – жизнь, другая – умения, третья – юность, четвёртая – здоровье. У неё жертвы и не было: она стала тенью. Никто, даже свои, а тем более люди, не замечал её присутствия, не слышали её шёпота – с той поры она не говорила голосом, словно та ночь придавила её навсегда.
Впрочем, ей было и не до себя – её душой владели скорбь и боль. Она оплакивала подруг, знакомых, тех, кого совсем не знала, пока не пришла к месту поминания. То, что они не превратились в ничто, совсем не утешало и уж, конечно, не исцеляло. Так она и обреталась вокруг самодельного стихийно сложенного памятника, не замеченная никем, ходила без устали, впитывая в себя боль и скорбь, а иногда и отчаяние живых, но переживших и переживающих до сих пор военные тяготы, утраты, с тоской спрашивавших: