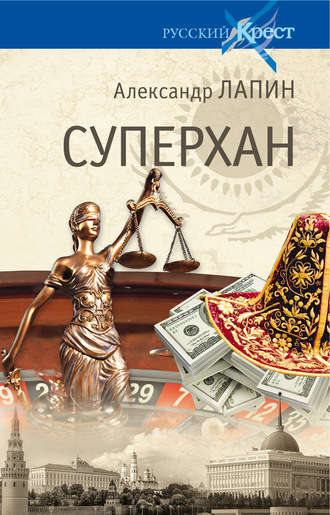
Полная версия
Суперхан
Самолет, словно птица, вздрогнул, опустил свой стальной нос-клюв и начал снижение к аэропорту.
* * *Когда их «боинг» катился к стеклянному, похожему на волну, зданию аэропорта, туман уже полностью рассеялся. Обнажились вечные, кое-где уже убеленные снегом, горы Алатау.
Круглые фуражки и такие же круглые лица пограничников не удивляли Дубравина. Процесс национализации в Казахстане прошел давным-давно. Хорошо, что хотя бы загранпаспорт для въезда в республику не требуется, достаточно российского.
Привычно хлопнула печать, и Александр оказался в зале прилетов, выглядывая в толпе знакомые лица.
IV
Про Александра Майснера можно было сказать, что это человек-оркестр. Не в плане веселости, музыкальности и артистичности, а в смысле родословной. Намешано в нем было немало «генофонда». Отец – советский детский писатель, еврей по национальности. Мать – русская, из Рязанской губернии. Сам он был женат на уйгурке, а дочери его жили в Канаде. В общем, полный интернационал.
Это и отметил Дубравин, когда увидел знакомое лицо: опущенный горбатый нос, высокий череп с залысинами и редеющими на макушке волосами, под крутым лбом угнездились припухшие, красные то ли от недосыпа, то ли от перепоя, глаза. Фигура Майснера напоминала шкаф с выпирающим животом.
Увидел Дубравина – обрадованно улыбнулся. Замахал рукою.
– Ну, ты и вымахал! – только и смог произнести Дубравин, высвобождаясь из крепких объятий.
– Марина! – представил Майснер свою спутницу, полненькую, небольшого роста, круглолицую, добродушную даму.
Почеломкались троекратно, по-русски.
Из-за спины шефа нарисовался чернявый водитель, Олег. Похоже, русскими в нем были только имя и фамилия. А так, с виду – широкоскулый, темноликий, с живыми черными глазами – вылитый азиат.
Свое дело Олег знал: быстро взял из рук Дубравина его черный кожаный дорожный кофр и зашагал впереди. Пока двигались к машине, оставленной на стоянке аэропорта, Майснер излагал свой план передвижения:
– Сейчас мы поедем к Айгерим. Это его старшая, можно сказать, законная байбише. Так положено! А потом уже двинемся на поминальный ас и в гостиницу.
Дубравин абсолютно не возражал и отдался на волю хозяина.
Белая «тойота» с желтым номером совместного предприятия выкатила с территории аэропорта и почему-то двинулась не в центр, в сторону Красногвардейского проспекта, ныне улицы Суюнбая, а вбок, как бы начиная объезжать Алма-Ату. Дубравин не удержался, спросил:
– Куда это мы?
– А! Ты же не знаешь! – ответил ему с переднего, хозяйского, сиденья Майснер. – У нас тут построили окружную дорогу. Если ехать по-старому через город, встанем в пробках и точно будем часа два толкаться. Утро ведь. А так объедем по кольцевой. И сверху проскочим «огородами» в самый центр.
Пришла очередь удивляться Дубравину. Первое, что он увидел, объезжая бывшую столицу Казахстана, была предгорная часть, застроенная огромными величественными, блестящими на солнце зданиями офисных центров.
Это было невероятно.
Дубравин, который сам в молодости был строителем, еще с советских времен знал, что строить высотные дома в предгорьях было категорически запрещено по двум причинам. Во-первых, Алма-Ата находится в сейсмической зоне. Во-вторых, город расположен в горной котловине и не продувается степными ветрами. И поэтому советские власти, чтобы не лишать его притока свежего горного воздуха, который спускается по ущельям, запрещали строительство у подножия. Теперь все табу отменены. И гигантские здания «закупорили» ущелья. Но похоже, это никого не волнует.
Соскользнув с кольцевой автодороги, японская машина нырнула на узенькие улочки еще сохранившихся пригородов. Это царство корявых бетонных заборов, побитого во многих местах асфальта и плодовых деревьев, высаженных прямо по улице. Преодолев и это пространство, они неожиданно оказались в квартале, еще с советских времен считавшемся элитным. Здесь все сохранилось в том же состоянии: пятиэтажные дома с огромными пятикомнатными квартирами, металлические ограды, специальные скрытые подъезды, через которые проходили и садились в персональные черные «Волги» номенклатурные работники. Все осталось на месте. Даже небольшие незаметные будки внутри дворов, где дежурили милиционеры. А вокруг и внутри этого чудо-квартала росла густая южная зелень: цвели клумбы, шумели деревья. Тут как осела, так и осталась жить элита.
В самом центре этого райского уголка стоял двухэтажный аккуратный особнячок. В нем когда-то доживал свои дни опальный, а ранее всемогущий, первый секретарь ЦК Компартии Казахстана Динмухамед Ахмедович Кунаев. Теперь он здесь не живет. Но памятник ему от благодарного казахского народа стоит. Хороший такой памятник: бюст трижды Героя Социалистического Труда.
Во дворе соседнего дома наблюдалось небольшое столпотворение из машин. Сегодня милиция никого не останавливала. Заезжали свободно. Потому что здесь были похороны.
Майснер местный. Знаком со всем и вся. Но и он слегка оробел, когда шел к подъезду и двери. Остановился, набрал номер телефона вдовы, выслушал объяснения. И наконец они с Дубравиным вошли в подъезд и поднялись на этаж. Двери квартиры Турекуловых были открыты, в доме полно народа. Постоянно кто-то входил и выходил.
Александр вгляделся в лицо сорокалетней женщины, чем-то неуловимо напоминавшей самого Амантая. И догадался: «Бог мой! Это же его дочка!»
Когда-то давным-давно в той, совсем другой, жизни они с Амантаем встречали Айгерим из роддома. И Дубравин запомнил маленькие сморщенные красные личики туго спеленутых и завернутых в одеяла младенцев. Одно одеяло розовое – для девочки. И голубое – для мальчика. И вот теперь сорокалетняя дочь Амантая встречала их на пороге.
– Мама ждала вас! – сказала она, провожая их в комнату, где сидели четыре женщины. Кто же из них она, красавица Айгерим? Навстречу Дубравину поднялась, опираясь на костыль, расплывшаяся, толстая байбише, вся в слезах, с красным распухшим лицом. Дубравина, который не видел ее с молодых лет, поразила эта перемена: «Неужели и мы так изменились?!» – подумал он, обнимая полное тело вдовы друга.
– Вот, прилетел, – сказал он всхлипывающей на плече женщине, – первым самолетом!
Они присели к столу, и Айгерим, утирая слезы платком, наверное, уже в который раз начала пересказывать историю случившегося. Дубравин уже ее слышал. Но не стал перебивать женщину. Потому что понимал: ей надо выговориться. Рассказать все. Если уж он почувствовал образовавшуюся в жизни огромную дыру, брешь, которую не закрыть никогда и никому, то что чувствовала она? Потерять все – саму жизнь, источник жизни, силу жизни! Как бы ни складывались их отношения, все равно она твердо знала, что Амантай – ее надежная опора.
Дубравин смотрел на ее красное толстое лицо, слушал ее всхлипы и понимал ее утрату. А она все говорила и говорила. А потом замолчала, вытерла слезы с лица и так неожиданно произнесла:
– Все вы, мужики, – предатели!
– Ты все ждешь, ждешь, что он уйдет к молодой. С ужасом ждешь. А он берет и умирает. И ты все равно остаешься одна. Никому не нужная…
– Ну, что ты, Айгерим! – только и смог сказать Шурка, потому что по существу возразить нечего. И перевел разговор в другую плоскость:
– Как это случилось? – спросил он, подразумевая, конечно же, не автомобильную катастрофу, о которой она только что говорила, а то, что происходило потом, в больнице после операции.
– Он был в сознании, как ни странно, – рассказывала Айгерим. – До самого конца. Я старалась быть рядом. Кроме травмы черепа, у него еще был раздроблен таз. Ему было трудно это осознать. Понять, что произошло. Все было так внезапно. Он просто не верил. Не хотел верить…
– Во что верить?
– В то, что умирает. Я старалась не говорить о смерти. И врачи… Хотя они понимали, что шансы на спасение невелики. Делали, что могли, но началось заражение крови… Ах, это было ужасно. Я пыталась поддержать его.
– А что потом? Потом, когда он понял? – выспрашивал Дубравин, который и сам уже начинал задумываться о вечных вопросах бытия. И страстно хотел понять, что чувствовал близкий ему человек при приближении к тому неизбежному, что ожидает каждого из нас.
– Он хрипел и кричал. Превозмогая боль. От гнева и возмущения. Кричал на меня. На врачей. Почему они не могут ему помочь? Ведь он им столько заплатил. Я так понимаю, что это был его протест. Да, так он протестовал и, можно сказать, негодовал на судьбу. Почему все остаются жить? А он должен умереть? Живут десятилетиями безнадежно больные, никому не нужные старики, алкоголики, бомжи. А он должен умереть! Это было самое трудное. Пережить все это. В какие-то моменты он негодовал на Аллаха. Мне казалось, что я сойду с ума от всего происходящего. Было очень тяжело, когда он винил всех окружающих. В том числе и меня. Хотя, Аллах видит, я всегда была ему верной женой… Несмотря ни на что…
Айгерим замолчала на минуту. Дубравин видел: ей хотелось высказать все претензии, которые накопились и у нее за долгие годы жизни. Но она, как восточная женщина, в конце концов подавила это желание и замолкла, как бы ушла в себя. Молчание затягивалось, и Шурка уже собрался было, как говорится в таких случаях, откланяться, чтобы ехать в гостиницу, но Айгерим все-таки решилась высказаться:
– Я бы с радостью отдала свою жизнь… Но только она ему не была нужна. Я это всегда чувствовала. С тех самых пор, как нас поженили тогда…
Дубравин и так знал, что друг не особо жаловал свою вторую половину. Свою байбише – старшую, как говорил по ее поводу сам Амантай. Так что лгать, утешая ее, ему не хотелось. Но он понимал, что она ждет от него чего-то.
– …А потом он понял, что впереди неизбежность. И стал просить Аллаха об отсрочке. Все бормотал: «Только не сейчас. У меня еще столько дел. Мне нужно совсем немного, чтобы успеть их доделать». Он говорил, что будет жить совсем по-другому. Успеет столько сделать для людей. Но силы уходили, он слабел на глазах. Я видела это, я чувствовала, как он уходил. Уходил куда-то. То проваливался в небытие, то приходил в себя. Не хотел больше никого видеть, вести какие-то разговоры. Он сожалел обо всем, что происходило плохого в нашей с ним жизни. Просил у меня прощения. И уходил все дальше и дальше. Я думаю, он готовился принять ее…
Дубравин не стал уточнять, кого готовился принять его самый близкий друг. И так понятно, что это была последняя женщина в его жизни – смерть.
– А потом он стал таким спокойным. Таким тихим. Как будто что-то понял. Приходила я. Приходили дети. Он смотрел на всех нас каким-то отстраненным, каким-то внутренним взглядом. В этот момент он жестами просил, чтобы мы молчали. Ничего не говорили. Как будто мы мешали ему разговаривать внутри себя с кем-то. Он позвал муллу… Того самого… И очень долго они о чем-то говорили. Наверное, о вечном. Я не знаю. И не спрашивала у муллы. Но в последнюю нашу встречу…
Дубравин смотрел за окно. Там на ветку с желтыми скрюченными листьями села неизвестно откуда взявшаяся серая птица. Смотрела круглым немигающим взглядом в окно. Качалась. А потом резко взмахнула крыльями. И с прогибающейся ветки, как с трамплина прыгун в воду, рванулась вверх, в небо…
– …В последние часы он будто что-то принял внутри себя. Успокоился. И лежал такой умиротворенный. Так все было…
В это время в дверях комнаты показалась дочка. Сказала, что приехали люди из мэрии.
– Пусть подождут! – с жесткостью, которой Дубравин не ожидал, сказала Айгерим.
Он встал, начал прощаться. И, обнимая расплывшееся тело байбише, неожиданно даже для себя самого сказал:
– Знаешь, он всегда любил тебя! Просто вы не поняли друг друга.
Она как-то недоверчиво отшатнулась. А он подумал: «Ничего я не соврал! Пусть это греет ее. Не могли же они прожить целую жизнь вместе не любя. Что-то все равно было. Только мы поздно понимаем».
У дверей она остановила его. И спросила:
– Люди говорят, что он оставил завещание. Но где оно, я не знаю. Может быть, ты, Саша, знаешь? Ведь ты был его самым близким другом. Он всегда говорил о тебе только хорошее.
Дубравин пожал широкими плечами. Он действительно никогда не слышал от Амантая ничего о завещании. Может быть, что-то и было. Но, по его ощущениям, Турекулов собирался жить вечно.
V
Они ехали по прямым, широким, обсаженным тополями проспектам Алма-Аты, и Дубравин никак не мог привыкнуть к новым названиям на стенах домов. Улицы были те же – Коммунистический, Фурманова, Горького, Комсомольская. А вот названия у них поменяли на другие. Он читал: Абылайхана, Назарбаева, Жибек Жолы, Толе би. И еще каких-то батыров, султанов и биев. Была библиотека имени Пушкина – стала Национальной… Для кого-то эти новые названия что-то значат. Для Дубравина – пустой звук.
В одном месте он увидел очертания знакомой по Москве буквы «М». Спросил у попутчиков:
– А это что?
– Это метро!
– Метро?! – удивлению Дубравина не было границ. Когда он уезжал из Алма-Аты, то о метро только говорили да ставили во дворах люки вентиляционных отверстий, похожие на вкопанные в землю железные бочки. А теперь вот метро. Надо же!
– Девять станций построили, – с гордостью заявил Майснер.
– Всего? – снова удивился Александр. – За тридцать лет?
– Ну, его то строили, то бросали. В зависимости от того, были деньги или нет. Да постоянно сажали начальников строительства за хищение денежных средств. Проще говоря, за то, что тырили бабки.
– Слушай, – Дубравин заметил на улицах какую-то странную пустоту, – ведь сейчас осень. Насколько я помню, в Алма-Ате всегда на улицах выставлялось огромное количество лотков. И с них торговали яблоками, овощами. А сейчас ничего этого нет. Что, неурожай?
– Что крестьяне, то и обезьяне! – вступила в разговор подруга Майснера Марина. – У нас Главный хозяин назначил мэром города молодого музыканта, сына своего дружка. Тот учился в Европе, долго там жил. Вот и решил сделать наш город «европейским». Разогнал всю уличную торговлю, порубил множество деревьев…
– А это зачем?
– Ну, они пригласили какого-то японского, что ли, архитектора, и тот им присоветовал: чтобы, мол, городская архитектура смотрелась лучше, надо вырубить деревья, и тогда здания будут выглядеть более выигрышно.
– Он что, идиот? – спросил Дубравин. – Ведь деревья летом дают тень. Здесь же жарища такая, что не вдохнуть! Тут же везде арыки были специально проложены, чтобы поливать деревья, чтобы прохлада была. Так задумано было…
– Что крестьяне, то и обезьяне! – загадочно повторила Марина. – Стараются изо всех сил быть похожими на Европу. Хотя какая тут Европа! Сплошная Азиопа!
– Надо обменять деньги! – вспомнил Дубравин. – А то у меня только рубли.
– Вот с этим у нас проблем нет, – ответил Майснер. – Обменников полно!
И обратился к Олегу:
– Вон там на углу причаль. Видишь огни? Там хороший обменный курс.
– И какой он у вас сейчас? – спросил на всякий случай Дубравин.
– Один к шести практически!
Дубравин присвистнул. Он помнил те времена, когда тенге был дороже рубля. То есть если рубль за эти годы падал стремительно, то казахстанская валюта летела вниз еще быстрее.
В обменнике на десяток своих красных пятитысячных купюр он получил целую пачку сиреневых – похожих на евро, но с азиатским колоритом.
* * *Новое, внушительное здание гостиницы «Гранд-Вояж» на углу улицы Курмангазы и проспекта Сейфуллина смотрелось монументально, солидно, по-европейски.
Внутрь вела вращающаяся дверь. На полу лежал ковер. Просторный холл украшал огромный аквариум с «золотыми рыбками», стильные кресла. Но был на всем этом налет какой-то азиатскости.
Дубравин не мог точно определить, в чем он состоял, этот едва уловимый налет. В тоне персонала? В каком-то домашнем разговоре между Мариной и девушкой- казашкой на ресепшен? В орнаменте ковра? Или в чем-то еще? Кто его знает!
Но то, что он существовал, – это Дубравин чувствовал точно.
Лифт блестел нержавеющим металлом, шел плавно, каждый этаж отмечал металлическим голосом. Вполне себе современный лифт. На этаже – пол из черного мрамора, электронный ключ, в номере все с иголочки: простыни белейшие, тончайшие, подушки пушистые, мягчайшие. Чисто, ничем не пахнет. Европа! Вот холодильника почему-то не было – странно. Дубравин кинул вещи и сразу отправился в душ. Там тоже все блестело металлом.
В общем, неплохо для Центральной Азии.
Но рассиживаться было некогда, потому что приехал он сюда не развлекаться, не удивляться всем тем изменениям, которые произошли. Он приехал на похороны.
* * *Вновь замелькали пригороды Алма-Аты. Дубравин видел стоящие вдоль дороги солидные, искусно украшенные здания, на которых горделиво красовались вывески: «Ресторан», «Банкетный зал». Их было так много, что по старой журналистской привычке Александр поинтересовался у сопровождающих:
– Слушайте, отчего у вас здесь такое огромное количество ресторанов и банкетных залов? Кто их заполняет? Неужели народ живет так богато, что может позволить себе гулять с утра до вечера? Я помню, в советское время здесь был всего один такой крупный ресторан. Назывался он «Алма-Ата». Располагался в центре города. И то народ заполнял его, только когда были свадьбы или юбилеи!
Сказав это, он вспомнил свадьбу Амантая, на которой впервые увидел национальные казахские обряды и обычаи… А Майснер не то чтобы усмехнулся, а даже как-то осклабился:
– Это не от богатства.
– Это бизнес по-казахски, – усмехнувшись, добавил Олег.
– Здесь той устраиваются. Торжества по-нашему. Свадьбы, похороны, праздники…
– А при чем здесь бизнес?
– Ну, как тебе объяснить… – вступила в разговор Марина, – ты, наверное, помнишь еще с советских времен такую присказку…
– Все казахи – родственники, – вставил свое слово Майснер.
Дубравин, конечно, знал, что все казахские роды, племена, землячества связаны между собой.
– Ну, так как все казахи родственники, то на этой базе они и проявили смекалку. В казахских обычаях принято собирать на какие-то торжественные события всех родственников, как говорится, до седьмого колена. А их у каждого набираются сотни. И по каждому торжественному случаю – будь то свадьба, поминки, обрезание, сватовство – нужно проводить той или ас.
– Да, я помню в первом томе романа Мухтара Ауэзова «Путь Абая», в начале, подробно описан ас Божея. – проявил осведомленность Шурка.
– Во-во! Ас! Той! Короче, большая, если не сказать, грандиозная пирушка…
– Обжираловка, – поддакнула спутница.
– В общем, на каждое такое сборище приглашенный должен принести подарок. Сейчас чаще всего это просто деньги. Вот находчивые люди и смекнули. Если пригласить, скажем, пятьсот человек, и они принесут в подарок по две тысячи (на ваши деньги), это будет уже миллион, который покроет все расходы. И еще останется прибыль. Дальше – больше. Нашлись ловкачи, которые превратили эти народные гуляния в бизнес. Они берут, скажем, кредит в миллион. Заказывают баурсаки, самсу, плов, казы, мясо по-казахски. Приглашают родственников. Те приносят по две-четыре тысячи. И получается в остатке сто процентов прибыли. То есть остается еще миллион.
– И пошла писать губерния?! – понимающе подхватил Дубравин.
– Ну да! И это приняло такие гигантские масштабы, что вокруг городов поднялись все эти огромные банкетные залы.
А пока японский автомобиль нес их на окраину Алма-Аты, Дубравин все изумлялся произошедшим с его любимым городом переменам, и не всегда они его радовали.
«В чем-то он сильно деградировал, – опытным взглядом замечал Александр, – арыки не чищены. И в них нет воды, которая раньше давала городу прохладу, а деревьям – драгоценную влагу. Сами деревья на улицах выглядят неряшливо – не подстрижены, и видно, что давно не белены. На улицах у пустых арыков сидят какие-то странные люди в поношенных одеждах».
И снова спросил Дубравин у своих попутчиков:
– Кто это? Откуда такие странные черно-копченые лица?
– Это оралманы! – пояснила Марина. – Переселенцы из Монголии и Китая. Главный хозяин пригласил их, чтобы компенсировать численность населения, потому что многие покидают страну. Вот приехали эти, полудикие. Местные казахи-то цивилизованные, чистенькие. А эти – как видишь. Они сидят на обочинах, ждут, чтобы кто-то нанял их на работу.
«Значит, Казахстан так и продолжает подпитываться мигрантами, – подумал Дубравин. – Это сколько их, красавцев, теперь!»
Словно угадав его мысли, Марина добавила:
– Почти миллион их въехал.
Машина теперь двигалась по бывшей улице Дзержинского, где когда-то в серо-стальных зданиях располагался республиканский КГБ. В годы студенческой юности тут допрашивали Дубравина и его друзей по поводу нежелательных контактов с иностранцами. Что было – то было…
Но теперь на входе в бывший КГБ висела вывеска, что здесь располагается какая-то картинная галерея.
– А на соседней улице, – пояснил Майснер, – там, где раньше были камеры внутренней тюрьмы КГБ, после девяносто первого открыли музей репрессий. Потом и музей выгнали. И там теперь тюремный блок местного Комитета национальной безопасности.
– Все вернулось на круги своя! – меланхолично произнес Александр, на которого нахлынули воспоминания юности…
– Корейский театр, – отмечает Марина, – теперь не корейский. В его здании располагается уйгурский театр.
Из окна машины было видно, что русские лица на улицах встречаются редко-редко.
«Как будто они попрятались, – думал Дубравин. – А ведь наверняка их еще много. Город-то сначала развивался как военный опорный пункт, а дальше – как культурный и административный форпост российско-советской империи. Теперь же он очень сильно стал похож на южные города Казахстана. На Чимкент, Кзыл-Орду, Джамбул… Н-да! Обветшала Алма-Ата, однако. Я бы сказал даже: обазиатилась!»
С этой мыслью он снова обратился к спутникам.
– Да, с одной стороны, потерял «Отец яблок» свой колорит. С другой – ему усиленно прописывают европейские нормы, – подтвердил Майснер. – В центре разместили прогулочную зону, такой длиннющий променад, и обсадили экзотическими деревьями, которые привезли бог знает откуда. И знаешь, по какой цене обошлось каждое дерево?
– И не предполагаю даже!
– Пять тысяч евро штука!
– Да ну! Они что, охренели совсем?
– Это все – чтобы понравиться Папе.
– Кому?
– Ну, тому, кого у нас все зовут Папой. Ему этот променад показывали и приговаривали: «Вот у нас – как в Париже!»
– Точно, как в Париже! – заметил Дубравин. – Только дома пониже и асфальт пожиже.
Ему было обидно за то, что город, который всегда имел собственное неповторимое лицо, новые хозяева теперь превращают в чью-то плохую копию…
Замелькали слева здания студенческого городка КазГУграда. И хотя теперь его отделанные розовым ракушечником здания частично закрывали расположенные вдоль проспекта небоскребы из стали, бетона и стекла, все равно студенческая альма-матер Дубравина смотрелась живописно и здорово. Когда-то, пол столетия назад, там росли огромные яблоневые сады. Но сорок лет назад их вырубили и начали строить студенческий городок. Стройка велась хозспособом, так что Дубравин и его друзья тоже приложили руку к строительству общежитий, в которых и сами обитали некоторое время.
Слева, на знакомом предгорном холме, Дубравин увидел еще одно знаковое сооружение – трамплин для прыжков на лыжах. «Боже мой! А ведь я когда-то здесь учился кататься на лыжах. Сам. По купленной в Москве брошюре. И научился. Да, славное было время!»
С этим катанием у него была связана целая история… Впрочем, здесь, в Алма-Ате, у него куда ни кинь – везде история жизни. Что-то с чем-то связано. Здесь он работал на стройке. Тут учился. Там у него жила девушка. Как говорится, каждый камешек напоминал ему о прошлом. О молодости. О друзьях. О любви.
* * *А Александр Майснер продолжал рассказ для гостя:
– А вон, на новой площади – видишь? Памятник событиям декабря тысяча девятьсот восемьдесят шестого года. Во-он он! Арка! На монументе – солдаты, овчарки…
Память послушно развернула тот день, когда горели на площади пожарные машины и хвойные деревья, раздавались крики, и толпы очень похожих молодых студентов и студенток, словно волны, сталкивались с идущими на них солдатскими и милицейскими цепями. А ему, только начавшему работать в молодежной газете корреспонденту, надо было выбирать, где он, на чьей стороне…
Он выбрал и не ошибся. Здесь теперь другая жизнь, и в этой жизни, ясное дело, ему бы места не было.
Разговор снова зашел о прошлом, о людях, которые остались. И Майснер заметил:
– Остаются такие, как мы, которые прожили здесь жизнь. Вросли в нее, в Алма-Ату. Нам уж, как говорится, здесь и доживать. А молодежь русскоязычная разъехалась. Вот у меня: одна дочка уехала в Норвегию, вышла замуж. Другая устраивается в Канаде, получила вид на жительство. Сын вот еще учится в гимназии. Надо его поднимать. Но жмем в основном на язык. Чтобы тоже мог учиться где-то на Западе или в Израиле и там остаться.









