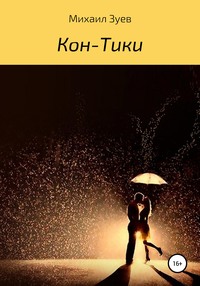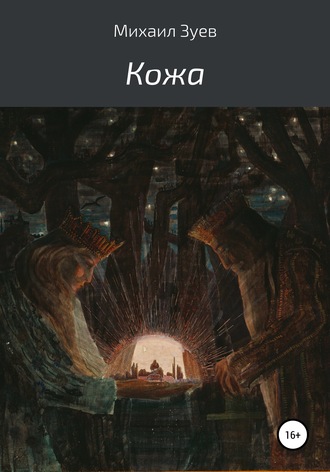 полная версия
полная версияКожа

I. [ПЫЛЬ]
Пыль. Весна. Тогда. Восьмидесятый. Плющиха. Гроза. Промок.
Коммуналка. Коридорище. Берлога. Пипл. Портвейн. «Дымок». «Столичная». «Роллинги». Темнеет.
– Здаров! Мишка.
– Прива! Ёлка.
– Врешь!
– Ольга…
Рано. Сыро. Зябко. Звезды. Плющиха. Дверь. Пятак. Метро.
– Пока!
Телефон. Обрывок. Карандаш.
– В пять!
Арбат. Коммуналка. Коридорище. Обитель.
– Квас?
– Давай!
Армянский. КВВК. Жарко. Окно. Подоконник. Карниз. Голуби. «Мальборо».
Простыня. Рано. Сыро. Зябко. Звезды.
– Завтра?
– Нет.
– Почему?
– Пишусь.
– Что?
– На студии!
– Ну-у-у!
– Ага …
– Послушаем?
– Железно!
– Эллочка.
– Идьёт!
Неделя. Неделя. Неделя. Один. Устал.
– Аллё!
– Ну?
– Слушаем!
– Когда?!
– Завтра!
Завтра. Облом. Обман.
– Идьётка!..
– Пш-ш-шёл!
Иду.
Теперь. Весна. Десятый.
Сон.
– Здравствуй!
Гугл? Пусто. Яндекс?.. Нет. Торренты? Архивы?.. Есть! Download.
Знобит.
Небо. Синь. Шоссе. Кабриолет. Play! И?..
Пыль.
II. [ТАМАГОЧИ]
А он всегда был такой, немного медленный. Не потому, что глупый, а потому что – добрый.
Он, когда еще не родился, у него уже были мать, отец, бабушка и старший брат; они в малосемейке жили. Мать пошла в профком, спросить про очередь на квартиру. Говорят – у вас шансов мало, потому что вас трое: вы, муж и сын, а мать ваша не в счет. Вот если бы детей было двое, тогда, конечно же, ну а как же, когда четверо, так тут и очередь другая, особая, и иждивенца, мать вашу, тогда тоже учесть можно, а так вот – как сейчас – так никак.
Ну, вот он и родился. Они в профкоме не врали – ему еще и полугода не было, а квартиру дали. Обычных тогда не было, дали особую, на четвертом, последнем этаже, четырехкомнатную, да с такой планировкой: как зайдете, так налево две комнаты, туалет и ванная, направо – кухня, а прямо тоже две комнаты. Эти две между собой через дверь смежные, а еще у каждой по двери в коридор. И такое кольцо из комнат получается, а если все двери открыть, очень светло и просторно сразу становится.
Бабушка сказала – старший уже в школу пошел, а младшего я в сад-то не отдам, мне скучно будет. Так он дома остался, прямо до школы. Бабушка старая совсем уже была, немощная, вот как он в школу пошел, так ее и не стало. Ему тогда ее комнату выделили целиком. Он там за столом сидеть любил. Не уроки делать, нет, уроки-то он как раз не любил. А вот модели клеить – корабли там всякие, самолеты – это любил. В комнате ацетоном сильно пахнет, это от клея, а он сидит, клеит их, так аккуратно-аккуратно, красиво-красиво, а потом на длинные лески к потолку подвешивает. Зайдешь к нему в комнату, а там никакая не комната, а музей настоящий.
Когда в школу его отдавали, школа-то на соседней улице была. Но тут мать сходила туда, обратно пришла, отцу говорит – не отдам его туда, там совсем для дураков, и грязно, и сквозняки в коридорах. Тогда отдали его в другую, где старший раньше учился, там педагоги сильные, и школа на весь район лучшая, а, может, и на весь-весь город.
Учился он ни хорошо, ни плохо. Учителя его потом просто замечать перестали. В середине восьмого класса мать в больницу надолго попала, на химиотерапию. А он, как без матери остался, стал ходить без шарфа и шапки. Простудился, всю третью четверть пропустил. Отца в школу вызвали, говорят – не можем его в девятый перевести, не успевает, забирайте, решайте, куда потом. Отец у начальника цеха своего спросил, тот говорит – так давай в наш заводской техникум. У нас и школу закончит, и профессию получит, и стипендии у нас две – одна как у всех, а вторая от завода, это для тех, кто успехи показывает.
Он в техникуме учился лучше, чем в школе. Ему там интереснее было. Веселее, что ли. А, может, повзрослел – по дому все делать приходилось. Мать в больнице, старший брат на работе пропадает с утра до вечера, как и отец. Оба приходят по вечерам усталые, чуть ли не с ног валятся. Вот он и хозяйничал. Убирал, стирал, готовил, в магазин ходил. И слова им грубого не сказал.
А мать на год дольше отца прожила. Отец буквально весной, прямо на работе. Он машинистом козлового крана был. Глядь – а кран встал. Залезли на верхотуру, а он и не дышит, только глаза открыты и рука на ручке.
Старший женился, переехал, сначала за две улицы, а потом и вовсе в другой город. У жены там вся семья, тесть старшему сказал: приезжай, я тебя устрою как надо, не то, что в этом твоем цеху дурацком.
Тут, в конце второго курса, у него производственная практика была. Он на фрезерном станке работал. Станок встал. Он табличку повесил – «не включать, работают люди!» – обесточил станок, полез разбираться. Какая сволочь рубильник включила, потом искали, не нашли. А, может, и не искали.
Токарно-фрезерный участок был рядом со столовой. Поэтому успели, за льдом побежали, за пакетом целлофановым. Отрезанную фрезой кисть правой в мешок, да в лед, да жгут на предплечье. Скорая быстро приехала, в хирургию заводской больницы отвезли. А они там говорят – а мы-то что можем, это в область надо. Повезли в область, сто сорок километров это. Ночью уже привезли, на стол взяли, пришили обратно. Хирурги морщились нехорошо – вот если бы по предплечью, там бы легче, а так прямо же по лучезапястному, да еще и косо, да еще и с выломанными фрагментами, вот как теперь, а кто знает – да никто.
Он полгода в области лежал. Мать не дождалась. Он на похороны съездил, потом вернулся. Два раза отъезжала кисть, два раза пришивали, а с каждым разом все хуже и хуже – какие там движения, сплошной отек и свищи. Третьего раза не было. Отняли кисть. Правую. А ему девятнадцать.
Он домой вернулся, все бумаги на инвалидность оформил. Пришел домой к нему директор техникума, говорит, собирайся, доучиваться будешь, это ничего что так, вторая-то у тебя на месте, да и черт бы с ней, что левая, все равно научишься всему, и не хуже тех, кто с двумя.
Он в техникуме восстановился, в новую группу пришел, а там она. Они сразу стали ходить, за руки держась. Он справа, она слева – потому, что иначе никак. Она скоро к нему переехала. Квартира большая, четыре комнаты, и нет там никого. Когда тепло было, они по вечерам на подоконник любили садиться, курить и пить кофе. Ей нравилось в одной руке держать свою сигарету, в другой его. И ему тоже нравилось.
Они потом поссорились, она расплакалась и убежала. А он все ходил по этим своим комнатам двум смежным с коридором – кругами ходил, все против часовой. Будто хотел, чтобы время назад пошло, и вернулась она.
Неделю ее не было. Вернулась. Они хорошо жили, душа в душу. Она уже на втором месяце была, а он что-то ей сказал, а она сказала, а он сказал, а она тоже сказала… И ушла. Он через неделю к ее родителям пошел, а они его на порог не пустили. Говорят, она тебя видеть не хочет. Он говорит – ну почему, я же пришел. А тут она вылетает на лестничную клетку, вся злая, красная, чужая, а за ней мать ее лыбится зло, ну вот она и говорит – да ты урод безрукий, нужен ты мне! И вообще – я аборт сделала.
Он домой пришел. Спать не может. Сидеть не может. Лежать не может. Ничего не может. Пить начал. А пить-то не умел. Выпьет рюмку-другую, и все кругами через пустые комнаты ходит. Потом посмотрит – а в бутылке еще много. Допьет все и на пол падает.
Так недели две было. Он уже и утро с вечером стал путать. Как-то в сумерках, видит, она на подоконнике сидит. Он ее окликает, она не оборачивается. Он к ней, а она долой. Он за ней. В окно и вышел.
Всегда был такой. Немного медленный.
III. [МАРИНА]
Коротко и противоречиво. Коротко, как ее дыхание. И противоречиво, как она.
«М». Тягучее. Обволакивающее. Невозможно нежное.
Первое «А». Открытое, солнечное. Так хочется кричать в голос от радости. От того, что она есть.
«Р». Похоже на грациозное рычание большой красивой кошки, на дрожь в моих коленках, на вибрацию далекого шторма.
«И». Как плач ребенка, как беззастенчивость, как позывные неведомой радиостанции.
«Н». Серое, матовое, бездонное. Протяжное. Как ее глаза.
Последнее «А». Вечность, незавершенность. Не оставляющая путника надежда.
Марина – острое, опасное, влекущее.
Марине идут платья – длинные, тонкие, развевающиеся. Светлые, легкие, небесно-бирюзовые; красные, желтые, фиолетовые; с поясом и без, с рукавами, с оборочками. Всевозможные.
Марина не носит платьев. Марина вросла в джинсы. Хотя ей будут коротки самые длинные из них.
Если Марина остановится, поднимет голову и посмотрит на солнце, она улыбнется. Но Марина не останавливается. И Марина не улыбается. Она всегда в движении, она вся на бегу. Она убийственно серьезна.
У Марины есть часы. Точеные, швейцарские. Темный титановый браслет облегает ее тонкое запястье, которое способны обхватить пальцы пятилетнего ребенка.
Но Марине не нужны часы. Она не смотрит на них. Она всегда опаздывает. Ее всегда ждут. Так устроен мир. Ведь если не ждать Марину, тогда зачем всё это?
Когда в лицо дует теплый сентябрьский ветер, Марина расправляет плечи. Марина перестает сутулиться. Марина проводит рукой по лицу и отгоняет непослушные тонкие белые пряди с высокого лба. Марина морщит нос. Марина становится похожей на несмышленую семилетнюю девчонку.
И тогда Марина замечает меня.
Марина сидит за столом, выставив тонкие острые локти. Марина что-то пишет угловатым колючим почерком. Марина морщит лоб; Марина перебирает пальцами по многограннику шариковой ручки. Марина творит. Я могу безнаказанно любоваться ею.
А в перерыве между парами Марина хочет курить. Она смотрит на меня. Мне холодно; я достаю пачку, я щелкаю зажигалкой, я обжигаю пальцы маленьким пляшущим язычком. Но она уже далеко, и ей не нужны мои сигареты.
Если Марина наденет шпильки, это будет равнозначно концу света. Но она об этом не знает. Поэтому она исполняет грациозный танец своей походки в белых пружинистых кроссовках.
Марина строга. Марина добра. Марина справедлива. Марина наивна. Марина часто смотрит на мир поверх тонкой легкой оправы своих тяжелых очков. Марина протирает очки замшевым квадратиком. Марина массирует усталые темные веки.
Марина нервничает. Марина капризничает. Марина недовольна всеми. Марина снисходительна.
Марина любит холодное шампанское и горький шоколад. Хоть иногда она может отведать горечи. Марина подарила мне книгу. И она написала несколько слов внутри.
Все говорят, что я дурак. Неправда: у нас всё будет хорошо. Я в этом уверен.
Всё обязательно будет хорошо. Вчера Марина сказала, что не любит меня.
IV. [СТРАННИК]
Человек пришел в город ранней весной, когда утром лужи блестели последним льдом, когда несмело прочищали осипшие от зимы глотки птицы, когда солнце пробовало себя, все дольше и дольше задерживаясь в зените.
Человек был не стар и не молод, не высок и не низок. Человек пересек по диагонали ратушную площадь, остановился возле замшелой стены старого готического особняка, поднял голову и стал смотреть в небо.
Вокруг него текла, вернее – обтекала его суета обычного, такого же, как и много месяцев назад (и много месяцев спустя), обыкновенного утра. Сновали молочники и зеленщики, служанки подметали подолами длиннющих складчатых юбок мостовые, мальчишки крутили хвосты облезлым кошкам и гоняли пятнистых голубей.
Никому не было дела до человека. Он просто смотрел в небо, а город не обращал внимания на него. Однако – что-то изменилось в городе; и не сразу стало понятно, что же именно. Просто в том месте неба, куда был направлен взор человека, спустя какое-то время, образовалась прогалина абсолютно чистого и совсем голубого неба.
Впрочем, городу не было дела до неба. А человеку – до города.
Настало время полудня, и не было видно на улицах человека. Впрочем, когда пришло время раннего вечера, говорят, видели его в тот день на берегу старой неспешной реки, невдалеке от самого красивого моста – там, где цветут кувшинки и водяные лилии. Но не было цветов, потому что еще далеко оставалось до лета, а просто – сидел на берегу человек, о чем-то думал, подкармливал рыбу хлебными крошками, и смотрел в самое сердце начинающегося заката.
На следующий день видели человека на главной улице города, где снял он себе лавку. Даже не лавку, лавчонку какую-то – с грязными подслеповатыми оконцами, с покосившимися покрытыми толстым слоем пыли стеллажами, с неровным земляным полом. Но это не расстраивало человека – он сбросил камзол, засучил рукава белой кружевной рубашки, и к вечеру лавка стала совсем другой – чистой и уютной. Около пяти пополудни прохожие удивленно рассматривали стоящего на высокой стремянке человека, прилаживавшего над свежевымытыми окнами вывеску «Лавка чудес».
Маленькая девочка, дождавшаяся, когда вывеска будет прилажена, а стремянка убрана в чулан, стала первой покупательницей лавки чудес. Всего за несколько монеток получила она прекрасную куклу с золотыми волосами, и немедленно утащила домой. Следующей ночью кукла светилась золотым светом; а мелких монет в девочкином ридикюльчике почему-то стало больше, чем до появления куклы. Наутро девочка пошла в школу, забыв на столе очки, и, скажем, забегая вперед, никогда больше они ей не понадобились.
Прохожие несмело, по одному, заходили в непонятную лавку – ведь какие такие могут быть на свете чудеса? – и правда, каждый знает, чудес на свете не бывает. Только каждый, по одному, крадучись, выходили спустя время из лавки, и шли себе неспешно по главной улице, загребая уличную пыль носками широких грубых ботинок, и улыбались, а иногда – о, чудо! – смотрели ввысь, где было все больше и больше прогалин абсолютно чистого и совсем голубого неба.
Юноши повадились ранним утром брать в лавке цветы для своих возлюбленных – те цветы, что не вяли неделями, что источали аромат, и от чего девичьи взгляды становились светлыми и глубокими.
Старики носили из лавки особый табак для своих древних насквозь прокуренных трубок, что давал особые облака дыма – в которых прошедшая жизнь отражалась, как в зеркале, и была видна только им одним; и не было в той жизни боли, сожаления и раздражения.
А человек? Человек стоял за прилавком и для каждого находил особый товар и особые слова, и особую улыбку. Открыта лавка была с раннего утра и до раннего утра; и не было понятно, когда же человек спит, и откуда товар берет, и даже как его зовут, никто не знал – в голову не пришло поинтересоваться.
В зените лета человек потчевал своих посетителей каким-то странным прохладным вином – немного с горчинкой, когда пьешь, но потом такая легкая сладость остается на языке и прохладных губах, и хочется жить, и совсем не болит голова.
Когда же настала пора сбора урожая, человек поставил на улице несколько столиков – и можно было после трудного дня посидеть на плетеных стульях странной конструкции и испробовать особого кофе, от него улетучивается дневная усталость, и утраиваются силы, и день кажется тягучим и чудесно бесконечным.
Плачущей осенью человек вышел на улицу, притворил тихо дверцы своей лавки и, не кутаясь в длинный плащ – напротив, обдуваемый всеми неуютными ветрами, бросил прощальный взгляд на город, на главную улицу, на ратушную площадь – и ушел из города прочь.
Никто особенно не вспоминал человека – разве что девочка, обнимавшая куклу с золотыми волосами; разве что влюбленные юноши, что были счастливы; разве что старики, в чьей жизни не было больше боли, сожаления и раздражения.
Только каждое утро в одном месте, среди низких грязных туч, оставалась прогалина абсолютно чистого и совсем голубого неба.
V. [БАССЕЙН]
Было около четырех, и уже почти стемнело, когда он вышел из «Ленинки», поежился, нервно передернул плечами и остановился подле исполинской колонны. Сзади мягко постукивала гулкая дверь. По бокам гулял пронзительный ветер, то и дело кидая в лицо пригоршни обжигающей белой крупы. Впереди мягким желтым светом загорались стройные фонари. Он, было, надел перчатки, но потом – передумал, засунул их в вырез воротника длинного, до пят, пальто; забросил плоскую сумку за спину, едва слышно вздохнул – и пошел в сторону Суворовского бульвара.
Падавший снег был обилен, мягок и чист. И словно периной укрывал он еще утром черный и грязный асфальт. Ботинки на мягком ходу совсем не скользили, а от самого ощущения плавного движения он чувствовал себя веселее.
В подземном переходе возле «Арбатской» было светло и шумно. Кто-то продавал котят; кто-то просил милостыню; кто-то выводил мелодичные пассы на флейте. Услышав, он подошел поближе, постоял несколько минут в нерешительности, потом тряхнул головой и – пошел прочь.
Из подъезда Дома Журналистов выкатилась шумная ватага деятелей – в дубленках нараспашку, в цветастых мохеровых шарфах, в норковых шапках – сопровождаемая стойким запахом коньяка и хорошего трубочного табака. Он несколько секунд помедлил, пока деятели пересекали тротуар и забивались в чрево белого небольшого автобусика, полюбовался на облачко пара, выброшенное выхлопной трубой автомобиля, и пошел дальше.
Из неплотно прикрытой двери забегаловки сотней метров спустя тянуло домашним борщом, или, может быть, солянкой – кто бы знал. Но запах был влекущим – вкусным и вполне наваристым. Он опять помедлил возле этой невзрачной двери, но тут чувство голода куда-то скрылось, и ему не оставалось ничего другого как идти дальше.
Дождавшись зеленого, он перешел от Кинотеатра Повторного Фильма к серой громаде ТАСС; потом, свернув под девяносто градусов, ускорил шаг и быстро, по диагонали, пересек раскатанную машинами мостовую Тверского. Возле памятника Тимирязеву, усиженному грязными городскими голубями, он остановился, вгляделся в надпись, в досаде махнул рукой – и пошел, ускоряя шаг, вверх по ленте бульвара.
Снега прибыло, он поскрипывал. Но – не скользилось. Лишь в одном месте, там, где блестела недлинная щербатая ледяная дорожка, он разбежался и прочертил прямую линию по замерзшему зеркалу.
Спустя три лавочки он заметил впереди неясную фигуру в коричневой дубленке и красивой вязаной шапочке. Собственно, его внимание привлекла не сама фигура, а именно шапочка – потому что была она какой-то невероятной конструкции; необычной, но, в то же время, очень элегантной.
Когда еще через пять лавочек он все же догнал ее, и когда они уже почти поравнялись, что-то произошло – каблук его правого ботинка внезапно поехал вперед, левая нога оказалась в воздухе, правая последовала за ней, и он молча повалился влево, прямо на фигуру в невероятной шапочке.
Она от неожиданности отскочила в сторону, едва не последовав его примеру, но все удержалась – и лишь ее сумочка вылетела из рук, описала дугу в воздухе и шлепнулась на заснеженный газон.
– Дурак! – тихо выдохнула она.
– Согласен, – буркнул он, поднимаясь с земли вместе с ее белой глянцевой сумочкой.
– Сюда давай, – уже помягче, но так же недовольно добавила она.
– На, – сказал он, протягивая ей сумочку, – возьми.
Он почему-то сразу назвал ее на «ты». А она почему-то не усмотрела в этом ничего странного.
Они пошли рядом, демонстративно не глядя друг на друга; вместо этого разглядывая нарядно освещенную елку в начале бульвара, сверкавшую гирляндами и шелестевшую бумажными игрушками.
– Не ушибся? – спросила она и в первый раз повернула к нему лицо.
– Нет, не ушибся – уже ласковее отозвался на колокольчик ее голоса он.
– А зря, – опять глядя в пространство перед собой, сказала она.
У перехода на Горького в сторону «Академкниги» они, не сговариваясь, остановились. Она изучала елку, он – носки ее сапог. Скопившийся на переходе народ двинулся, обтекая их. Наконец, он вздрогнул, вышел из оцепенения и сказал:
– Пошли.
Она промолчала, но двинулась за ним следом, и лишь на другой стороне бульвара спросила:
– Куда?
– В бассейн, – ответил он, разглядывая ее точеный профиль и пульсирующую под тонкой кожей виска синюю жилку.
– У меня нет билета, – сказала она, продолжая идти рядом.
– У меня два, – отозвался он минуту спустя.
– У меня нет купальника, – вроде бы возразила она.
– Нет – значит, будет, – объяснил он и, снова разглядывая ее профиль, добавил:
– Есть хочешь?
– Хочу, – внезапно смутилась она, опуская взгляд.
В кулинарии напротив «Минска» было жарко. Он взял два эклера, дождался, пока девушка за стойкой сварит два больших кофе по-московски, подхватил поднос и протиснулся сквозь очередь к высокому столику.
Она расстегнула дубленку, сняла шапочку, рассыпав золотистые кудри по узким плечам, озорно поглядела на него и, слегка щурясь от яркого света, с легким придыханием отпила горячего кофе. Он смотрел то на нее, то в свою чашку, и ждал – хоть слова, хоть полуслова, хоть междометия.
А она молчала.
– Ты свой эклер будешь? – спросила она.
– Нет, – ответил он.
– Тогда давай его сюда.
– Возьми.
Белый крем испачкал ее губы, и она долго возилась – сначала, вытирая их кружевным платочком, а потом – подкрашивая толстым тюбиком темно-красной помады.
– Нам нужен купальник, – сказал он, подойдя к прилавку магазина «Спорт».
– Какой – бикини или закрытый? – поинтересовалась продавщица.
– Какой? – переспросил он.
– Бикини! – озорно стрельнула глазами она, перекладывая из руки в руку белую глянцевую сумочку.
– Можно, я возьму тебя под руку? – спросила она на улице.
– Валяй, – согласился он.
Она едва доставала ему до плеча. А тонкая ее рука была такой теплой, что тепло ощущалось даже через толстый драп модного пальто.
– Ты где был? – спросила она.
– В библиотеке, – ответил он.
– И что ты там делал? – в ее голосе явно проскользнула улыбка.
– Книги читал, – ответил он, тоже улыбнувшись.
Миновав площадь Белорусского вокзала, они вышли на бульвар Ленинградки.
– Ты странный, – сказала она.
– Ну и что? – не то спросил, не то огорчился он.
– Ничего, – обиделась она.
– Прости, – понял свою бестактность он.
– Прощаю, – была великодушна она.
Ц. С. К. А. Огромные, в два человеческих роста, объемные буквы выросли прямо из земли.
– Нам сюда, – сказал он.
– Купальник давай! – ответила она.
Он вышел на бортик, посмотрел на колышущуюся кристально чистую голубую – а, может быть, зеленоватую, воду – и остановился.
Она выпорхнула из раздевалки на другой стороне бассейна. Копна золота, небесно-голубое бикини, немного загара на бедрах – и тонкие-тонкие, длинные-длинные, нежные-нежные пальцы.
– Прыгай, – негромко позвала она, и голос ее, столкнувшись со стенами, потолком и медленно колышущейся водой, заиграл нервными осколками – как блики отраженного света.
– Я иду, – ответил на ее зов он, и сильным сальто назад ввернул свое тело в воду.
– Тебе хорошо? – спросил он, когда она, обдав бортик бассейна веером брызг, упала в воду рядом с ним.
– Не знаю, – коснулась его лица взглядом цвета бикини она.
Когда она вышла из раздевалки, он сделал ей шаг навстречу, и сказал:
– У тебя же совсем мокрая голова.
– У меня нет полотенца, – почему-то потупилась она.
– У меня есть, – сказал он и осторожно стал вытирать ее чудные золотые волосы.
Возле метро «Аэропорт» они остановились. Он ощутил ее дыхание на своей щеке.
– У меня муж, – сказала она, глядя поверх его плеча.
– А у меня никого, – ответил он.
Не глядя ей вслед, он развернулся, и медленно перешел на бульвар.
Он подошел к маленькому снеговику, открыл пакет, достал еще теплый купальник, приладил его на снежную фигурку, и через минуту монотонно двинулся по бульвару – пока его высокая фигура с опущенными плечами не скрылась из вида.
VI. [СНЕЖОК]
Я сидел в машине. Я сидел лицом вполоборота к дороге.
Это было там, под мостом. Под тем самым мостом, где гудят и присвистывают шальные электрички, где разворачиваются на кругу медлительные толстые троллейбусы, где снег скрипит под ногами торопливых прохожих.