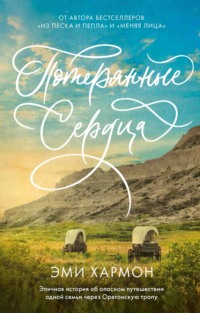Полная версия
О чем знает ветер

Эми Хармон
О чем знает ветер
Посвящается моей прапрабабушке
Энн Галлахер Смит
Так смелее, отряд сказителей, ловчие слов!Хроникёрам – оглядка; вдохновенным – удержу нет,Ибо поднят сюжет на крыло, точно вальдшнеп.Ибо – корка, под литерами копыт искрошенная, — твердь нам в очи пылит,Мы же млечною поземью мчимся — дальше, дальше…[1]У. Б. ЙейтсОригинальное название: What the Wind Knows
Text Copyright © 2019 by Amy Harmon
This edition is made possible under a license arrangement originating with Amazon Publishing, www.apub.com,
in collaboration with Synopsis Literary Agency.
Cover design by Faceout Studio, Lindy Martin (7БЦ)
Фото использовано с разрешения Stocksy, автор изображения PAFF:
https://www.stocksy.com/607189/beautiful-girl-sitting-alone-on-jetty (КБС)
ООО «Клевер-Медиа-Групп», 2020
Пролог
Ноябрь 1976 г.– ДЕДУШКА, РАССКАЖИ о своей маме.
Он молчал достаточно долго – молчал и гладил меня по темечку. Я даже подумала, он не расслышал.
– Моя мама была очень красивая. Волосы темные, глаза зеленые – совсем как у тебя.
– Ты по ней тоскуешь?
Две слезинки скатились, смочив дедушкину рубашку, – я ощутила сырость щекой. Сама я невыносимо тосковала по маме.
– Уже нет, – признался дедушка.
– Как же так?
Я вдруг рассердилась. Обязан человек тосковать по родной матери, обязан – и точка! Не тоскует – значит, предает.
– А это потому, что мама всегда со мной, Энни, – объяснил дедушка.
Я заплакала.
– Тише, тише, девочка. Не надо плакать. Когда плачешь, ушки хуже слышат.
– А что им слушать? – Я всхлипнула, забыв, что сержусь.
– Песню ветра, Энни.
Я затаила дыхание. Я даже голову наклонила. Дедушка слышит – значит, и мне нужно.
– И где она, эта песня? Где?
– Не ерепенься. Может, ветер специально для тебя поет.
Ветер выл, а не пел, – выл и бился в окно спальни.
– Сам ветер слышу, – признала я. Подумала: «Хорошо засыпать под этакий вой». Добавила: – Только он не поет. Это больше похоже на крик.
– Ветер внимание твое хочет привлечь. Наверно, сейчас что-то важное сообщит.
– Поэтому плакать нельзя, да?
– Да. Когда я был твоих лет, Энни, я тоже часто плакал. Но один человек сказал: не плачь, всё будет хорошо. Ветер наверняка знает.
– О чем знает ветер?
Напевно и мягко – словно волна морская накатила и отступила – дедушка начал декламировать:
– В ветрах укрощённых, в смирённых волнах / Всё память жива о Его чудесах… – и остановился внезапно, словно забыл, как там дальше.
Я тотчас воспользовалась заминкой.
– О каких чудесах, дедушка?
– О тех, что случились на этой земле. Ветру и волнам всё давно известно.
– Что им известно?
– Абсолютно всё, Энни. Ветер, который сейчас бьется в окно, – тот же самый, что дул в самом начале времен. И дождь тоже. Потому что всё повторяется. Время движется по кругу; представь огромный круг – и поймешь. Ветер и волны первыми появились на земле. И камни, и звезды вместе с ними. Только камни говорить не умеют, а звезды слишком далеки.
– Может, им с высоты нас вообще не видно, а, дедушка?
– Пожалуй, ты права. Зато ветер и вода знают все земные тайны. Что говорилось на земле, что делалось – всему они свидетели. Ты, главное, слушай внимательно – тогда они тебе все истории поведают, все песни споют. У каждого своя история, Энни. А раз по земле миллионы миллионов людей прошли, так, значит, и людских историй столько же. Без счету, словом.
– Получается, они – ветер с волнами – и мою историю знают? – прошептала я, потрясенная догадкой.
– Конечно, – выдохнул дедушка и улыбнулся моей запрокинутой мордашке.
– И твою?!
– А как же. Истории-то наши с тобой связаны, родная. Одной без другой и быть не может. У тебя история необыкновенная. Целая жизнь нужна, чтоб рассказать. Даже две жизни – твоя и моя.
Глава 1
Преходящее
И молвил он: – Не повод для печали,Что страсть утолена – едва надкушенРожок вселенской сахарной спирали.Знай: чувства, что дыханье нам спирали,Вернутся через тысячи продушин.У. Б. ЙейтсИюнь 2001 г.ГОВОРЯТ, ИРЛАНДИЯ – ЭТО ее мифы. Фейри и компания населили Изумрудный остров задолго до появления англичан – и даже святого Патрика. Мой дед, Оэн Галлахер, высоко ставил миф и мне свое пристрастие передал. Это правильно, ибо в легендах и сказках живут наши предки, наша культура, наши хроники. Из воспоминаний создаются истории, а если не создаются – неминуемо теряются. Исчезнут истории – исчезнут и люди. Я лично помешалась на историях еще ребенком – непременно мне надо было знать о моих предках. Может, потому, что с малолетства несла бремя тяжелой утраты, а может, виной был страх: однажды я тоже уйду, а никто и не вспомнит, что я вообще жила. Я исчезну для мира. Жизнь продолжится, мир отряхнется от тех, кто умер, заменит старое на новое. Настоящая трагедия, да и только. О человеке должны помнить – и о том, как началась его жизнь, и о том, как она завершилась. Неправильно, если не помнят.
Оэн родился в графстве Литрим в 1915 году, за девять месяцев до Пасхального восстания, навсегда изменившего Ирландию. Его отец и мать (мои прадед и прабабка) погибли; Оэн осиротел прежде, чем узнал родительскую любовь. В этом мы с ним похожи; его утрата как бы перелилась в мою, моя трагедия стала его трагедией. Ибо я потеряла родителей в шесть лет; замкнутая девочка с не в меру живым воображением, я была подхвачена на ветру Оэном. Он спас меня; он меня вырастил. Когда слов во мне накопилось в устрашающем избытке, Оэн просто дал мне ручку и бумагу.
– Не можешь высказать – напиши, Энни. Напиши их все, свои слова. Пристрой их получше.
Так я и сделала.
Впрочем, эта история не похожа на прежние – а я их немало создала. Ибо я собираюсь поведать историю моей семьи, вплетенную в ткань моего прошлого, протравленную в моей ДНК, опалившую мне память. Началось всё – если начало вообще можно вычленить – с дедушкиной смерти.
* * *– У меня в столе есть ящичек, он на замок закрывается, – сказал дедушка.
– Знаю, – поддразнила я. Будто когда-либо пыталась подобрать к замку отмычку. На самом деле я про этот ящичек в первый раз слышала. Я уже давно перебралась в отдельную квартиру из дедушкиной, что помещалась в особняке из песчаника, расположенном в одном из самых престижных районов Бруклина. И я уже давно называла дедушку просто по имени, Оэн, и не совала свой взрослый нос в его потайные ящички.
– Ключ у меня в кармане для часов, – продолжал Оэн. – Да, вот этот, самый маленький. Действуй.
Я открыла ящичек, извлекла содержимое – пухлый конверт из коричневой бумаги и шкатулку с письмами. Их, наверно, была не одна сотня, причем все аккуратно распределены по пачкам. На миг я задумалась, почему ни одно письмо не вскрыто. На каждом стояла дата, только и всего.
– Давай сюда конверт, – сказал Оэн, не поднимаясь с подушки.
За последний месяц он страшно ослабел, он теперь почти всё время был в постели.
Оставив шкатулку, я села к его изголовью. Вскрыла конверт, перевернула. Посыпались реликвии – несколько фотографий, блокнот в кожаной обложке. Последней выпала медная пуговица, совсем гладкая от времени. Ее-то я и взяла, взвесила в ладони. Безделушка, что и говорить.
– Откуда она, Оэн?
Дед сверкнул глазом.
– С куртки Шона МакДиармады[2].
– Неужели того самого?!
– Конечно. Был – и пребудет – только один Шон МакДиармада.
– А к тебе она как попала?
– Подарили. Ты переверни, переверни. Видишь, инициалы процарапаны?
Действительно, с обратной стороны обнаружились крохотные буквы: «S» и «McD».
– Так вот, я говорю, пуговица была на куртке Шона МакДиармады… – начал Оэн.
Я эту историю давно знала. Несколько месяцев я собирала материалы для новой книги, посвященной борьбе ирландского народа за независимость от Британии.
– Шон процарапал свои инициалы на пуговицах и монетах и отдал верной Мин Райан[3] накануне казни. А казнили его за организацию Пасхального восстания, – отчеканила я. Мысль, что в моей ладони – самый настоящий кусочек истории, вызвала трепет.
– Верно. – Оэн чуть улыбнулся. – Шон был родом из Литрима, как и я. Он ездил по всей стране, и всюду приживались привезенные им саженцы Ирландского республиканского братства[4]. Именно Шон вовлек в борьбу моих отца с матерью.
– Невероятно, – прошептала я. – Оэн, почему ты не подсуетился получить сертификат подлинности этой пуговицы? Она же кучу денег стоит, ей в надежном сейфе место.
– Теперь она твоя, Энни. Обещай, что не подаришь пуговицу человеку, который не представляет ее истинной ценности.
Наши глаза встретились – и волна восторга откатила с шелестом. Потому что на Оэна жалко было смотреть. Совсем старый, еле живой, измученный болезнью. Скоро он покинет меня, я же к этому не готова. Нет, только не сейчас.
– Оэн, я сама толком этой ценности не представляю, – вымучила я полушепотом.
– Ценности чего?
– Пуговицы.
Пусть говорит со мной как можно дольше, пусть будет в сознании. Я зачастила, ибо недуг Оэна оставил пустоту не только в нем, но и во мне. Требовалось ее заполнить.
– Я уже столько прочла про Ирландию! Горы материалов. Биографии, хроники, дневники – всё в голове перепуталось. Насчет самого Пасхального восстания еще более-менее понятно, а вот что дальше было – не разобрать. Сплошные оценочные суждения, обвинения. Хаос, полный хаос.
Оэн рассмеялся, но в смехе была горечь.
– Когда речь об Ирландии, это нормально, Энни.
– Нормально?!
Вот уж утешил так утешил.
– Слишком многие люди крепки задним умом, а когда надо действенное решение предложить – никого с фонарями не сыщешь. Что же до критиканов, даже все вместе взятые, они прошлого изменить не в силах, – вздохнул Оэн.
– Не представляю, о чем писать. Только приму за истину какое-то одно мнение – натыкаюсь на другое. Просто руки опускаются.
– Ты, Энни, чувствуешь ровно то же, что весь ирландский народ чувствовал в двадцатые. Кстати, это одна из причин моей эмиграции.
Оэн нашарил блокнот и принялся поглаживать порванную обложку. Точно так же его ладонь гладила много лет назад мое темечко. Некоторое время мы оба молчали.
– Ты тоскуешь по Ирландии, да, Оэн?
Вообще-то, мы об этом не говорили. Моя жизнь – точнее, наша с Оэном жизнь – текла в Америке, в городе, кипучая энергия которого могла сравниться только с быстрой ртутью синих глаз Оэна. Что было с моим дедом до того, как я родилась? Откуда мне знать, если Оэн никогда не выражал желания открыть данную тему.
– Тоскую, Энни. По народу ирландскому тоскую. По запахам, по зеленым холмам. По морю. И по этому странному ощущению, словно время не то чтобы остановилось, нет, – словно его вовсе никогда не было. Такова Ирландия! Перемены, бег часов и дней – не для этой земли. Знаешь, Энни, не надо тебе про ирландскую историю писать. Исторических хроник и так без счету. Напиши лучше о любви.
– Даже любовной истории необходим контекст, – возразила я.
– Само собой. – Оэн отзеркалил мою слабую улыбку. – Я хотел сказать, не дай историческим событиям отвлечь тебя от людских судеб и характеров. И от чувств, разумеется. – Дрожащей рукой Оэн взял одну фотографию, поднес близко к глазам. – Есть дороги, что неминуемо ведут к сердечной боли; есть события, вовлекаясь в которые человек душу теряет – и потом уж так и живет, без души, без сердцевины. Ищет утраченное, бедняга. – Оэн бормотал, будто цитировал некое изречение, некогда услышанное или прочитанное, до сих пор отдающееся в памяти. На слове «бедняга» он вручил фотографию мне, заставил встретить напряженный, даже яростный взгляд неизвестной молодой женщины.
– Кто это, Оэн?
– Твоя прабабушка, Энн Финнеган Галлахер.
– То есть твоя мама?
– Да.
Прозвучало как выдох.
– Слушай, а ведь я на нее похожа!
Открытие польстило мне. Прическа и платье в первый миг сбили меня с толку, но очень быстро я заметила, что гляжу в собственное лицо.
– Поразительно похожа, Энни. Просто вылитая, – согласился Оэн.
– Только она смотрит… как-то мрачно.
– В те дни люди были скупы на улыбки.
– В смысле, вообще не улыбались?
– Почему «вообще»? – фыркнул Оэн. – В жизни – улыбались, перед фотографом – нет. Важность на себя напускали. Так, без улыбки, солиднее казалось. Каждый ведь хотел за революционера сойти.
– А это мой прадедушка, да? – Я взяла другую фотографию, где рядом с Энн Финнеган Галлахер был запечатлен мужчина.
– Да. Это мой отец, Деклан Галлахер.
Глядел он совсем юношей – пылким, ранимым, гордым. Эти качества не потускнели, даже когда фотография приобрела оттенок сепии. Славный Деклан Галлахер! Погиб во цвете лет – а как бы хорошо было узнать его! От этой мысли Оэн отвлек меня третьей фотографией: рядом с его родителями другой мужчина. Одет в костюм-тройку, как Деклан; жилет ловко сидит на худощавом торсе, виднеется из-под сюртука. Волнистые волосы зачесаны назад, причем на темени оставлена приличная длина, а виски подстрижены коротко. Брюнет или шатен, не разберешь. Чуть нахмурен, будто от недовольства, что его фотографируют.
– Оэн, а это кто?
– Доктор Томас Смит, лучший друг моего отца. Я любил его почти так же сильно, как люблю тебя, Энни. Собственно, он был мне отцом.
Оэн говорил теперь едва слышно, веки его сомкнулись.
– Он тебя вырастил? – Я не сдерживала изумления, почти кричала. – Почему ты никогда мне эти фотографии не показывал? Почему, Оэн?
– Есть и еще, Энни.
Мой вопрос он проигнорировал, словно экономя силы для более важных объяснений. Я взяла следующее фото: Оэн – глазастый мальчуган, весь в конопушках, однако набриолиненный. Короткие штанишки и гольфики, зато жилетик и сюртучок совсем как у взрослого. Кепи держит в руках. Позади него, положив ладони ему на плечики, стоит пожилая женщина. Губы в улыбке растянула. Собой недурна, но все дело портит улыбка. Очень уж подозрительный взгляд – кто так глядит, тот искренне улыбаться не может.
– А это кто, Оэн?
– Моя бабушка, Бриджид Галлахер. Мать моего отца.
– Сколько тебе здесь?
– Шесть. Бабушка в тот день на меня сердилась. Я не хотел сниматься без остальных, но она заставила. Хотела иметь карточку, где только мы с ней, и больше никого.
– Ну а здесь кто? – Я взяла следующее фото. – Это твоя мама, вижу. Волосы только подлинней, а так – она самая. А рядом – доктор, верно?
Что-то такое было в лицах, в позах запечатленных; что-то заставило вздрогнуть мое сердце. Взгляд. Взгляд Томаса Смита. Ощущение, будто чопорный доктор, сколько мог, отводил глаза от женщины, а в последний момент не выдержал. Женщина смотрела в пол, играя ямочками на щеках, – тайной упивалась? Не касаясь друг друга, эти двое определенно жаждали прикосновения. Никого третьего рядом с ними не было. Поразительно откровенный снимок для своего времени.
– Оэн, скажи, Томас Смит… любил Энн Галлахер?
Странно, что от этого простого вопроса дыхание перехватило.
– И да и нет, – еле слышно молвил Оэн.
Я скорчила гримаску.
– Исчерпывающий ответ!
– Зато правдивый.
– Но ведь Энн была женой твоего отца. А Томас – его лучшим другом. Ты же сам говорил!
– Говорил, – вздохнул Оэн.
– Ого! Похоже, тут целая история!
– Да, – прошептал Оэн. Закрыл глаза, поморщился. – Удивительная история, Энни. Как ни погляжу на тебя – непременно вспомню всё.
– Это же хорошо, – подхватила я. – Это хорошо, когда всё помнишь.
– Да, – согласился Оэн. Снова поморщился. Стиснул край одеяла.
– Боже! Ты когда обезболивающее в последний раз принимал?
Я бросила фотографии, метнулась в ванную, где Оэн хранил лекарства. Выковыряла таблетку из блистера, налила воды, приподняла голову Оэна, чтобы ему было удобнее глотать и запивать.
Моя бы воля – он бы в больнице лежал, где за ним ухаживали бы профессионалы. Но воля была не моя. Мой дед умирал дома, при мне. Всю жизнь он лечил других, бессчетные часы, дни, месяцы провел среди больных и умирающих. Полгода назад у него обнаружили рак, и он отказался от терапии. Мои мольбы и слезы привели единственно к обещанию принимать обезболивающие.
– Ты вернуться должна, Энни, родная, – произнес Оэн позже, сонным от таблетки голосом.
У меня сердце упало.
– Куда вернуться?
– В Ирландию.
– Как я вернусь в страну, где никогда не бывала?
– Говорю тебе: возвращайся. И меня с собой возьми. – Прозвучало совсем невнятно.
– Оэн, я мечтала об Ирландии, сколько себя помню. Ты сам знаешь. Когда поедем?
– Когда я умру. Ты мой прах отвезешь.
Боль в груди была самая настоящая – физическая. Я согнулась пополам, тщась погасить ее, лишив кислорода, – так гасят огонь. Она же – пусть выдавленная из сердца, где полыхала, прорастая змейками вроде тех, что на голове у горгоны Медузы, – никуда не делась. Она прорвалась иначе – из глаз.
– Не плачь, Энни, – вымучил Оэн голосом столь слабым, что я живо вытерла слезы. Незачем Оэну дополнительное расстройство. – Мы ведь не конечны. Когда я умру, отвези мой прах в Ирландию и развей над озером Лох-Гилл. Посередке озера, слышишь?
– Прах? Посередке озера? – Я попыталась улыбнуться. – Может, лучше все-таки на церковном кладбище упокоишься?
– Церкви нужны мои деньги, а вот Богу… Богу душа нужна. Ее Он и получит. Моему праху место в Ирландии.
Под натиском ветра дрогнула оконная рама. Я поспешила задернуть шторы. Дождь хлестал в стекло; прогнозировали ведь шторм в конце мая, и вот он, пожалуйста, целую неделю бушует над Восточным побережьем.
– Ветер воет подобно псу Куланна, – прошептал Оэн.
– Обожаю эту легенду!
Я снова заняла свое место у постели. Оэн лежал с закрытыми глазами, но речь его не смолкала. Он говорил тихо-тихо, будто припоминая.
– Историю о Кухулине я услышал от тебя, Энни. Мне было страшно, и ты пустила меня к себе в постель. Доктор всю ночь нес дозор. Ветер бушевал, мне же чудился вой легендарного пса.
– Ты путаешь. Это ты мне рассказывал о Кухулине, а не наоборот. Много-много раз.
Я поправила Оэну одеяло. Он вцепился в мою руку.
– Ну да, я тебе рассказывал. А ты – мне. И снова расскажешь. Один только ветер знает, кто первый начал.
Он стал засыпать, а я держала его ладонь, прислушивалась к вою ветра, тонула в наших общих воспоминаниях. Мне было шесть, когда Оэн, фигурально выражаясь, стал моим якорем. Он оформил надо мной опекунство. У него на руках я оплакивала погибших родителей. Вот бы и сейчас разрыдаться по-детски, вот бы всё началось с начала, вот бы моя жизнь пошла раскручиваться по второму кругу.
– Как мне жить без тебя, Оэн? – Я уже причитала вслух.
– Прекрасно обойдешься. Ты уже взрослая, – к моему несказанному удивлению, выдал Оэн. Я-то думала, он давно спит.
– Не обойдусь. Ты мне всегда будешь нужен!
Его губы дрогнули, как бы в ответ на такое откровение.
– Мы встретимся, Энни. Мы будем вместе.
Оэн никогда не отличался набожностью – тем более странно прозвучало его уверенное обещание. Воспитывала Оэна бабушка, ревностная католичка, но религию он оставил на ирландской земле, когда, в восемнадцать лет, обрел новую землю. Правда, по настоянию Оэна я посещала католическую школу в Бруклине; правда и то, что этим учебным заведением мое духовное воспитание и ограничилось.
– Ты в это веришь, Оэн? – прошептала я.
– Не просто верю – знаю. – Он поднял тяжелые веки, и я поежилась под испытующим взглядом.
– Мне бы твою уверенность! Я тебя очень люблю, я не готова тебя отпустить.
Плакала я уже не сдерживаясь. Тяжесть грядущей потери, масштабы одиночества, бесконечность лет без Оэна легли передо мной, и я ужаснулась им.
– Ты красива, Энни. Умна. Богата. – Оэн слабо улыбнулся. – И ты всего сама добилась. Твои книги тебя сделали. Я тобой горжусь, очень горжусь. Одно плохо – никакой у тебя жизни, кроме этих самых книг. Вот и возлюбленного нет до сих пор. – Взгляд Оэна затуманился, скользнул с моего лица, устремился вверх. – Ничего, появится. Обещай, что вернешься, Энни.
– Обещаю.
Потом он заснул, я же спать не могла. Я сидела возле постели, надеялась, ждала – вот он проснется, заполнит тишину речью, утешит меня. Он действительно проснулся – от боли, и я дала ему вторую таблетку.
– Прошу тебя, Энни. Ты должна, обязана вернуться. Ты мне нужна. Мне плохо без тебя. Нам обоим плохо.
– О чем ты говоришь? Я ведь здесь. Кому еще я нужна?
Он явно бредил – боль была несносна, мутила разум. Оставалось держать его за руку и прикидываться, будто понимаю.
– Поспи, Оэн. Когда спишь, боль переносить легче.
– Не забудь блокнот прочесть. Он тебя любил. Он так тебя любил. Он ждет, Энни.
– Кто ждет?
Слезы мои капали прямо нам на сцепленные руки.
– Я по нему соскучился. Столько времени прошло.
Оэн тяжко дышал, не открывая глаз. Что он там видел – в своей памяти, в своей боли? Прошлое, конечно. Я уже не пыталась вернуть его в реальность. Постепенно невнятная речь смолкла, дыхание стало поверхностным. Глазные яблоки под веками двигались – верно, сны были беспокойными. На смену ночи пришло утро, шторм утих. Оэн не проснулся.
2 мая 1916 г.
Он мертв. Деклан мертв. Дублин в руинах. Шон МакДиармада в тюрьме Килменхэм дожидается исполнения смертного приговора. Что сталось с Энн, я не знаю. Не знаю – а сижу дома и веду вот эти самые записи, будто слова способны вернуть моих друзей. Каждая подробность как рана, и каждую рану мне предстоит вскрыть заново и осмотреть – пусть лишь для того, чтобы появилась хоть какая-то ясность. Вдобавок однажды маленький Оэн спросит меня, что же случилось.
Я шел туда, уверенный, что буду сражаться. При мне была винтовка, с ней я встретил Светлый понедельник. Но я держал винтовку дулом вниз, я так ее и не вскинул. С того момента, как наши взяли штурмом здание Почтамта, мои руки были по локоть в крови, ибо в этом хаосе я еще пытался оказывать первую медицинскую помощь. Я говорю «в хаосе», потому что всё смешалось, потому что буйство восставших усугубило изначальную непродуманность плана. Люди бежали, не зная куда, не представляя, что и как делать. Я находился в более выигрышном положении – я, по крайней мере, крепко помнил, как бинтовать раны и останавливать хлещущую кровь, как накладывать шины и извлекать пули. Я занимался этим в течение пяти дней; я делал свое дело под нескончаемым обстрелом.
Лишенный отдыха, измотанный до такой степени, что, кажется, несколько раз я отключался стоя, будто лошадь, и очнуться меня заставляла только очередная канонада, я не верил в происходящее, был как во сне. Когда Деклан узнал, что по зданию Почтамта бьют из тяжелых орудий, его охватила эйфория; что до Энн, у нее слезы так и брызнули. Оба восприняли артиллерийские залпы по оплоту повстанцев как подтверждение: началась настоящая революция. Энн была уверена, что ирландцам наконец-то удалось достучаться до британцев. Я разрывался между двумя противоречивыми чувствами – гордостью и отчаянием; вроде воплощалась моя юношеская мечта о независимости Ирландии, но воплощалась она ценой чудовищных разрушений. Отлично понимая нелепость своего намерения, я позволил понятиям о дружбе и преданности взять над собою верх; иными словами, я принял участие в Восстании, даром что оно, участие, свелось к тому, чтобы повстанцы – сброд, одурманенный идеалистическими идеями, с безумием фаталистов лезущий на рожон, – чтобы этот сброд получал, в дыму и огне, мало-мальскую медицинскую помощь.
Энн по требованию Деклана поклялась, что не подвергнет себя опасности. Она, Бриджид и малютка Оэн спрятались в моем доме на Маунтджой-сквер, мы же с Декланом присоединились к отряду добровольцев с намерением нести дальше знамя Революции. Однако уже в среду Энн сбежала и проникла-таки в здание Почтамта, вышибив окно. Она хотела видеть Деклана. В своем страстном, неистовом желании она не почувствовала, что до крови рассекла стеклом левую лодыжку и ладонь; пришлось насильно усадить ее и сделать перевязку. Она заявила: «Если, Деклан, тебе суждено погибнуть, я умру с тобой». Деклан взбеленился, но Энн, пропустив мимо ушей его гневную тираду, добилась своего, то есть стала связной между Почтамтом и кондитерской фабрикой. Она бы и у окошка залегла, как у бойницы, да никто ей оружия не дал. Зато как связная – и она это понимала – Энн могла принести немало пользы. Женщин на улицах не задерживали, по женщинам не стреляли – по крайней мере, ПРИЦЕЛЬНО не стреляли. Не знаю, когда, в какой момент удача отвернулась от Энн. В последний раз я видел ее в пятницу ранним утром – пламя уже ползло по Эбби-стрит, причем с обеих сторон, вынуждая нас покинуть Почтамт, сдать этот завоеванный пункт; не оставляя нам альтернативы.