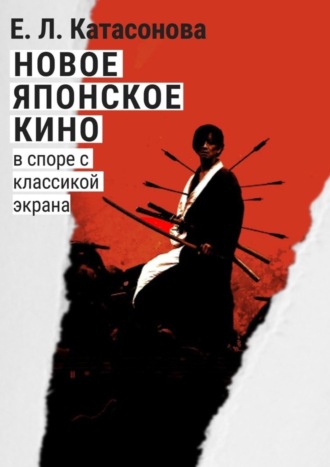
Полная версия
Новое японское кино. В споре с классикой экрана
Дело в том, что в японском хорроре перемешано очень много компонентов, взятых и с Запада, и с Востока, порой в совершенно невероятных комбинациях. Во-первых, это – большое разнообразие жанров и поджанров: от бескровных, чисто психологических фильмов о привидениях и духах до наполненных изощренным насилием сюрреалистических трэш-картин. Во-вторых, совершенно иной подход к изображению насилия: оно подается не только обильно и натуралистично, но и в достаточно обыденном ключе, как нечто само собой разумеющееся и морально оправданное. И в-третьих, что особенно интересно: Япония была первой страной, в которой фильмы ужасов начали массово помещаться в контекст современных технологий. Другими словами, именно в Японии хай-тек смогли прочно связать с мистикой, несмотря на то, что внешне эти категории, казалось бы, никак не связаны между собой.
При этом огромное влияние западного кинематографа на японских режиссеров, конечно же, отрицать трудно, если принять во внимание тот мощный поток американских и европейских готических фильмов, который хлынул в Японию сразу же после окончания Второй мировой войны. А вслед за этим японцы познакомились с именами Альфреда Хичкока, Дона Коскарелли, Руджеро Деодато, Стюарда Гордона и многих других выдающихся западных хоррор-мейкеров. Их кинопроизведения оказали огромное влияние не только на творчество современных японских кинематографистов, но и на художественные пристрастия самих зрителей, их мировоззренческие, а порой даже нравственные ориентиры.
Но японцы никогда не принимали иноземную культуру в ее чистом оригинальном виде, а, прежде всего, соединяли ее с национальной основой, весьма деликатно перерабатывая всякого рода иностранные заимствования в соответствии с собственными многовековыми художественными традициями, этическими и эстетическими нормами и адаптируя к реалиям и потребностям своего времени. Так создавался качественно иной культурный продукт, который получал здесь свое второе рождение и зачастую воспринимался как исконно японский. Но при этом всегда и во всем первичной выступала своя национальная основа.
Нечто похожее произошло и с одним из самых самобытных и экзотических явлений японской национальной культуры – традиционным жанром японских ужасов кайдан, который принято определять как «повествование о необычайном или сверхъестественном». Без существования кайдана мы вряд ли увидели бы современные японские фильмы ужасов, да и многое другое, включая весомую часть классического репертуара театра Кабуки. Ведь на протяжении многих столетий кайдан подпитывал мифологический склад японского художественного сознания.
Эти страшные и фантастические рассказы обычно считают традиционным фольклорным жанром, своеобразным аналогом европейских быличек и историй о привидениях, поскольку главными персонажами являются потусторонние силы – ожившие духи, привидения, демоны, ведьмы и т. д. Его становление пришлось на период с ХVΙΙ по ХIХ в., и произошло это благодаря все тому же особому механизму культурного синтеза, соединившего воедино огромный национальный культурный пласт в виде многочисленных народных сказаний и древних поверий и популярные образцы китайской волшебной повести, хорошо известной японцам еще со времен Средневековья по сборнику новелл Пу Сунлина «Истории о необычайном» (ХVΙΙ в.) и т. д. Сюда же следует присовокупить многочисленные новеллы его японского современника Ихара Сайкаку – певца городской жизни и одновременно собирателя местных преданий, которые он записывал во время своих многочисленных путешествий по стране. А в дальнейшем – в период Мэйдзи – сюда же добавились и образцы западной мистической литературы. Но это было только начало.
Глава ΙΙ. Неведомое как архетип страха
Страх – самое древнее и сильное из человеческих чувств, а самый древний и самый сильный страх – страх неведомого. Изучение феномена «ужасного» в японской культуре следует начинать с японской мифологии. Она формировалась на основе многих факторов, из которых одним из главных была национальная религия. Вернее, у древних японцев их было сразу несколько, гармонично сочетающихся между собой на протяжении столетий. Это – исконно японские верования синто (синтоизм), основанные на обожествлении природы и почитании предков, которые после смерти становятся божествами и вместе с бесконечным количеством других богов, олицетворяющих природу и природные явления, постоянно обитают рядом с нами во всех предметах и явлениях окружающего нас мира. И пришедший из Китая в VI в. буддизм, одна из основных догм которого – это учение о реинкарнации и карме с его сложно детерминированными причинно-следственными связями настоящей жизни человека с его предыдущими телесными, словесными и ментальными действиями, что нашло отражение в многочисленных буддийских притчах, распространившихся среди народа. Именно в этих религиозных координатах шло формирование у древних японцев основных представлений об окружающем их мире и существовавшем параллельно с ним мире сверхъестественном, созданном в их воображении на основе непознанных природных явлений, первобытных страхов и предрассудков.
Этот второй, потусторонний, мир в средневековой Японии был чрезвычайно разнообразен. Еще с давних пор он был густо заселен огромным количеством всевозможных демонических существ, которых условно можно разделить на две категории: ёкай и юрэй. И тех и других чаще всего относят к разряду призраков или привидений, но ни в коем случае их не смешивают между собой ни с точки зрения их родовой принадлежности, ни в жанровом отношении.
Первые из них стали хорошо известны за пределами Японии главным образом благодаря повестям Акутагава Рюноскэ, это – японские водяные каппа. Сюда же следует причислить и всякого рода лесную нечисть, среди которой особо выделяется безобидный монстр, похожий на зонтик, под названием каракаса-обакэ и др. А в целом японские ёкаи, что в буквальном переводе может означать также «волшебный, чудесный» или «загадка, нечто странное, призрак», чем-то напоминают русских домовых или леших, но только условно, так как эта группа японской нечисти весьма многочисленна и разнообразна по своему облику, по привычкам, функциям, месту обитания и т. д.
Главное, что характерно для этих таинственных персонажей – это их неординарный внешний вид. Так, например, у ёкай, живущего на обочине дороги, только один глаз, из-за чего его называют итимэ кодзо – одноглазый монашек. А у рокурокуби – страшилища с длинной шеей – шея и впрямь такая длинная, что создается впечатление, будто голова держится на длинном шнурке и существует почти автономно от тела.
Все эти существа любят обитать в строго определенных местах: одни живут в реках, другие ждут запоздалых путников на горной тропинке и никогда не приближаются к человеческому жилью и т. д. Совершенно очевидно, что ёкаи не ищут встречи с человеком специально, они живут своей собственной жизнью, в которую вдруг случайно вторгается сам человек. Именно поэтому встреча с неведомым всегда носит в японском фольклоре случайный незапланированный характер. Ёкай – это порождение полутьмы, время их появления, как правило, связано с окончанием дня, отчего даже часы от наступления сумерек до темноты принято называть оума-га доки (время встречи с демоном).
Японцы любят подобные истории и по сей день. То и дело в современных японских фильмах, анимэ и манга мы сталкиваемся с этими демоническими существами, причем, в большинстве случаев это вполне безобидные зверушки, но иногда они появляются в виде неведомых и злых чудищ, а порой в их компании можно насладиться неподдельным весельем. Однако такого обилия и разнообразия ёкаи, как в популярной японской кинотрилогии, созданной в 1968—1969 гг., вы не найдете нигде. Это – «Сказание о 100 – ёкаях» («Ёкай хяку моногатари», 1968), «Большая война ёкаев» («Ёкай дайсэнсо», 1968), «Путешествие с призраками по дороге Токайдо» («Токайдо обакэдотю», 1969).
Однако этими чудищами мир японских ужасов далеко не ограничивается. Куда типичнее другое проявление сверхъестественного – так называемые призраки или привидения – юрэй, которые в отличие от ёкай, вовсе не чуждаются человека, а наоборот, как правило, стремятся появиться перед человеком и вступить с ним в контакт. Юрэй записывается иероглифами, означающими «потусторонний мир» и «душа». И это символично, так как, согласно канонам синтоизма, после смерти душа человека выжидает момент, когда рядом никого нет, и никто не оплакивает умершего, и только тогда покидает тело. Душа тех, кто умер естественной смертью, становится духом предков. Те же, кто принял насильственную смерть, становятся юрэй.
Интересен тот факт, что вне зависимости от пола умершего юрэй, как правило, имеет женский облик, за исключением, пожалуй, духа воина, убитого в сражении, который практически ничем не отличается от реального человека. Юрэй приходят в дом ночью, что придает расплывчатость и неясность их очертаниям. А еще юрэй в классическом варианте лишены ног, что подчеркивает полное отсутствие их связи с землей, а значит, и с реальностью тоже. Вернее, их образ почти всегда изображается призрачным, окутанным дымкой, и особенно в нижней части тела, близкой к ногам, что создает впечатление, что они плывут по воздуху, оставляя за собой лишь тонкую струйку дыма. Чаще всего призраки любят обитать в заброшенных домах, старых храмах, полуразрушенных горных лачугах, где поджидают незадачливого путника.
В отличие от ёкай, которые в основе своей довольно простодушные и легковерные существа, юрэй часто предстают персонажами, вселяющими ужас. Это касается в первую очередь их внешнего облика: у привидения вместо лица может оказаться полупрозрачный шар с одним глазом на подбородке, а то и вовсе может не быть глаз и т. д. Но по большей части еще в древние века было принято считать, что юрэй в своем призрачном состоянии не имеют отличий от живого человека. И только в конце ХVΙΙ в., когда кайдан становится все более популярным не только в литературе, но и в театре, чтобы отличить на сцене реального героя истории от призрака, в сценической эстетике постепенно появляются некоторые признаки юрэй, которые сохраняются и по сей день и перешли на киноэкран.
Как правило, призраки облачены в белые свободные длинные одежды, напоминающие традиционное погребальное кимоно. Их лицо окрашено в бело-синий цвет, имитирующий мертвенную бледность. Угольно-черные длинные волосы ниспадают на лицо, поскольку считалось, что волосы продолжают расти и после смерти. Руки бессильно свисают вниз, вместо ног зияет пустота (в театре Кабуки актеров подвешивают на веревках), а рядом с призраком мерцают потусторонние огни. Юрэй часто несут с собой любовь и смерть, и яркий пример тому – призрак девушки с пионовым фонарем, который присутствовал в японской литературе и драматургии самых различных жанров на протяжении двух сотен лет, а затем был перенесен на киноэкраны.
Но и это еще далеко не все, что можно рассказать о мире японских привидений, который населяют и другие загадочные демонические персонажи, такие, к примеру, как бакэмоно – японские оборотни. И хотя это слово иногда также переводят как призрак, это название обычно относят к живым или сверхъестественным существам, временно изменившим свое обличье. Так, в прекрасных женщин часто превращаются лисицы, кошки, барсуки и т.п., а порой и дух растения – кодама или вовсе неживой объект, обладающий душой – цукумогами.
Ну а призрачные кошки, или кайбё, – это вообще особый персонаж в японской демонологии. Кошка для буддистов – животное крайне подозрительное, ведь только кошка и змея не оплакивали смерть Будды. Особенно злобными и агрессивными существами считаются кошки нэкомата, достигающие огромных размеров и обладающие сверъестественной силой. Но наиболее часто в фильмах о кайбё встречается история о призрачной кошке Набэсима, тесно связанная с реальными событиями, произошедшими в ХVI в. в замке Сага и с его правителем Набэсима Наосигэ.
Один из самых впечатляющих фильмов на эту тему – это «Призрачный замок» или «Секретная история призрачной кошки» («Хироку кайбёдэн») (другое его название) режиссера Танака Токуда. Он снят в 1969 г. по мотивам известной пьесы «История кошки-монстра из прекрасного города Сага» («Хана Сага нэко мата дзоси»), написанной в 1853 г. для театра Кабуки Сэгава Ш. Здесь присутствуют все обязательные элементы этого поджанра кайданов: коварное убийство, обретение кошкой сверхъестественной силы и, конечно же, месть. К этому обязательному набору добавлено еще раскаяние и искупление своей вины.
Но, пожалуй, этот назидательный момент все-таки больше характерен для историй с участием другого действующего лица японской мифологии – онрё. Это – обиженные и мстительные духи умерших людей, вернувшиеся в мир живых ради мести, восстановления справедливости или исполнения некоего проклятия. Такое привидение не в состоянии обрести покой, пока не отомстит. И именно этот образ в последние десятилетия чаще всего встречается в современных японских фильмах ужасов J-хоррор, начиная с культового «Звонка».
Глава ΙΙΙ. Из истории фильмов ужасов: от кайдана до неокайдана
Японцы научили мир бояться благодаря многовековой традиции кайданов – историй о сверхъестественном и потустороннем мире, сюжетами которых пронизано все японское искусство, от аристократического театра Но до народных юмористических рассказов ракуго. И, естественно, киноиндустрия также не могла обойти стороной истории о потустороннем мире. Однако за много столетий до того, как возникло искусство кино, эти страшные истории кайданы передавались в народе из уст в уста и становились легендами.
В средневековой Японии даже существовала традиция «ста кайданов». Поздним летним вечером, когда наступала прохлада после жаркого дня, жители деревень собирались в каком-нибудь доме, где зажигалось сто свечей. Каждый из присутствовавших рассказывал страшную историю-сказку, местное предание, мистический случай, который произошел с ним, а затем задувал свечу. Время шло, в комнате становилось все темнее, людей клонило ко сну, и было трудно уже отделить реальное от игры воображения. И тут, когда затухал свет последней свечи, как гласит древняя легенда, в комнате появлялся некто ужасный (нечто ужасное), и начиналось новое страшное действо, которое становилось поводом для создания очередных невероятных историй, которые быстро облетали всю округу.
С наступлением конца ХVΙΙ – начала ХVΙΙΙ в., совпавшими по времени с невиданным культурным подъемом в стране и развитием массового книгопечатания, эти сюжеты перекочевали в книги – сборники кайданов, записанные в разных провинциях. Эти сборники приобрели необычайную популярность в эпоху Эдо среди нового сословия – горожан, ставших основными творцами и потребителями популярной культуры. Кстати говоря, именно эпохе Эдо мы обязаны появлением слова кайдан и самого яркого произведения этого жанра – сборника фантастических новелл о духах и привидениях «Луна в тумане» («Угэцу моногатари», 1786) известного японского писателя и ученого Уэда Акинори, который в дальнейшем послужил незаменимым источником сюжетов для современных хоррор-мейкеров.
Каковы отличительные черты классического литературного кайдана этого времени? Прежде всего, это – присутствие в сюжете потусторонних сил и сверхъестественных существ (чаще всего – мстительных призраков), которые всегда действуют наравне с людьми и активно воздействуют на происходящие события; концепция кармы и воздаяние – в европейском понимании своеобразный фатализм; месть как практически обязательный элемент действия и т. д. Вот почему кайданы, которые первоначально слагались и рассказывались с единственной целью – напугать слушателя, в это время приобрели еще одно качество – нравоучительный и дидактический контекст.
Вскоре после этого кайдан быстро перешагнул за рамки собственно литературы и пустил многочисленные корни в других, и прежде всего визуальных, видах искусства. Я имею в виду в первую очередь японскую традиционную гравюру – укиё-э, ставшую в средневековой Японии другим излюбленным местом обитания привидений, призраков, всевозможных монстров и оборотней. Все эти потусторонние силы нередко становились главными героями полотен японских мастеров, наполненных духом мистицизма и страха и во многом напоминающих по своим сюжетам и образам современные фильмы ужасов.
Чтобы убедиться в этом, достаточно обратиться к рисункам художника Набэта Гёкуей, собранным в его книге «Иллюстрированная книга монстров» («Кайбуцу эхон», 1881). А рисовал он свои работы по образцам подлинного знатока японского фольклора и известного исследователя темного мира Торияма Сэкиэн – известного японского графика, учителя прославленного мастера гравюры Китагава Утамаро. Торияма жил в ХVΙΙΙ в. и прославился тем, что досконально изучил японскую демонологию и попытался создать своеобразный каталог самых жутких японских демонов ёкай, которые присутствуют в японском фольклоре и постоянно участвуют в ежегодном ночном тайном шествии нечистой силы (Хякки Яко).
Но, пожалуй, самые впечатляющие встречи с нечистой силой стали происходить на сцене театра Кабуки. Его репертуар до сих пор включает в себя много удивительных и волшебных сюжетов и целую коллекцию образов духов и привидений, созданных богатым воображением прославленного Тикамацу Мондзаэмон и других драматургов того времени. Они писали свои пьесы не только в расчете на реальных действующих лиц, но и на кукольных персонажей театра Бунраку. Самым популярным сюжетом этого классического репертуара стала знаменитая легенда «Токайдо Ёцуя кайдан», которая в различных своих пересказах дошла до наших дней и была воплощена в большом количестве кинокартин.
А тогда во времена Эдо другим видом зрелищных искусств, продолжившим традиции устных рассказов о сверхъестественном, стал камерный театр ёсэ. С его сценических площадок мастера разговорного жанра – кодан и ракуго – развлекали публику не только пародиями и шутками на злободневные темы, но и пересказывали на свой манер удивительные истории, почерпнутые из богатого арсенала средневекового кайдана. Ну, а некоторые из них рождались прямо на сцене как «звучащая книга», в дальнейшем обрастая литературным текстом. Так произошло с одной из самых популярных повестей о призраках и привидениях «Пионовый фонарь» («Кайдан ботан доро») знаменитого рассказчика Энтё Санъютэй, который частично заимствовал свои сюжеты из Китая и долгие годы выступал с ними перед зрителями. Затем с его голоса эти рассказы были застенографированы и опубликованы вначале в газете, а в 1880-е гг. изданы отдельной книгой.
Несколькими десятилетиями позже, в 1910 г., японские кинематографисты обратились к прочтению этого классического произведения средствами нового вида искусства, после чего появилось еще много других кинолент по мотивам этих фантастических и жутковатых рассказов, но, к сожалению, ни одна из них не сохранилась до наших дней. Первая из доступных на настоящий момент киноработ по мотивам «Пионового фонаря» относится к 1968 г. Этот на редкость мрачный фильм даже по своему названию в его английском варианте «Пионовый фонарь /Невеста из ада /» («The bride from Hell/Peony Lantern». «Кайдан ботан доро») был снят Ямамото Сацуо в жанре мистической драмы. Однако в силу левых взглядов режиссера в традиционный сюжет были внесены новые социальные нотки. Герой драмы – отпрыск богатой и влиятельной семьи. Вместо того чтобы делать карьеру самурая, он предпочитает учить грамоте бедных детей. Однажды он знакомится с симпатичной девушкой Оцую, которая рассказала ему грустную и туманную историю о том, как была продана в проститутки за долги отца.
Следующая версия этих событий была снята для телевидения в 1970 г. классиком жанра – режиссером Накагава Нобуо. Эта добротная экранизация намного точнее следует классической версии Энтё и, судя по всему, разделяет его моральные оценки. А в 1972 г. эту своеобразную мистическую эстафету принял Сонэ Тюсэй, создав на студии «Никкацу» эротическую версию этого знаменитого произведения. Фильм прекрасно снят, содержит много живописных сцен, однако в силу специфики самого жанра – пинку эйга мораль здесь явно уступила место эротике.
Одно из последних прочтений этой истории о бессмертной любви и привидениях отражено в картине «Пионовый фонарь Оцую» («Оцую: кайдан ботан доро»), которая вышла на экран в 1998 г. Ее режиссер Цусима Масару создал свою картину в стиле классических лент в жанре кайдан Накагава Нобуо. Но внес много изменений в сюжет, возродив кармический мотив и наполнив эту старинную китайско-японскую историю поистине шекспировскими страстями с любовными многоугольниками и патетическими самоубийствами. В итоге лента получилась необычайно живописной, атмосферной с быстро разворачивающимся сюжетом. Похоже, что режиссер находился под сильным влиянием версии 1968 г., пытаясь создать мрачную и страшную историю о демонах. Однако истинного страха ему так и не удалось вселить в души японских зрителей, буквально живущих среди всякого рода мистических существ.
Ведь в наши дни призраки, духи, оборотни захватили не только кино- и телеэкраны, но также стремительно перекочевали и в другие популярные образцы массовой культуры – комиксы манга, анимацию анимэ и т. д. Они основательно проникли в повседневную жизнь в виде наклеек на всевозможных бутылочках с напитками, эмблем на футболках, рисунков на зонтиках, не говоря уже об игрушках, рекламе и т. д. И таких стремительных всплесков всеобщего интереса ко всему ужасному и сверхъестественному в Японии практически не наблюдалось на протяжении нескольких веков, начиная с эпохи Эдо (1603—1867).
А все началось в 1970-х гг., когда в Японии четко обозначился новый виток возрождающегося интереса к призракам, оборотням и монстрам. На этой волне японские ученые-фольклористы вновь обратились к научным изысканиям потустороннего мира, изучая старинные легенды, предания и другие традиционные источники. А вслед за этим в 1980-х гг. на книжных прилавках появились новые издания популярных книг о фантастических существах – «Собрания сочинений кайданов эпохи Эдо» («Эдо кайдансю», 1989) в 3 т., «Японский кайдан» Танака Которо («Нихон-но кайдан», 1985, 1987), «Кукла-талисман» Асаи Рёи («Отоги боко», 1987) и др., которые дополнились многотомными выпусками литературы детективной, suspense и mystery and imagination (с примесью кайдана – кайдан мэйта), например серии Эдогава Рампо для юношества (в 46 и 26 томах) и т.д.38
В конце же 1990-х гг. японские ужасы уже оккупировали мировое кинопространство, заставив не только содрогнуться от увиденного на экране, но и заговорить о новом художественном явлении – J-horror и одной из его главных составляющих – неокайдане. А в последнее время неокайдан все чаще стали рассматривать как отдельный, самостоятельный киножанр, не отождествляя его напрямую ни с образцами классического кайдана, ни с европейской готической традицией, ни с современными западными фильмами и романами ужасов и т. д. Но особое внимание при этом акцентируют на его органической связи с фольклорными традициями, древними японскими верованиями, мифами.
В чем же причина появления этого феномена? Прежде всего, наверное, в самом временном периоде его появления: рубеж двух столетий, а в данном случае – двух тысячелетий, что всегда отмечалось возросшим интересом ко всему таинственному, мистическому и загадочному в жизни и в самом человеке. С новой наступающей эпохой, по обыкновению, связывалось волнительное ожидание грядущих перемен, сопровождавшееся не только надеждами, но еще в в большей степени страхом и тревогой перед неведомым и непредсказуемым будущим. Для японцев же эти настроения в силу мифологического сознания нации проявились особенно остро на фоне затянувшейся на десятилетия экономической стагнации и разрушительной волны мирового финансового кризиса 1990-х гг.
Но, как известно, культура и искусство всегда остро реагируют на всякого рода общественные потрясения и катаклизмы, будь то война, экономические кризисы и т. д. Примеров тому множество. Первая мировая война вызвала к жизни сюрреализм и другие авангардистские течения. Великая депрессия 1930-х гг. в США сделала популярной во всем мире музыку бедных «черных кварталов» – джаз и блюз. Когда ведущие страны мира переживали структурный кризис 1968—1973 гг., культура наполнилась новыми радикальными субкультурами: родился панк-рок, стали активно развиваться арт-рок и хэви-металл. В те же годы в кинематографе произошел поворот от развлекательной героики и мелодрамы к социальным сюжетам, подчеркивающим остроту общественных противоречий, и т. д. Подобно этому, экономические и социокультурные потрясения в Японии 1990-х гг. обусловили тяготение японцев к ужасам и мистике, что уже буквально витало в воздухе с начала 1980-х гг. и воплотилось в авангардном кино. Теперь настало время ужасов J-horror, стремительно захвативших огромное кинематографическое пространство. Людям по всему миру к тому времени уже наскучили кровавые американские ужастики – прошла эпоха клыкастых монстров и рек крови. Настало время психологических триллеров в стиле Эдгара По и Альфреда Хичкока, причем в ХХI в. эстафету приняли японцы.

