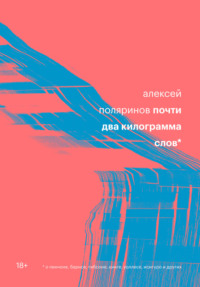Полная версия
Риф
Таня не была изгоем, хотя сама вряд ли смогла бы определить свое место в школьной пищевой цепи; училась она средне, списывать у нее было бессмысленно, взять с нее было нечего, поэтому над ней особо не издевались – все-таки дочь училки, – сидела на третьей парте и не отсвечивала. И все же иногда девицы из параллельного ее били; без всякой причины, потому что могли. Таня поначалу пыталась давать отпор, но очень быстро поняла, что этим только доставляет им удовольствие, и заметила, что если во время трепки молча стоять и смотреть в одну точку, то все заканчивается гораздо быстрее – живодерам неинтересно мучить тех, кто не отбивается, не плачет и не кричит «за что?!»; поэтому когда Таню зажимали в углу и начинали лупить, она замирала на месте и обычно стояла с таким скучающим видом, словно ждала лифт, словно встреча с обидчицами – это самое скучное событие в ее жизни, и этим убивала им все удовольствие от насилия; гопницам быстро надоедало, и они расходились; главное было – не смотреть им в глаза и не отвечать. Насилие в школе вообще было делом обыденным и скучным, как мытье полов или уроки обществознания, никто из учителей об избиениях даже не подозревал; а может, наоборот, – все знали, но делали вид, что не замечают; в конце концов, довольно сложно не замечать ссадины и порванные рукава рубашек. В школе было негласное, но для всех очевидное правило: мир взрослых и мир детей не должны пересекаться, и если ты просишь взрослого о помощи, ты как бы нарушаешь герметичность школьного мироздания, а за такое дети карали еще сильнее.
Однажды – это было классе в шестом, кажется, – Таня в очередной раз пришла домой растрепанная, сжимая в ладони оторванные пуговицы, и не успела запереться в ванной, нарвалась на Леру, которая сразу все поняла. Лера была уже в выпускном классе, то есть формально еще в мире детей, но по факту – уже взрослая, готовится к поступлению и переезду в универ.
Через два дня на пороге квартиры возник участковый, а за спиной у него – толстая опухшая тетка, мать одной из Таниных обидчиц. Как выяснилось, накануне Лера подкараулила их у выхода из школы и отхлестала крапивой; физического вреда почти не было, в основном моральный – отходила веником крапивы по задницам на глазах у одноклассниц.
В тот день Таня впервые подумала, что, возможно, Лера не такая уж плохая сестра, и, возможно, она все-таки не выкинет ее из окна, и еще, возможно, она ее даже любит. В конце концов, не станет же человек караулить у школы твоих обидчиц и лупить их крапивой, если он тебя не любит?
* * *Лера выучилась на морского биолога и уехала в экспедицию на Камчатку, изучать китов. А потом и вовсе нашла там работу – в шести с половиной тысячах километров от дома. «Куда угодно, лишь бы подальше отсюда», – сказала она, когда прощались в аэропорту. «Отсюда» означало «от матери». После отъезда Леры стало совсем плохо. Таня вдруг поняла, что, пока они жили втроем, Лера, как громоотвод, принимала на себя всю тяжесть материнского воспитания. И после отъезда старшей мать переключилась на Таню.
Вообще-то мать была доброй, но доброта ее распределялась неравномерно. Пять лет подряд ее признавали «Учителем года», она души не чаяла в учениках, даже в троечниках, но, кажется, стыдилась проявлять нежность к собственным детям, словно боялась, что нежность их испортит и они вырастут слабыми и избалованными. Ее жизненная философия напоминала причудливую смесь махрового социализма и ветхозаветной жестокости: человек должен трудиться в поте лица, до ломоты в спине, если в конце дня ты не валишься с ног от усталости – значит, ты что-то делаешь не так; а еще – никогда не спорь со старшими; старший всегда знает лучше, потому что он дольше жил, больше страдал и повидал на своем веку, вот как вырастешь, будешь свое мнение иметь, а пока молчи, понятно?
После падения в яму с лягушками ее характер совсем испортился – хотя, казалось бы, куда уж? Если бы мать была пророком, думала Таня, у нее была бы только одна заповедь: «не забывайте страдать». Сама она следовала этой заповеди неукоснительно. Скажешь ей: пожалуйста, не выходи из дома, у тебя спина, костыли, а на улице гололед. Кивает, вроде поняла. Отлучишься на час, и уже звонит сосед: ваша мама поскользнулась и что-то сломала, увезли в больницу.
Ну зачем, зачем ты вышла?
Бормочет что-то.
И снова доктор Носов со своими снимками и песенками. Осложнение, трещина, пу-рум-пум-пум, полгода физиотерапии насмарку.
Ты издеваешься надо мной, да?
Молчит.
Да и что тут скажешь. Говорить с ней было, в общем, бесполезно, она была из тех людей, которые уверены, что русская пословица или цитата из советского фильма – это небьющийся аргумент в любом споре. Когда же разговор сворачивал на слишком неудобные темы и пословицы уже не работали, она начинала как флагом размахивать возрастом: «с мое поживи – и поймешь!» – и если даже это не помогало, мать просто качала головой и говорила: «Дочь, ну чего ты опять начинаешь, я же тебя люблю», – таким тоном, словно это признание должно было как-то облегчить или отменить причиняемую боль; на самом деле Таня давно уже знала, что в переводе с материнского на русский эти слова означают: «я тебя люблю, поэтому ты должна терпеть мой характер, мою инфантильность, мою беспомощность, мою беспощадность и мое вечное недовольство тобой».
* * *А потом был Илья. Таня пришла в гости к подруге и столкнулась с ним на кухне. Он сидел за столом на фоне облезлых обоев и курил, стряхивая пепел в банку из-под растворимого кофе. Курил красиво, как будто позировал для рекламы парфюма. Несоответствие аристократической позы и нищенской обстановки рождало комический эффект, который он, надо сказать, вполне осознавал. Таня всегда завидовала людям, которые не боятся быть нелепыми и не думают постоянно о том, как они выглядят и какое впечатление производят на окружающих. У нее самой с детства с этим были проблемы – вечные сомнения подростка, который вынужден носить свое неуклюжее тело: «насколько глупо я выгляжу? У меня дурацкая походка? Я суетливая?» Само по себе тело для нее было источником стыда, неудобств и сомнений. Особенно лицо. В шестом классе у нее начались проблемы с кожей. Прыщей было так много, что по утрам, глядя в зеркало, она думала: «это лицо проще сжечь, чем вылечить». Это была не шутка. Ее водили к дерматологу на процедуры, врач тыкал ей в щеки и в лоб иглой, и по лицу текла кровь – со стороны это напоминало фильм ужасов. Однажды после очередного сеанса ей замотали голову бинтами, и она стала похожа на мумию. Посмотрела в зеркало и в тот же день зашла в хозяйственный магазин, взяла с полки жидкость для розжига и спички – буквально собиралась сжечь себе лицо, в таком была состоянии, в таком отчаянии. Ее спасла кассирша – отказалась продавать жидкость и спички несовершеннолетней.
И вот спустя одиннадцать лет она сидит на кухне у подруги и на двоих с Ильей раскуривает косяк и зачем-то рассказывает ему об этом случае: о прыщах, о бинтах и о жидкости для розжига.
– Жесть, – говорит он, затягиваясь. И, выдыхая дым, добавляет: – Мне нравится твое лицо, не сжигай его, пожалуйста.
Илья был огромный и широкоплечий. В обществе вел себя шумно, иногда развязно, нисколько не стесняясь ни громкого смеха, ни простоватых манер, которые сам он называл «пролетарскими»; наоборот – он, кажется, по-настоящему наслаждался своей провинциальностью, и роли деревенских простофиль и рубаха-парней в театральных постановках давались ему лучше всего. Еще он часто играл полицейских, и Таню немного пугало то, как органично он смотрится в форме и как меняются его мимика и жесты, когда он берет под козырек и предельно суровым тоном говорит: «Документики предъявите» или «Лейтенант Котопесов, честь имею».
У Тани все было иначе. Она тоже ходила на актерские курсы, но актрисой быть не хотела. Если и думала о съемках, то о таких, где она будет за камерой. Актерские же курсы были для нее чем-то вроде терапии, попыткой помириться с собственным телом, найти с ним общий язык. О теле она думала каждый день и каждый день пыталась его полюбить. Полюбить себя целиком она не могла, как ни старалась, поэтому решила, что для начала попробует научиться любить отдельные части себя, а потом, если повезет, смонтирует их в единое целое. Но даже этот вроде бы хитрый киношный прием – скрыть недостатки в монтаже – не работал; отдельные части ее тела были упрямы и всячески отвергали ее любовь.
Возможно, именно поэтому, думала она, ее так тянет к Илье. Она полагала, что если будет жить рядом с вот таким вот полюбленным телом, то рано или поздно научится у него этой легкости.
А потом – ну, потом они съехались. Хотя она все еще не могла решить, действительно ли ей нравится их сближение: он иногда отпускал совершенно неуместные, на грани пошлости реплики за столом, разговаривал с набитым ртом и громко смеялся над собственными шутками. Он вообще все делал громко, даже молчал. Его энергии хватало на всех: вставал в шесть – а иногда и в пять, – принимал душ, ехал на репетицию, затем – на стадион, играть в футбол с друзьями; после игры разгоряченный приезжал домой, еще раз принимал душ, снова ехал в театр или на пробы, возвращался, опять принимал душ и звал Таню на вечеринку. Иногда она соглашалась, думала, это полезно – бывать среди живых людей; что-то вроде упражнения – как стоять планку, только тренируешь мышцы не живота, а что-то другое – социальные навыки, может быть, или что-нибудь в этом роде. Но тренировки эти пока не приносили результатов, и все обычно заканчивалось тем, что она стояла в углу, смотрела на дверь и думала: если я сейчас вот так вот просто уйду, будет ли это невежливо? Как вообще люди обычно уходят с вечеринок? Есть ли какой-то особенный этикет ухода? Какой-то ритуал? Умом она, конечно, понимала, что никому дела нет, когда ты уйдешь, все пришли развлечься, двери открыты. Но она так боялась, что ее неверно поймут, – и это был самый сильный ее страх – быть неверно понятой, – поэтому стояла там, в углу и молча дожидалась конца вечеринки, разглядывала гостей: лица, костюмы, руки.
Затем к ней подходил уже немного опьяневший от алкоголя и всеобщего внимания Илья.
– Мне нравится, когда ты так смотришь.
– Как?
– Вот так, – он изобразил ее взгляд: прищурился, склонил голову набок. – Ты, типа, как антрополог, изучаешь повадки аборигенов.
Вместе они прожили полгода, и все это время она пыталась разгадать его секрет, понять, как ему удается быть таким естественным в своем теле. Их отношения меж тем портились с каждым днем, или, точнее, медленно выдыхались. С Ильей было нелегко – ему хватало проницательности, чтобы видеть ее болевые точки, но не хватало такта, чтобы в нужный момент промолчать. Одной из таких точек была татуировка у нее на шее.
* * *Первые месячные у Тани случились в тринадцать – проснулась утром от скручивающей боли внизу живота в мокрой постели, испугалась. Благо Лера была дома, успокоила, объяснила, помогла сменить простыни. А вечером вручила Тане конверт. В конверте был сертификат в тату-салон, и Таня сначала решила, что сестра издевается. Но Лера была серьезна:
– Ты теперь взрослая. Нужно это отметить – совершить что-нибудь необратимое.
– А сама ты как отметила?
Лера повернулась, подобрала волосы, и Таня увидела татуировку: маленький геральдический олень.
– Ого, – сказала она. – А если мама увидит?
– Не увидит, не парься, – ответила Лера. – Я уже три года так хожу – и ничего, под волосами же.
Спустя несколько дней, когда стало полегче, Таня отправилась в салон, пару часов листала альбом с образцами рисунков морских чудовищ и земноводных и наконец выбрала идеальный вариант. Мастера не смутило, что ей, очевидно, еще не было восемнадцати, и когда вечером она вернулась домой и прошла мимо кухни в детскую, ей даже говорить ничего не пришлось, Лера все поняла по глазам, зашла в комнату следом и тихо закрыла дверь.
– Покажи.
Таня подобрала волосы – на шее сзади над самым верхним позвонком блестел наклеенный мастером квадратный кусочек пленки. Лера чуть отклеила край – кожа под пленкой была красная, опухшая, обильно смазанная вазелином, но рисунок был отчетливо виден – маленькая черная ящерица.
– Офигеть. А почему ящерица?
– Не знаю. Просто понравилась.
Так у них появилась общая тайна, и эта тайна их сплотила; и вечером за ужином они сидели с матерью на кухне, и Лера подмигнула Тане, и Таня улыбнулась, и ей казалось, что это самый важный и самый интимный момент их общего детства – даже важнее того случая с крапивой. С тех пор Лера никогда не дразнила Таню и относилась к ней как к равной и, даже переехав на Камчатку, писала письма, которые всегда заканчивала одинаково:
P.S. передавай привет ящерице
Прошло уже десять лет, Таня с тех пор успела окончить педагогический, который изначально рассматривала лишь как запасной вариант и подавала в него документы только чтобы успокоить мать; во ВГИК ее в итоге не взяли, забраковали на стадии творческого конкурса, и Таня, разочарованная в собственном таланте – точнее, убежденная матерью в том, что никакого особого таланта у нее нет, «а кино – это вообще не профессия», – пошла учиться на учителя иностранных языков. Теперь, спустя годы, она вела курсы английского, готовила студентов к TOEFL и IELTS; зарплата была неплохая, она даже купила себе подержанный «Поло». В общем, многое в жизни менялось, но одно оставалось неизменным – Таня до сих пор тайком писала сценарии своих будущих фильмов и скрывала от матери татуировку – и перед встречей с ней заклеивала ящерицу пластырем, на всякий случай, чем приводила Илью в недоумение:
– Вот скажи мне, какой смысл в татухе, если ты ее прячешь? Тем более от мамы. Ты вот жалуешься вечно, что она тебя, типа, не принимает такой, какая ты есть. Я, конечно, не эксперт, но, по-моему, это у вас абсолютно взаимная фигня.
В двадцать три Таня наконец накопила денег и пошла учиться в киношколу, на специальность «режиссер неигрового кино». И этот факт скрывала от матери так же тщательно, как и ящерицу.
– А киношколу ты тоже пластырем будешь заклеивать? – спрашивал Илья. – Нехилый такой пластырь нужен. Такие вряд ли в аптеке продают. Вот клянусь, при встрече расскажу твоей маме все – и про татуху, и про кино.
Возможно, именно поэтому Таня их не знакомила, даже не собиралась. И очень иронично, что знакомство все же состоялось – за день до того, как она съехала от Ильи. И за три – до того, как мать исчезла.
* * *Позвонила соседка снизу, тетя Нина: «Танечка, дорогая, я, конечно, очень извиняюсь, но у нас тут мокрые пятна на потолке, а с люстры вода течет. Вот, слышишь? Это я ведро подставила».
Мать не брала трубку, и Таня кинулась искать ключи от ее квартиры. Илья сидел на диване и наблюдал за ней, спросил, в чем дело, и она рассказала про бедную тетю Нину, которую они стабильно заливают в среднем раз в два года, и еще мама трубку не берет, в общем, черт знает что, как обычно, надо ехать и исправлять. Илья поднялся с дивана.
– Ну что ж. Надо – значит поедем.
– Куда?
– Куда-куда, к маме.
Она не стала отговаривать – не до того было, – и через полчаса они уже стояли у двери, из-под которой на лестничную площадку медленно натекала лужа. Таня щелкнула замком, потянула дверь на себя, и вода небольшим водопадом через порожек выплеснулась ей прямо на кеды. В коридоре был караул – ботинки, тапочки и туфли, как лодки и гондолы, скользили по зеркальной поверхности воды. Таня бросилась в ванную, закрыла кран. В переполненной ванной плавали какие-то белые простыни, одну из них затянуло в сливное отверстие, другая забила запасной слив.
– Вы что здесь делаете? – раздался сонный голос матери в коридоре.
– Мама, твою мать, ты почему трубку не берешь?
– Я спала, – сказала она таким будничным тоном, словно это вообще все объясняет; посмотрела под ноги: – Кто мне тут разлил?
Таня достала с балкона полотенца и ведра, Илья снял кроссовки, закатал штанины и рукава, и они стали собирать воду, сначала ковшом и стаканом, затем – полотенцами. Мать пыталась помочь, но после Таниной просьбы поберечь спину пробормотала: «Вот только орать на меня не надо», – ушла на кухню и там поставила чайник.
Спустя час потоп удалось ликвидировать, и мать позвала Таню с Ильей пить чай. Она, похоже, выспалась, спина не болела, и настроение у нее было такое, словно потоп произошел не по ее вине и не в ее квартире. Когда Таня сказала, что надо бы, мол, узнать, насколько сильно пострадали потолки тети Нины, мать махнула рукой.
– Ой, да пошла она в баню! Она мне знаешь что? Она говорит, я слишком громко хожу. У меня костыль, – показала костыль, постучала им по полу, – я костылем хожу, але!
На плите засвистел чайник, и мать сменила тему.
– А вы, значит, у нас Илья, – уточнила она, Илья кивнул. Мать посмотрела на Таню. – А Таня мне про вас совсем ничего не рассказывала.
– И сейчас ты узнаешь почему, – прошептала Таня, когда мать отвернулась к плите за чайником. Кухня была такая маленькая, что переставить чайник с плиты на стол можно было, не вставая со стула.
– Я все слышу, – сказала мать и посмотрела на часы на стене, потом на Илью. – Сейчас четыре часа, почему вы не на работе? У вас же есть работа?
Илья улыбнулся – он помнил Танины рассказы о том, что мать первым делом всегда спрашивает о работе, таким же тоном, каким истовый верующий спрашивает о Боге.
– Я актер, – сказал он.
– Актер – это, конечно, хорошо, но у вас же есть какая-то работа?
– Мама!
– Что? Я просто спросила. – Таня выразительно посмотрела на мать, та вздохнула. – Ну, хорошо, а где вы познакомились?
– В гостях у общей знакомой из театра, – сказал Илья. – Танька пришла на актерские курсы записаться, а там я сидел. Да, кстати, можете поздравить ее – она недавно поступила в киношколу.
Мать как раз наливала кипяток в Танину чашку и вдруг замерла, с чайником в руке. Немая сцена продолжалась секунды две, затем мать словно оттаяла, вернула чайник на плиту и тихо сказала:
– Поздравляю.
Когда Илья вышел в туалет, мать посмотрела на Таню:
– И когда ты собиралась мне сказать?
– О чем?
– О чем, о чем, об этом.
Таня смотрела в стол – совсем как в детстве, когда ее отчитывали, – просто молча ждала, терпела, когда все закончится.
– Ну что ж, – сказала мать. – Ты сама выбрала эту жизнь. Не жалуйся потом.
Мать всегда находила слова, которые били больнее всего. А клише «ты сама выбрала эту жизнь» было одним из ее любимых; она использовала его как щит, как заклинание, чтобы прикрыться от реальности, или точнее – от тех нюансов реальности, которые ее не устраивали или которых она не понимала и не хотела понять. Иногда Тане казалось, что именно эта реплика, это клише, не дает им помириться и жить как нормальные люди. Потому что сама Таня видела все иначе. Она была уверена, что на самом деле мы почти ничего не выбираем. Не выбираем свое тело. Не выбираем темперамент. Не выбираем химию мозга. Не выбираем, где родиться. И самое главное – не выбираем родителей. Последнее мучило ее сильнее всего.
* * *В субботу Таня как обычно купила продуктов и поехала проведать мать. С пакетом наперевес она поднялась на третий этаж и нажала на кнопку звонка. Мать не открыла. Тогда Таня развернулась и постучала в дверь пяткой, как делала в детстве, – за что мать ругала ее, потому что на двери потом оставались следы обуви. Снова ничего. Тихо ворча, Таня поставила пакет на пол, сняла с плеча рюкзак и полезла искать ключи. Нашла, достала, вставила в скважину. Дверь поддалась, Таня шагнула внутрь и тут же заметила странное – коридор был совершенно пуст, ни этажерки для обуви, ни шкафа, ничего. Только голые стены, а кое-где – в местах, где стояла мебель, – даже обои другого цвета. Таня вышла на лестничную клетку, проверила номер – все верно, седьмая, никакой ошибки, да и ключ ведь подошел. И тем не менее все исчезло: люстры, ковры. Даже розетки. Даже старый болгарский гарнитур с кухни – и того не было. Минут пять – или больше, она точно не помнила, – Таня ходила по пустым комнатам с каким-то тревожным, сновидческим ощущением, будто из одной реальности случайно провалилась в другую, соседнюю. Увидела в ванне кучку пепла – старые фотографии. Не все прогорели дотла, обгоревшие куски лежали на белой эмали. Таня вышла на лестничную клетку и позвонила в восьмую квартиру. В двери защелкали замки – казалось, их там штук тридцать, – затем дверь приоткрылась – совсем чуть-чуть, сантиметров на десять, ровно чтобы просунуть голову, – в проеме появилась голова соседки, бабы Вали. Пару секунд, щурясь, она разглядывала Таню.
– Вам чего?
– Баб Валь, это я, Таня.
– Ой, Танюшка, привет! Как же ты выросла-то, совсем большая! Не узнала тебя, богатой будешь.
Расти Таня перестала классе примерно в восьмом, но баба Валя все равно при каждой встрече сначала не узнавала ее, а затем поражалась тому, как сильно она выросла.
Таня спросила про мать, и баба Валя ответила, что да, всю неделю шумели мне тут, мебель таскали.
– Кто таскал?
– Да откуда мне знать? Люди какие-то. В белых одеждах.
* * *В отделении полиции Таню направили в кабинет к лейтенанту Зубову. Был обед, и в кабинете пахло супом быстрого приготовления. Сам лейтенант Зубов был, что называется, человек без острых углов – пузо расперло рубаху, вот-вот пуговицы поотлетают. Таня обратила внимание на его ладони – фактурой и цветом они напоминали слегка поджаренные ломти белого хлеба, – и Таня на секунду представила, как он по утрам засовывает их в тостер и тут же поймала себя на мысли о том, какая дурацкая у нее все-таки фантазия. Почти каждое свое движение лейтенант Зубов сопровождал характерным вздохом: присаживаясь на стул, говорил «оп-па!» с таким видом, словно только что выполнил сложный акробатический трюк; вставание со стула сопровождалось напряженным «о-о-х», так тяжело ему было поднимать и передвигать себя в пространстве. Он слушал историю Тани с таким видом, словно его отвлекли от более интересного и важного дела, пару раз просил подождать, выходил куда-то, затем возвращался, с облегчением садился на стул – «оп-па!» – и говорил, что заявление писать пока рано. «Если через 48 часов не объявится, тогда и приходите». Таня спокойно отвечала, что правило «48 часов» уже давно отменили и по закону заявить о пропаже человека, особенно пожилого, особенно если вместе с человеком пропала вся мебель, можно и нужно как можно раньше, потому что каждая минута на счету. «Не хотите принимать заявление, пишите отказ», – сказала Таня. От этих слов лейтенант Зубов поморщился так, словно ему нанесли смертельное оскорбление, пробормотал что-то вроде «развелось грамотных» и протянул Тане чистый лист и ручку, пишите, мол, свое заявление, раз уж так не терпится.
Тем же вечером Таня вернулась в квартиру матери, чтобы еще раз перепроверить, не пропустила ли чего. Когда заходила в подъезд, под потолком увидела черный глазок камеры наблюдения. Позвонила в управу, спросила. Нет, камера не муляж, ответили ей, и поставили ее не менты, а местное ТСЖ, так что да, запись можно получить у дежурного.
Запись была черно-белая и зернистая. В кадре: двое мужчин заходят в подъезд, оба одеты опрятно, даже слишком опрятно. Затем перемотка – спустя 15 минут те же двое мужчин несут сумки к выходу, один из них придерживает тяжелую металлическую дверь, пропуская мать. Все трое садятся в такси. Таня записала номер и позвонила в службу сервиса.
«Два дня назад у вас был вызов, машина с номером 273. Одним из пассажиров была моя мать, с тех пор она не выходила на связь. Я хотела бы выяснить пункт назначения той поездки. Это возможно?»
«Одну минуту, – сказала девушка из службы сервиса, и в трубке заиграла „Весна“ Вивальди, затем, почти ровно через минуту – снова голос девушки. – Диктую адрес. Московская область, поселок Куприно. Поездка оплачена наличными. Могу выслать точку геолокации».
* * *Таня вернулась в полицию и рассказала о своем небольшом расследовании.
– Ну вот видите, – обрадовался лейтенант Зубов, – а вы переживали. Заявление вон еще написали! Погодите, сейчас найду его.
– Зачем? – спросила Таня.
– Как это зачем? Заберете. Мать же нашлась.
Таня тяжело выдохнула и, с трудом подбирая вежливые выражения, сообщила лейтенанту Зубову, что забирать заявление не собирается, что мать еще не нашлась и что с ней там сделали, в этом Куприне, пока неизвестно – надо как минимум съездить на место и выяснить.
– Ну вот и съездите, чего вы? – сказал лейтенант.
– Вы издеваетесь, да? – Таня как могла спокойно объяснила лейтенанту свои права и его обязанности. Лейтенант слушал ее с выражением «вас много, а я один» на лице, потом поднялся со стула и утащил свое туловище в соседний кабинет. Через минуту вернулся, но не один, а в компании другого лейтенанта. Этот был широкоплеч, гладко выбрит, опрятен и на удивление вменяем.
Два лейтенанта коротко посовещались.
– Скажите, – обратился к Тане новый лейтенант, – может быть, вы заметили дома что-то странное? Например, кучку пепла в раковине или типа того?