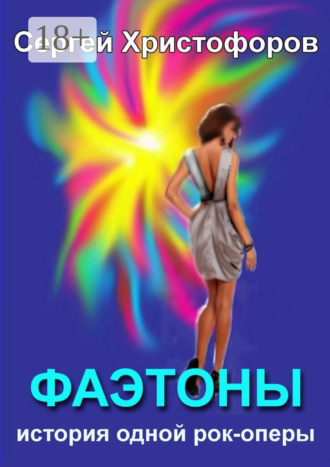
Полная версия
Фаэтоны. История одной рок-оперы
Еще на последних курсах университета я всерьез принялся рисовать. Тянуло меня к сюрру – Дали, Босх, дадаисты, – все это будоражило воображение. В армии художнические мои способности заметили. Начал я с оформления боевых листков, с портрета Жукова для командира роты, зарисовками в дембельских альбомах, а закончил должностью полкового художника при клубе. Таскать автомат тоже приходилось наравне со всеми – причислили меня к автороте. Ходил в караулы, бегал, прыгал, сдавал нормативы – но в основном занимался высоким искусством политического воспитания.
Не знаю, скорее всего, после армии я бы впрягся в эту лямку вытягивания из трясины безденежья своей ячейки общества, да так уж случилось, что ячейка эта распалась.
Короче, этой осенью я твердо решил поступать на художественно-графическое отделение пединститута. Подучусь, а там посмотрим, чего я стою. А потом – или в Питер махнуть, в академию, или плюнуть на все.
Моральным моим обязательством осталось сохранить для ребенка более-менее достойные алименты, хотя бы из расчета четверти от зарплаты плановика, то есть рублей тридцати в месяц. И с легкой душой я ушел в свободное плавание – уж тридцать-то рублей я ему дам, хоть бы и сам буду голодать.
…Жаль, летом приходилось оставлять насиженное место – мою мастерскую – но летом вся природа была мастерской, и летом я полностью отдавался пленэру, а натюрмортами и своими «картинками» вполне мог заниматься и дома – в общежитской комнатухе.
Единственно, от чего я страдал здесь, на даче, но и к чему стремился – одиночество, отрыв от внешнего мира. Ни радио, ни телевизора. Но иначе было нельзя: я и так слишком много времени потерял. Я твердо верил: чтобы добиться чего-то, нужно было сконцентрироваться, уйти от всех соблазнов. Надо ж было что-то успеть в этой жизни, что-то сделать.
Тем более что половину времени я все равно проводил в городе. Сомневаюсь, что высидел бы тут, на природе, хотя бы неделю кряду.
Я с удовольствием закурил и вытянул ноги в любимом раздолбанном кресле, разглядывая панно на противоположной стене. Оно называлось «Радость». Мое творение где-то двухлетней давности – сразу после дембеля. На нем были изображены голые купальщицы с летающими вокруг них пузатыми ангелами, поливающими купальщиц из пузатых бочонков. Теперь-то вижу, что халтура, и огрехи вижу, но относиться к своим творениям по гамбургскому счету я не мог. Что-то было в этой картине, но я почти сразу, как закончил ее, стал испытывать неловкость при ее разглядывании. Впрочем, хозяева, как и их многочисленные (особенно подвыпившие) гости, были довольны, хвастались окрестным бабушкам, а те плевались: тьфу, срамота!
Был, правда, один человек, мой хороший друг… Только глянув он засомневался: «Что-то как-то… Прости, но такое впечатление, что ты исписался…» Нет, тогда я внутренне не был с ним согласен, но потом… Потом стал испытывать неловкость. И, кстати, начал смотреть по-другому на все, что делаю.
Впрочем, я привык к «фреске», как к чему-то неизбежному. Кресло стояло как раз напротив, и, отдыхая у «камина», я, так или иначе, рассматривал дело рук своих, точнее блуждал по ней взглядом. Ладно, не хуже, чем на стене в каком-нибудь сельском клубе. Там хоть и профессионалы рисовали (если), но у здесь зато душой!
А вообще, у меня мечта была – расписывать сельские клубы. Знакомые художники говорили – за лето столько накалымишь, что потом можно спокойно писать свои нетленки, это даже если каждый день выпивать. Но у них был опыт, была школа, было мастерство, которое, как известно, не пропьешь. Вот выучусь…
«Но чем теперь-то заняться?» – подумал я, посмотрев на часы. Уже почти три! Вот же ж! С утра ничего толком не сделал, а теперь обедать пора… Это было самое досадное в моей дачной жизни. Поесть-то я еще как-нибудь мог в лихорадке работы, но готовить… Приходилось пересиливать себя, бросать раскочегаренную работу, ибо даже неделя полуголодного существования с пирожково-кефирными обедами выбивала меня из колеи: я смотреть не мог ни на холсты, ни на краски и кисти. А уж тем паче на какую-нибудь колбасу с луком, которые страсть любил устанавливать для натюрмортов.
«Суп в пакетах, консервы – все есть. За полчаса сварю», – думал я сейчас, – «Поем, потом придется приниматься за «Фаэтона»…
Вот с «Фаэтоном» работа не шла.
Меня на самом деле заинтересовало участие в гималеевском прожекте. Дело, конечно, не в каком-то престиже. Какой уж там престиж: самое известное, что сделал Гималеев, если судить по официальным источникам – это «Три поросенка, делящие шкуру неубитого медведя». Нет-нет, так не называлась его постановка. Так назывался фельетон в местной комсомольской газете, и касался он спектакля по традиционным «Трем поросятам» в студии детского творчества при школе номер 33. Фамилия автора-постановщика осталась за кадром, и все критические стрелы были посланы в директора школы, допустившей такое безобразие. Гималеев долго ходил героем и показывал всем знакомым заметку в восемнадцать строк, пока кто-то ее не выкрал (по его словам), хотя могли и конфисковать вместе с Солженицыным и Абрамом Терцем. А возможно, пошла по стопам той «Иностранки». С туалетной бумагой в стране тоже была напряженка.
Ну, это ладно. Скандальная слава, все-таки.
Как я говорил, мне было интересно именно поработать оформителем какого-никакого спектакля. Вдруг когда-нибудь пригодится опыт? Да и просто было интересно. Опять же, коллектив, девушки, бесплатный буфет… Где он только находил средства для спаивания коллектива? Ну, бутылки сдавал, это понятно.
Нет, все-таки в следующий раз надо будет принести с собой.
А вот влезть в постановку душой, как того желал Гималеев, не получалось. Прошло уже две недели, а я так и не мог придумать чего-нибудь путного, тем более, что с работой театрального художника я был не знаком совершенно. Но это и не нужно, уверял Гималеев. Не потребуется убирать шоры с глаз. У него потому, мол, и актеры-то непрофессиональные – лучше лепить из податливой глины, дескать, чем из мрамора. Вот интересно, а где бы он взял профессиональных актеров? Да, к слову сказать, и профессионального художника!
Словом, он не торопил – мы как-то сразу договорились, что спешить особенно некуда – пока ему за глаза хватит работы с музыкальной частью и актерской.
В общем, на первых порах я решил нарисовать несколько «картинок», какие ассоциировались бы у меня с будущей постановкой. Только вот ведь закавыка – они у меня всегда выходили сами по себе, а стоило как-то привязать сюжет картинки к чему-то определенному – получалась какая-то лажа. Помню, еще в универе товарищ попросил нарисовать типа сюрреалистический портрет подружки на день ее рождения. Уж чего я там только не наборогозил на фоне выцветщих фиолетовых скал и зеленого моря… Картинка ему понравилась, он ее с удовольствием забрал себе, но подружке подарил другую, из ранних моих работ. А недавно я в своем стиле написал портрет Менделеева для кабинета химии – затворенного в клеточках его Таблицы и с бутылкой патентованной водки в руке. Декану Степану Петровичу понравилось, он выдал мне спирту, но в кабинете вешать не стали, ограничились препараторской, где картина имела кратковременный успех. Во время какой-то комиссии ее заметили и велели убрать. Ну, у Степана Петровича дома она все-таки висит, сам видел. В лоджии.
И вот теперь…
Нужно ведь было придумать что-то эдакое… В противном случае, Гималеев мог просто прошерстить мои папки с рисунками (а мог бы и просто залезть в альбомы более известных обществу художников – хотя бы и Леже с Пикассо) да и выбрать на свой вкус. На что-то другое же он рассчитывал, приглашая в соратники именно меня?
Словом, работа не клеилась. Ничего принципиально нового, отличного от того, что я рисовал раньше, в голову не приходило.
Я поставил кастрюлю на плитку, приготовившись разрезать пакетик с супом. Раздалось вдруг бряканье дверного колокольчика.
Кряхтя от досады, я встал – гостей мне было ждать неоткуда, редкий человек знал о моем здешнем существовании, а тот, кто знал, был в курсе, что я его не жду! Хватает того, чтоб моё постоянное жилье давно уже превратилось в проходной двор, из которого я сам убегал.
Скорее всего, это были соседи, заскочившие на дачу, чтоб проверить, на месте ли их сад и огород. А, может, местные власти в лице сторожа. Не приведи Господь, ему опять стало скучно, и он приплелся, чтоб перекинуться со мной парой слов (в надежде на угощение). Рановато. Подходя к двери, я на секунду глянул в окошко, выходящее на крыльцо – нет, там был не один человек, а мелькнувшая в окне дубленка не походила на тулуп сторожа.
Я открыл дверь.
– Ну, слава тебе, Господи! Мы уж искали по всему городу! Думали, если тебя и тут нет, то мы разнесем эту избушку в ш-ш-шепки!
Таким вихрем обрушился на меня не кто иной, как Гималеев. Он сразу же загородил весь дверной проем своей массивной фигурой – я не мог разглядеть, кто с ним.
– Командир, езжай! – крикнул он, обернувшись, видимо к такси. Только тут я увидел его спутника.
Вернее, спутницу. Это была Лена.
Гималеев разобрался, наконец, с таксистом, и под звуки загудевшего с натугой мотора, вступил в мою обитель. Странно, что я не обратил внимания на звук двигателя, когда они подъехали, впрочем, люди тут жили и зимой, и часто проезжали мимо моего домика.
– Помоги даме! – небрежно бросил он мне и, не раздеваясь сам, протопал прямо в комнату.
– Ну и жарища на улице! – кричал он уже оттуда, – Совсем весной пахнет!
В такси у него жарища… Я смущенно и оттого неуклюже помог Лене снять пальто. Несколько раз взглянул на нее, стараясь поймать ее взгляд, но безуспешно. Она была как бы закрыта, запеленута и недостижима. Однако, сам факт ее приезда, казалось, говорил о чем-то. Не могла же она просто сопровождать Режиссера? Хотя, кто ж их знает?
Лена, взглянув на себя в зеркало (даже и здесь я не сумел поймать ее взгляда, хотя обычно люди, отводя глаза при встрече, в зеркале-то уж обязательно на вас посмотрят) поправила волосы и прошла в комнату вслед за Гималеевым.
– А! Работаешь! – неслось оттуда, – Молодец, молодец! Леночка, ты ведь не была еще здесь?
– Нет, – это было первое, что услышал я от нее сегодня. – Откуда?
О, черт! Сейчас он примется рассказывать ей об Истории Моей Мастерской, показывать Фреску… А она будет вежливо (мне почему-то почудились исходящие от нее холод и ирония) рассматривать ее. Поэтому я сразу решил прервать поток его словоизвержения и принялся с рвением снимать с него дубленку и усаживать его в самое почетное кресло – напротив моего продавленного и напротив «Радости». Тут же я завел и спор о погоде, пытался острить, но Лена оставалась все такой же безучастной. Поссорились они, что ли, дорогой? Она скромно сидела на диванчике и даже, слава Богу, не крутила головой по сторонам, рассматривая стены. Тем самым, не вызывая экскурсоводческих потуг Гималеева.
Я предложил им закурить; мне недавно подфартило купить по случаю фирменный «Винстон». Лена взяла сигарету, не взглянув на меня, и только слегка кивнула.
– Как понимаю, это не просто визит вежливости? – спросил я, наконец, Гималеева, – С инспекцией?
(Неужели я не видел ее целых две недели? И почти ни разу не вспомнил о ней. Сейчас это показалось невозможным!)
– Да-да! Пора проверить, чем ты тут занимаешься! – в тон мне ответил Гималеев, – Не зря ли хлеб свой ешь?
– А я ем какой-то хлеб?
Мне показалось, что Лена хихикнула.
Он, конечно, оценил мой юмор, но, судя по всему, слегка обиделся.
– История, она рассудит, – пробормотал Гималеев. – Впрочем, Пэйн (это меня так звали иногда – от английского слова «painter», по-русски, «художник»), я давно уже хотел собраться, посидеть, обсудить… Без лишнего народа, чтоб никто не мешал… Без суеты…
– Еще скажи без бутылки! – вставил я довольно пошло.
– Обижаешь! – воскликнул он.
Бедняга, я совсем не то имел в виду! Но на столе мгновенно появилась бутылка. Армянский коньяк, 3 звездочки! Неплохо стали платить ночным сторожам…
Понятное дело – поговорить, обсудить – еще бы он приехал без бутылки! Только при чем тут Лена?
– Э-э-э, Джим (ну, так мы его звали…), я не пью, когда работаю,
– Ничего, на сегодня тебе отгул.
– Сам предложил! На полноценный отгул не хватит, но если по сусекам поскрести… то у меня тоже есть.
Вид у меня был, наверное, глупый. Что у меня есть? Армянский коньяк? Нет, ну две хозяйские бутылки, действительно, имелись в подполе, на всякий случай. Водки. Я тупею в обществе хорошеньких женщин. Иногда. Черт возьми, в этот раз она смотрела прямо на меня! Пристально и (о, больная фантазия!) скептически.
(Когда мы вошли в «гримерку», то попали словно в большой улей. Некоторое время мы еще держались вместе, потом только переглядывались… Но разъединялись, разъединялись… А потом вдруг оказались рядом…)
Я осекся.
– Если не возражаете, пойду, приготовлю что-нибудь поесть, – нашелся я после некоторой паузы. – Как раз собирался суп варить.
– Суп? С коньяком? – расстроился Гималеев, – Ленк, там у нас лимон, что ли был… (он похлопал себя по карманам).
– У тебя с утра один лимон, – вдруг подала голос Лена, – Давай, я займусь. Где у тебя тут что, Сереж?
Я замлел от этого «Сереж», суетливо повел ее на кухню и стал объяснять, как пользоваться плиткой, показывать свои припасы и советовать, что из чего можно приготовить. Это про рыбные консервы… Она не смотрела на меня и слушала рассеянно, а на губах ее играла легкая усмешка. Мне захотелось вдруг прикоснуться к ней, обнять, но я конечно только покрутился на кухоньке и после своих ц.у. потерянно удалился. Дурень. Ну, схлопотал бы лишний раз по морде, а если б не схлопотал?
Странно, но я почему-то не брал в расчет Джима. Откуда была такая уверенность, что она с ним просто за компанию? Да, тогда в «театральном буфете» он, набравшись, уверял меня, что с Леной у него «нуль отношений», и дорога мне открыта (хотя я и не спрашивал), но мало ли – две недели все-таки прошло, да и это ее замечания насчет лимона с утра…
Гималеев тем временем пересел в мое (!) кресло у камина и уже ждал меня. На столике возле него стояли наполненные коньяком две рюмки.
– Вас не дождешься. Ну, будем!
Он опрокинул содержимое стопки в рот, и его перекорежило.
– Никак с глубокого? – участливо спросил я.
– Как обычно, почтенный. Думаю, перед обедом не помешает. Я всегда перед тем, как подадут горячее… Лучший способ…
Он, стало быть, и на обед с переменами блюд рассчитывает? Льва Николаевича начитался?
Я вопросительно кивнул в сторону кухни. Удобно ли без гостьи?
– Нет, – понял он меня, – Ей пока не стоит. Еще пересолит чего-нибудь. Бабы они того… Ну, давай, что ли? За успешное начало работы!
Налив себе еще одну, он теперь дождался, пока мы чокнемся.
Мы выпили, закусили размякшей шоколадкой, извлеченной Гималеевым из кармана; теперь он долго отфыркивался и тряс головой. Наконец отдышался и начал:
– Можешь меня поздравить, Пэйн! Мы закончили всю музыкальную часть и даже записали фонограмму. Неплохо, да? Всего месяц работы! Вот что значит твердое руководство!
– Молодцы! – похвалил я.
– Еще бы! Ребята поработали на совесть. Дневали и ночевали в клубе. (Не сомневаюсь, подумал я). Я договорился с нашими звукачами. Алкаши еще те, но делают все профессионально.
– Еще бы, – кивнул я.
– Короче, ты не поверишь, но мне и самому нравится. Да ты сейчас послушаешь, я запись привез. Так что, работай и работай. Если все остальное будет на таком же уровне, нас явно ждут слава и миллионы.
– И миллионы покоренных сердец, – продолжил я его затаенную мысль.
Неужто Гималеев сподобился довести что-то до конца? Впрочем, Юра – мог. Музыка – это ж его детище. Он мог и «со звукачами» договориться и записать, и все остальное. Возможно даже и вопреки Гималееву.
– Но работа, по сути, только начинается! За голову схватишься! – продолжал Гималеев, – До этого я только мизансцены расставлял, да и были по музыке варианты, а теперь надо уже набело делать. Снова по тексту прошелся… В общем, решил передохнуть недельку, отвлечься, чтоб глаз не замылился. И всех распустил. Вот решил тебя проведать, порадовать.
– Мне тоже – отпуск?
– Э, тебе работать и работать теперь!!!
– Джим, твоя вещь будет лучше «Христа-Суперзвезды»? – спросил я.
Он задумался. Для него не существовало вопроса, талантлив ли он. Но сравнивать себя с величинами мирового масштаба он не любил. Как в анекдоте про Василия Иваныча и море водки.
– Если серьезно… задумчиво сказал он, – То по фонограмме ты сам можешь сравнить. А спектакля их я, к сожалению, не видел… В общем, есть у меня одна задумка. Что там «Суперзвезда»! Вещь, конечно, великая, но при чем тут театр?
Эка! Ну и, слава Богу! Узнаю настоящего Гималеева.
– Ну, тогда рассказывай, пока ты в форме!
– Давай! – жадно откликнулся он, наливая.
Мы выпили.
– Ты либретто читал? – строго спросил Гималеев. Третья рюмка прошла у него лучше.
Погоди-ка, – я порылся в куче хлама возле входа и извлек несколько машинописных листков, – Вот мне Юра передал.
А… – он глянул пренебрежительно на листочки, – Старый вариант. Я уже нашел человечка, он все переписал. В ноты попадает.
Что ж ты… – начал было я, но он перебил:
Там, по сути, для тебя, как художника, ничего не меняется… Я, кстати, вообще хотел на английский перевести, да нет достойных переводчиков.
Переведешь еще, – вяло поддержал я, надеясь, что Джим не вспомнит, что я, собственно, и подрабатываю переводом, – На международную арену как выйдешь.
«Сейчас про „АББУ“ начнет», – предположил я.
Он и начал:
– Вот это ты в правильном направлении мыслишь. Кто бы знал эту «АББУ», если б они до сих пор пели на шведском?..
Хотя, в принципе, – признался я, – Кое-что, действительно, показалось мне корявым… Я не про «АББУ», про оперу.
Да там все было корявым… Но это фигня… Слушай, у тебя посуды нет посолиднее? Чего из этих наперстков пить?
Стаканов почему-то на даче не водилось, – только бокалы сомнительного хрусталя, зато вместительные. Дело пошло веселее.
3
Если коротенько, то сюжет оперы был незамысловат. Я уже упоминал, что знакомство мое с «Фаэтоном» ограничивалось детским мультиком. А там собственно миф растянулся минуты на две. Дескать, сын Бога Гелиоса попросил у отца прокатиться на колеснице, чуть не спалил Землю, и Бог Юпитер (или Зевс?) пустил по нему молнию прямой наводкой. Колесница и развалилась на куски, рухнув оземь. Сестры Фаэтона Гелиады его оплакивали, и на этом все. Ну, и длинное описание гипотезы о разлетевшейся на куски (астероиды) какой-то планеты между Марсом и Юпитером и что-то про полет на ракете к этому поясу астероидов. Это уже не по теме оперы, стало быть, да и не было никаких у Гималеева космонавтов. А зря!
Юра, видимо, не поленился, сходил в библиотеку, почитал «Мифы Древней Греции» (а, может, Древнего Рима) и сюжетик немного раздвинул. Там паренек сначала весело общался с сестрами-Гелиадами (одну из них играла Лена), с матерью – незаконной супружницей Гелиоса), потом бился с какими-то друзьями, не верившими в его неземное происхождение. Попутно развивается тема общения матери с незаконным мужем Сириусом, тьфу, или Гелиосом, еще что-то затейливое… Потом Фаэтон отправляется во дворец своего незаконного отца. По пути попадает в немногочисленные приключения, типа общения с Кентавром и одноглазым Полифемом (фантазия автора?), добирается, наконец, до дворца. Там как раз этот с опахалом… Гелиос принимает незаконного сына приветливо и обещает выдать любую справку о его принадлежности к своим отпрыскам. Справка не нужна, нужно серьезное доказательство. Просит прокатиться на колеснице по небу, чтоб все это увидели и уже больше не доставали.
Вечер перед поездкой. Общение с какой-то Химерой, разговоры с лошадьми (конями), мысленные переговоры с одной, самой любимой из Гелиад (Лена). С утра тверезый и бодрый забирается в колесницу…
Кстати, я только потом спросил себя: а как, собственно, Гималеев хочет внедрить в постановку лошадей (коней) и пресловутую колесницу? Ну, с телегой еще куда ни шло, но лошади? Позаимствует костюмы в детском театре? Там, между прочим, имеется веселенький кусок с неплохой музычкой в беседе с лошадью (конем); Юра молодец…
Ну, в общем, потом он скачет по небу на этой колеснице. С музыкой тут все в порядке – запилы а ля Джим Хендрикс, тяжелый металл, все такое. Юпитер (или Зевс) стреляет. Все рушится. Юноша на полу сцены, лошали неизвестно где, как и кони, куски телеги тут и там разбросаны. Прощальный танец Гелиад. Монологи главной Гелиады (Лены), матери Фаэтона, Гелиоса.
Ну и там, по мелочи.
Судя по плохонькой записи, которую мне дали в первый вечер, опера растянулась на сорок минут. И то хорошо, думал я. При желании можно растянуть и на час, а куда больше-то?
Гималееву, стало быть, эта версия казалась слишком короткой и простой…
– Примитив какой-то получается, – пожаловался Гималеев.
– Почему примитив? – удивился я, – Вполне компактно. Смысл ясен. Музыка нормальная.
– Да ну… – махнул рукой Джим.
– Гармонично, – вспомнил я еще одно волшебное слово.
– Думаешь?
Я пожал плечами.
– А что тут играть? – Гималеев посмотрел на меня так, как будто это я был автором, – Что тут ставить? Просто переносить на сцену готовый материал?
– Я так понял, об этом тебя и просит Юра?
– Юра просит?! Здрассте, приехали! Ничего он не просил. Я случайно услышал про эту оперу. Дали послушать. По-моему, ее никто и ставить не собирался. Разве что, он сам, ну, это, ты понимаешь… Да и кто будет это ставить? Он пусть спасибо скажет. Я ему, можно сказать, шанс даю засветиться. Музыка-то так себе, я скажу… А слова…
– От меня-то что ты хочешь? – расстроился я за Юру.
– Да ничего я от тебя не хочу!
Он налил еще по рюмке. Выпили. Я уже почувствовал, что готов выслушивать его высокие мысли. Мало ли, вдруг гениальное что?
– Я к тебе, собственно, за советом, – мотнул головой Джим. – Зря, что ли?
А, вот оно как! Вовсе не инспектировать приехал он меня, а поплакаться в жилетку и получить бесплатную консультацию. Хотя, почему бесплатную? Коньяк, такси… Лена! (тьфу, ну это-то к чему!)
Впрочем, чего я усложняю? Ну, хочет спросить, пусть спрашивает. Чего ж не включиться в творческий процесс, особенно если с коньяком?
– Ну, как бы, да… – проговорил я с сомнением, – Может быть, и простовато все выходит. Может, ты и прав.
– Еще бы! – вдохновился Джим и снова потянулся к бутылке.
Эге, так и девушке не хватит. Я сделал знак, что пропускаю. Он кивнул и тоже не стал наливать.
– Прощупываю варианты… – значительно сказал он, угомонившись.
…Заглянула Лена:
– Вы тут еще с голоду не распухли?
– Нормуль! – успокоил он ее.
– Я скоро! – она оценила взглядом ход распития бутылки коньяка, покачала головой.
– Лен, будешь? – спросил я, чувствуя неловкость.
– Буду, конечно. Но потом.
– Мы оставим… – глупо промямлил я. Гималеев посмотрел на меня с изумлением.
Я с твердостью честного человека отодвинул от него бутылку. К счастью, Лена не оценила моего подвига, так как уже скрылась на кухне.
– Я тут, гхм… – он полез в портфель, с которым приехал. Старенький такой портвейн, бутылок на пятнадцать жигулевского. Неужели еще одну привез?
– Я тут, гхм… – второй и не пахло. Гималеев извлек из портфеля толстую тетрадь в клеенчатом переплете. – Вот чего нарыл… Вернее, не то, чтобы нарыл… Короче, есть мыслишки. Не в службу, а в дружбу, почитай, а?
– А что это?
– Ну, ты почитай… Потом обсудим. Если в двух словах, хочу вставить. Совсем другой коленкор ожидается. Я хоть никогда пьес и не писал…
– Но надо же когда-то начинать! – продолжил я.
– Посмотри, а? – он сменил тон с напыщенного на слегка просящий, даже заискивающий.
– Ленке пока не показывай! – вдруг добавил он и, привстав, сунул тетрадку в ворох каких-то тряпок в углу.
Что там у него? Не порнуха ли? Или, чего хуже, антисоветчина!
– Это я так… – пошевелил он бровями, – Нет, ну она в курсе, вообще-то. Но лучше потом как-нибудь… Почитаешь?
– Да ладно, – согласился я.
– Только не затягивай… Да там читать-то…
– Ладно! – я легким ударом ладони по колену оформил сделку. Сказал, почитаю, значит, почитаю. Джим окончательно успокоился, даже выдохнул.
***
…Мы быстро собрали на стол. Обед получился. Насколько он мог получиться из консервов. Хотя перемена блюд составила короткий список (суп и бутерброды, которые можно было считать за хлеб к супу, а можно и отдельно), Гималеев про Толстого больше не вспоминал и накинулся на еду с аппетитом. Ну, понятно, с утра лимон…

