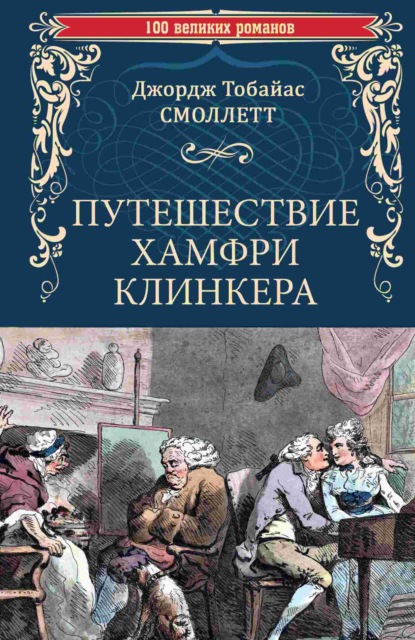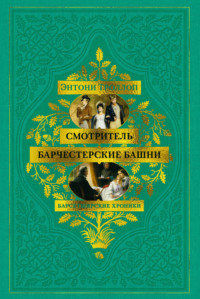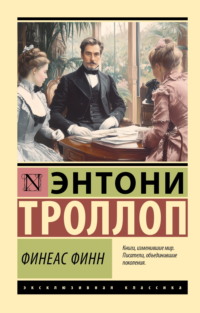Полная версия
Барчестерские башни
На следующий день Элинор рассказала об этом визите отцу и выразила мнение, что мистер Слоуп не так черен, как его малюют. Мистер Хардинг широко открыл глаза, но ничего не сказал: согласиться с похвалой мистеру Слоупу он не мог, а говорить дурно о людях не любил. Однако визит этот ему не понравился: как ни был регент простодушен, он не сомневался, что мистер Слоуп приходил с какой-то задней мыслью, а не ради удовольствия обольщать своим красноречием двух дам.
Впрочем, мистер Хардинг пришел к дочери не для того, чтобы хвалить или порицать мистера Слоупа. Он пришел сказать ей, что в богадельню Хайрема вновь будет назначен смотритель, и, вероятно, он вернется в свой прежний дом и к своим подопечным.
– Но не к прежней роскоши, – заключил он, смеясь.
– Почему же, папа?
– Новый акт парламента, который все упорядочил, ограничивает мое содержание четырьмястами пятьюдесятью фунтами в год.
– Четыреста пятьдесят вместо восьмисот! – воскликнула Элинор. – Да, это немного. Но ведь тебе опять отдадут наш милый старый дом и сад.
– А это важнее денег, милочка, – ответил он; его живой тон и энергичные шажки, которыми он мерил гостиную дочери, говорили об искренней радости. – Это важнее денег. У меня будут дом и сад, и более чем достаточное содержание.
– И тебе не нужно будет заботиться о мотовке дочери. – И, взяв отца за локоть, молодая вдова усадила его на кушетку рядом с собой. – От этого ты будешь избавлен!
– Да, милочка, и мне будет без нее очень одиноко. Но не надо пока думать об этом. Что до денег, то такого содержания мне с избытком хватит. Я вернусь в свой дом… теперь можно и признаться, что жить на квартире не слишком удобно. Квартиры хороши для молодых людей, но в моем возрасте это… не то, чтобы недостойно, но…
– Что ты, папа! Ничего подобного! Никому и в голову это не приходило. Во всем Барчестере никого так не уважают, как тебя, с тех пор как ты поселился на Хай-стрит. Ни настоятеля с его резиденцией, ни архидьякона с пламстедским домом.
– Архидьякон не поблагодарил бы тебя за эти слова, – заметил мистер Хардинг, улыбнувшись тому, что его дочь ограничила свой пример высшими духовными лицами Барчестерской епархии. – Но, во всяком случае, я буду рад вернуться в наш старый дом. С тех пор как я узнал, что это решено, я вообразил, будто мне тесно без моих двух гостиных.
– Так поживи пока у меня, папа. Ну, пожалуйста!
– Спасибо, Нелли. Но не стоит. Это ведь означало бы два переезда. А я буду очень рад вернуться к моим старикам. Но увы! За эти годы шестеро из них скончались. Шестеро из двенадцати. А остальным, как я слышал, живется плохо. Бедняга Банс!
Банс был один из оставшихся в живых обитателей богадельни – девяностолетний старик, верный друг мистера Хардинга.
– Как обрадуется Банс! – воскликнула миссис Болд, радостно захлопав в ладоши. – Как обрадуются они все, когда ты вернешься к ним. И, конечно, они снова будут жить в ладу.
– Однако, – сказал он со смешком, – у меня появятся новые ужасные заботы – двенадцать старушек и экономка. Ну, как я справлюсь с двенадцатью старушками и экономкой?
– Со старушками будет справляться экономка.
– А с экономкой кто? – осведомился он.
– С ней не надо справляться. Вероятно, это будет очень важная дама. Но где она поселится? Не в доме же смотрителя?
– Надеюсь, что нет, милочка.
– Ах, папа! Я не согласна на мачеху-экономку!
– Это тебе не грозит, милочка. То есть в той мере, в какой это будет зависеть от меня. Но для экономки и старушек будут строить новый дом, хотя место для него пока не указано.
– А экономку уже назначили? – спросила Элинор.
– Еще не назначили и смотрителя, – ответил ее отец.
– Но ведь, кажется, известно, кого назначат, – сказала она.
Мистер Хардинг подтвердил это: так сказал архидьякон, объяснив, что епископ и его капеллан не имеют власти назначить кого-нибудь другого, даже если у них будет такое желание и хватит наглости о нем заявить. Архидьякон считал, что теперь, когда дела богадельни урегулированы парламентским актом, у епископа нет другого выбора, хотя мистер Хардинг и сложил с себя обязанности смотрителя без каких-либо условий. Так считал архидьякон, и тесть ему верил.
Доктор Грантли решительно возражал, когда мистер Хардинг решил отказаться от этого места. Он пытался его отговорить. По его мнению, мистеру Хардингу вовсе не следовало обращать внимания на бурю негодования, разразившуюся из-за восьмисот фунтов, которые смотритель получал из средств такого благотворительного учреждения; архидьякон даже теперь считал поведение своего тестя малодушным и недостойным. А в уменьшении смотрительского содержания он усматривал жалкую уловку правительства, отступившего перед наглыми газетенками. Доктор Грантли утверждал, что правительство не имеет никакого права распоряжатъся имуществом, завещанным богадельне, и назначать содержание смотрителю независимо от его суммы – право это принадлежит только епископу и капитулу. По его мнению, правительство столь же незаконно навязало благотворительному заведению и двенадцать старух – почему в таком случае не двенадцать тысяч? Он пылал негодованием. И забывал, что правительство ничего подобного не делало и не присваивало себе подобных прав. Доктор Грантли совершил обычную ошибку, приписывая правительству, бессильному в делах такого рода, действия парламента, в делах такого рода всемогущего.
И все же, хотя архидьякон был убежден, что эти перемены лишили пост смотрителя барчестерской богадельни прежней славы и почета, что вмешательство либералов осквернило это заведение, что уменьшение содержания, старухи и прочие новшества значительно изменили все к худшему, он был достаточно практичен и вовсе не желал, чтобы его тесть, имевший сейчас лишь двести фунтов в год на все свои нужды, отказался от этого поста, пусть даже оскверненного, уже не почетного и поставленного под нежелательный чиновничий контроль.
Итак, мистер Хардинг решил вернуться в свой старый дом при богадельне и, надо признаться, по-детски этому радовался. Уменьшение содержания его нисколько не трогало. Экономка и старухи несколько угнетали его, но он утешился мыслью, что городским беднякам это принесет пользу. Ему была немного неприятна мысль, что его возвращение в богадельню будет как бы милостью нового епископа, которую к тому же придется получить из рук мистера Слоупа, но архидьякон заверил его, что ни о какой милости тут не может быть и речи. Назначение прежнего смотрителя все считают само собой разумеющимся. Вот почему мистер Хардинг без колебаний объявил дочери, что вопрос о его возвращении в их старый дом можно считать решенным.
– И тебе не надо будет просить об этом, папа.
– Разумеется, нет, милочка. Не могу же я просить о чем-либо епископа, с которым почти не знаком. И, конечно, я не обращусь к нему с просьбой, исполнение которой, возможно, зависит от мистера Слоупа. Нет! – добавил он с несвойственным ему жаром. – Я буду очень рад вернуться в богадельню, но я не вернусь туда, если об этом мне нужно будет просить мистера Слоупа.
Эта гневная вспышка была неприятна Элинор. Мистер Слоуп не стал eй симпатичен, но она поверила, что он питает к ее отцу большое уважение, и считала, что их отношения не должны быть враждебными.
– Папа, – сказала она, – мне кажется, ты неверно судишь о мистере Слоупе.
– Неужели? – спокойно спросил он.
– Мне кажется, что да, папа. Я думаю, произнося проповедь, которая так рассердила архидьякона и настоятеля, он вовсе не хотел проявить неуважение к тебе.
– Я, милочка, и не предполагал этого. И не задавался вопросом, хотел он этого или не хотел. Такой пустяк не заслуживал бы внимания, а тем более внимания капитула. Но боюсь, он проявил неуважение к установленному ритуалу англиканской службы.
– Но ведь он мог считать своим долгом открыто выступить против того, что настоятель, и ты, и все мы здесь одобряем?
– Вряд ли долг молодого человека – грубо нападать на религиозные убеждения священнослужителей старше его и возрастом и саном. Простая вежливость, не говоря уж о терпимости и скромности, требовала, чтобы он промолчал.
– Но мистер Слоуп сказал бы, что в подобных делах он не может молчать, не нарушая велений своего Творца.
– И не может быть вежлив?
– Этого он не говорил, папа.
– Поверь, детка, слово божье не требует, чтобы христианские священнослужители оскорбляли убеждения или даже заблуждения своих братьев; и религия, как всякое иное призвание, только выигрывает от вежливости и такта. Как ни грустно, я не нахожу оправданий для проповеди мистера Слоупа. А теперь, милочка, надень-ка шляпку, и мы прогуляемся по саду богадельни. С тех пор как мы оттуда уехали, у меня ни разу не хватило духу даже заглянуть туда. Но теперь – другое дело.
Элинор позвонила, отдала множество распоряжений относительно драгоценного младенца, которого скрепя сердце покидала на целый час, и отправилась вместе с отцом посетить богадельню. И для нее, как для него, это была запретная земля с того самого дня, когда они вместе покинули стены своего старого дома.
Глава IX. Семейство Стэнхоуп
Прошло три месяца правления доктора Прауди, и в епархии уже можно заметить перемены, свидетельствующие, во всяком случае, об энергии деятельного ума. Например, отсутствующие священники получили приглашение вернуться, столь недвусмысленное, что уклониться было невозможно. Милейший покойный епископ Грантли был излишне снисходителен в этом вопросе, а архидьякон смотрел сквозь пальцы на отсутствие тех, кто мог сослаться на благовидный предлог и щедро платил своему заместителю.
Больше всех в епархии грешил этим доктор Визи Стэнхоуп. Прошло много лет с тех пор, как он в последний раз исполнял свои обязанности, и причиной тому было лишь его отвращение к ним. Он был соборным пребендарием, владельцем одного из лучших епархиальных домов в городе и священником двух прекраснейших приходов – Крэбтри и Стогпингема. Вернее, не двух, а трех, так как к Стогпингему был присоединен еще приход Эйдердаун. Доктор Стэнхоуп прожил в Италии двенадцать лет. Он отправился туда подлечить ларингит, и хотя с тех пор ларингит его особенно не тревожил, недуг этот позволил ему все эти годы пребывать в безделии.
Его вызвали на родину – отнюдь не грубым приказом, но так, что он не счел возможным игнорировать это приглашение. Ему – по желанию епископа – написал мистер Слоуп. Во-первых, епископ нуждался в неоценимой помощи доктора Визи Стэнхоупа; во-вторых, епископ полагал своим безотлагательнейшим долгом лично познакомиться со всеми виднейшими членами своего капитула; в третьих, епископ, заботясь только об интересах доктора Стэнхоупа, рекомендовал ему хотя бы на время вернуться в Барчестер; а в заключение было сказано, что высшие сановники церкви в настоящее время серьезно заняты вопросом об отсутствующих священнослужителях и доктору Визи Стэнхоупу необходимо подумать о том, что его имя может оказаться в числе тех, которые, вероятно, в ближайшем будущем будут сообщены парламенту.
Неопределенность этой последней угрозы была настолько пугающей, что доктор Стэнхоуп решил провести лето в своей барчестерской резиденции. В его приходских домах жили замещающие его младшие священники, да к тому же он не был уверен, что после такого перерыва сумеет должным образом исполнять свои обязанности. Однако барчестерский дом ждал его, и он полагал, что для него не составит особого труда время от времени читать проповеди в соборе. А посему он со всем семейством прибыл в Барчестер, где мы и представим их читателю.
Главной фамильной чертой Стэнхоупов была, пожалуй, бессердечность; но у большинства из них ей сопутствовало добродушие, скрывая ее от глаз света. Они так охотно оказывали услуги ближним, что ближние не замечали, насколько им безразлично чужое счастье и благополучие. Стэнхоупы навестили бы вас на одре болезни (при условии, что она не заразна), принесли бы вам апельсины, французские романы и последние сплетни, а потом с равным спокойствием услышали бы о вашей смерти или выздоровлении. И друг к другу они относились точно так же: терпели и сдерживались – а иногда, как мы увидим, это было очень нелегко, – но тем и исчерпывалась их взаимная любовь. Поистине удивительно, как много был способен сделать (и делал) каждый из них, чтобы испортить жизнь остальным четырем.
Ибо их было пятеро, а именно сам доктор Стэнхоуп, миссис Стэнхоуп, две дочери и сын. Глава семьи был наименее примечательным и наиболее почтенным из них всех, хотя его достоинства были лишь негативного свойства. Это был благообразный несколько апоплексического вида джентльмен лет шестидесяти с белоснежными густыми волосами, напоминавшими тончайшую шерсть. Его серебряные бакенбарды отличались необыкновенной пышностью и придавали его лицу сходство с благодушной мордой дремлющего старого льва. Одевался он всегда щегольски. Однако, и прожив в Италии столько лет, он носил одежду лишь темных тонов, как подобает священнику, хотя в остальном она не слишком напоминала о его сане. Он не был разговорчив, но, говоря мало, говорил хорошо. Читал он только романы и стихи самого легкого и не всегда самого нравственного содержания. Это был законченный бонвиван – большой знаток вин, хотя пил он умеренно, и суровейший судья во всех вопросах кулинарного искусства. Ему приходилось многое извинять своей жене, а позже и детям, и он извинял все, кроме пренебрежения к его обеду. Со временем они научились уважать эту слабость, и теперь терпение доктора Стэнхоупа редко подвергалось испытанию. Он был священником, но из этого не следует делать вывод, будто религиозные убеждения играли большую роль в его жизни. Вероятно, религиозные убеждения у него были, но он редко кому-нибудь их навязывал, даже своим детям. Эта сдержанность была непреднамеренной, но постоянной. Не то, чтобы он заранее решил никак не влиять на их образ мыслей, но, будучи ленив, откладывал это до тех пор, пока не стало уже поздно. И каковы бы ни были убеждения отца, дети, во всяком случае, были не слишком ревностными членами церкви, которая давала ему средства к существованию.
Таков был доктор Стэнхоуп. Миссис Стэнхоуп была даже еще более бесцветной, чем ее супруг и повелитель. Far niente[16] итальянской жизни вошло в ее кровь, и состояние безделья стало для нее высшим земным благом. Она обладала прекрасными манерами и внешностью. В свое время она слыла красавицей и даже теперь, в пятьдесят пять лет, была красива. Одевалась она безупречно; правда, лишь один раз в день, выходя из своих комнат не раньше начала четвертого, но зато являясь тогда в полном блеске. Принимала ли она участие в своем туалете или им занималась только горничная – это предмет слишком высокий, чтобы автору подобало высказывать хотя бы догадку. Она всегда была хорошо одета, но не разодета; ее наряд был великолепен, но не пышен; она носила редкостные драгоценности, невольно притягивавшие взоры, но словно не замечала этого их свойства. Она в совершенстве умела украсить себя, но не снисходила до того, чтобы совершенствовать украшения. Впрочем, сказав, что миссис Стэнхоуп умела одеваться и пускала в ход свое уменье ежедневно, мы сказали все. Иного стремления в жизни у нее не было. Зато она не препятствовала чужим стремлениям. В молодости обеды супруга были для нее тяжким испытанием, но последние десять – двенадцать лет эту заботу взяла на себя ее старшая дочь Шарлотта, и миссис Стэнхоуп могла отдохнуть от трудов праведных; однако тут – о, ужас! – их вынудили вернуться в Англию. А это был поистине невыносимый труд. Не так-то просто перебраться с берегов Комо в Барчестер, даже если все хлопоты и достались другим. После переезда миссис Стэнхоуп пришлось обузить все свои платья.
Шарлотте Стэнхоуп в описываемое время было лет тридцать пять, но ее недостатки, каковы бы они ни были, не походили на те, которые преимущественно отличают пожилых барышень. Одевалась, говорила и выглядела она так, как положено в ее годы. Ее возраст, по-видимому, не был ей в тягость, и она ничуть не молодилась. Это была превосходная молодая женщина, а родись она мужчиной, из нее вышел бы еще более превосходный молодой человек. Все, что необходимо было делать в доме и чего не делали слуги, делала она. Она отдавала распоряжения, оплачивала счета, нанимала и увольняла прислугу, заваривала чай, резала жаркое и вела все хозяйство. Одна она умела заставить отца заняться делами. Одна она умела обуздывать экстравагантность сестры. Одна она спасала семью от нищеты и позора. И это по ее совету они теперь к большому своему неудовольствию оказались в Барчестере.
Все это скорее делает честь Шарлотте Стэнхоуп. Но остается добавить, что влияние, которое она имела на своих родных, хотя и способствовало в какой-то мере их житейскому благополучию, отнюдь не было истинно полезным для них. Она поддерживала равнодушие отца к его профессиональным обязанностям, внушая ему, что его приходы – такая же его личная собственность, как родовые поместья, – собственность его старшего брата, достойнейшего пэра. И из года в год противилась не слишком настойчивому желанию доктора Стэнхоупа вернуться в Англию. Она поощряла материнскую лень, желая быть единственной хозяйкой в доме. Она потакала и способствовала легкомыслию сестры, хотя всегда была готова оградить ее от последствий этого легкомыслия, что ей чаще всего и удавалось. Она старательно баловала брата и весьма успешно сделала из него великовозрастного бездельника без профессии и без гроша за душой.
Мисс Стэнхоуп была умна и могла разговаривать почти на любую тему, какова бы эта тема ни была. Она гордилась тем, что ей чужда английская чопорность – и, следовало бы добавить, женская деликатность. В религиозных вопросах она отличалась свободомыслием и любила с черствым равнодушием смущать отца, излагая ему свои взгляды. Она с удовольствием истребила бы в нем остатки приверженности к англиканской вере, но вовсе не хотела, чтобы он отказался от сана. Как можно, если у него нет иных источников дохода?
Нам остается описать двух наиболее незаурядных членов этой семьи. Вторую дочь звали Маделиной, и она была замечательной красавицей. Хотя несчастный случай сделал Маделину калекой, в описываемое время ее красота достигла наивысшего расцвета. Нам незачем подробно рассказывать историю юности Маделины Стэнхоуп. Когда они уехали в Италию, ей было всего семнадцать лет, но она беспрепятственно блистала действительно несравненной красотой в гостиных Милана и множества вилл по берегам Комо. Она прославилась приключениями, которые только-только не погубили ее репутацию, и разбила сердца десятка поклонников, свое сохранив в целости. Ее чары не раз бывали причиной кровавых поединков, и она узнавала об этих дуэлях с приятным волнением. Поговаривали, что однажды она, переодетая пажом, присутствовала при гибели своего возлюбленного.
И, как часто бывает, она вышла замуж за наихудшего из всех претендентов на ее руку. Почему она выбрала Пауло Нерони, человека темного происхождения и без состояния, всего лишь капитана папской гвардии, не то просто авантюриста, не то шпиона, жестокого по натуре, с вкрадчивыми слащавыми манерами, смуглого до уродства и отъявленного лжеца, объяснять не стоит. Возможно, тогда у нее не было иного выхода. Во всяком случае, он женился на ней; и после длительного медового месяца среди озер они вместе отправились в Рим, так как капитану папской гвардии, несмотря на все усилия, не удалось уговорить супругу расстаться с ним.
Шесть месяцев спустя она вернулась к отцу калекой и матерью. Она приехала неожиданно, чуть ли не в лохмотьях и без единой драгоценности, полученной в приданое. Младенца несла бедная девушка, нанятая в Милане вместо римской горничной, которая, по словам ее госпожи, стосковалась по дому и взяла расчет. Было ясно, что супруга капитана папской гвардии твердо решила не привозить в дом отца свидетелей своей римской жизни.
Она объяснила, что, осматривая античные развалины, упала и роковым образом повредила коленное сухожилие – настолько, что стоя казалась теперь на восемь дюймов ниже ростом, и ходила лишь с большим трудом, ковыляя, выворачивая бедро и вытягивая ступню, точно кривобокая горбунья. Поэтому она твёрдо решила никогда больше не стоять и не ходить.
Вскоре распространились слухи, что Нерони обращался с ней весьма жестоко и что это он ее искалечил. Как бы то ни было, сама она о муже не говорила; однако ее близкие поняли, что синьора Нерони они больше никогда не увидят. Разумеется, злополучная красавица была принята обратно в лоно отчей семьи, и ее малютка дочь нашла приют под ветвями фамильного древа. Стэнхоупы были бессердечны, но не эгоистичны. Мать и малютку окружили нежными заботами, на время они стали предметом обожания, а затем родители начали тяготиться их присутствием в доме. Но они остались там, и красавица продолжала вести образ жизни, который, казалось бы, не слишком подходил дочери священника англиканской церкви.
Хотя госпожа Нерони уже не могла вращаться в свете, она вовсе не собиралась отказываться от этого света. Красота ее лица осталась прежней, а красота эта была особого рода. Ее пышные каштановые волосы были уложены в греческую прическу, полностью открывающую лоб и щеки. Лоб, хотя довольно низкий, был очень красив благодаря изяществу очертаний и лилейной белоснежности. Глаза у нее были большие, миндалевидные и сверкающие; чтобы дать представление о глубине и силе их блеска, мне следовало бы сказать – сверкающие, как у Люцифера, осмелься я на такое сравнение. Это были грозные глаза, которые отпугнули бы всякого спокойного и тихого человека. В них светился ум, пылал огонь страсти, искрилось веселье, но в них не было любви, а только жестокость, упорство, жажда властвовать, коварство и злокозненность. И все же это были удивительно красивые глаза. Долгий пристальный взгляд из-под этих длинных безупречных ресниц завораживал поклонника, хотя и внушал робость. Она была василиском, от которого не мог спастись никакой человек, влюбленный в красоту. Ее нос, рот, зубы, подбородок, шея и грудь были само совершенство – в свои двадцать восемь лет она казалась еще прекраснее, чем в восемнадцать. Неудивительно, что столь чарующее лицо и изуродованная фигура внушили ей желание показываться на людях, но показываться лишь полулежа на кушетке.
Осуществить это желание было не просто. Но она по-прежнему посещала миланскую оперу, а иногда и аристократические гостиные. Из кареты ее выносили на руках так, чтобы ни на йоту не умалить ее красоты, не помять платья и не обнаружить ее уродства. Ее обязательно сопровождали сестра, горничная и лакей, а в торжественных случаях и два. Только так могла быть осуществлена ее цель – и, несмотря на свою бедность, она сумела добиться ее осуществления. И вновь золотая молодежь Милана зачастила на виллу Стэнхоупов, проводя часы у кушетки Маделины к не слишком большому удовольствию ее отца. Порой его терпение иссякало, щеки наливались темным румянцем и он восставал, но Шарлотта успокаивала отчий гнев с помощью какого-либо кулинарного шедевра, и некоторое время все снова шло гладко.
Маделина украшала свою комнату и свою особу со всем возможным изяществом и пышностью. Об этом свидетельствовали даже ее визитные карточки. Казалось бы, они не были ей нужны, так как об утренних визитах не могло быть и речи, но она придерживалась иного мнения. Окаймленные широкой золотой полосой, три печатные строки гласили:
«ЛА СИНЬОРА МАДЕЛИНА
ВИЗИ НЕРОНИ,
NATA[17] СТЭНХОУП».
Над фамилией по ее указанию была помещена золотая корона, которая, безусловно, выглядела очень внушительно. Каким образом она состряпала себе подобное имя, объяснить нелегко. Ее отец был наречен Визи, как мог быть наречен Томасом, и она не имела на это имя ни малейшего права – с таким же успехом дочь Джозии Джонса, выйдя замуж за Смита, могла бы именовать себя миссис Джозия Смит. Столь же неуместной и даже еще более неуместной была и золотая корона. Пауло Нерони не состоял ни в малейшем родстве даже с итальянской аристократией. Если бы эта парочка познакомилась в Англии, Нерони там, вероятно, был бы графом, но в Италии подобные претензии поставили бы его в смешное положение. Однако корона – изящное украшение, и если бедной калеке было приятно видеть ее на своей карточке, у кого хватило бы духу отказать ей в этом?
О своем муже и его семье она никогда не упоминала, хотя в беседах с поклонниками часто роняла таинственные намеки, касавшиеся ее замужества и нынешнего одиночества, или, указывая на свою дочь, называла ее последним отпрыском императоров, выводя таким образом род Нерони от старинной римской семьи, к которой принадлежали худшие из цезарей.
«Ла синьора» была не лишена литературного таланта и прилежания; она неутомимо писала письма, и ее письма вполне стоили цены марки и конверта, столько в них было остроумия, шаловливости, сарказма, любви, философии, свободомыслия, а иногда, увы, и вольных шуток. Тема их, однако, зависела от адресата, а она готова была вести переписку с кем угодно, кроме благовоспитанных молодых девиц и чопорных старух. Кроме того, она пописывала стишки – чаще всего по-итальянски, и романтические новеллы – чаще всего по-французски. Она читала все, что попадалось ей под руку, и недурно владела многими живыми языками. Такова была дама, явившаяся теперь покорять сердца барчестерских мужчин.