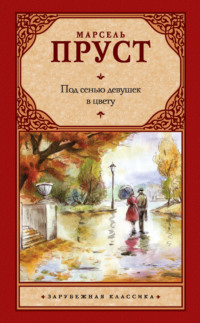Полная версия
Сторона Германтов
Я и мысли не допускал, что у гостей на ее праздниках могут быть тела, усы, ботинки, что они могут произнести что-нибудь не только банальное, но даже оригинальное на обычный, разумный и человеческий лад, а потому водоворот имен, не более материальный, чем пиршество призраков или бал привидений, клубившийся вокруг статуэтки из саксонского фарфора, то есть герцогини Германтской, оставался прозрачным, будто окна ее стеклянного особняка. Позже, когда Сен-Лу рассказал мне занятные истории о капеллане его кузины, о ее садовниках, особняк Германтов превратился, подобно какому-нибудь Лувру в стародавние времена, во что-то вроде замка, окруженного прямо посреди Парижа угодьями, унаследованными по древнему праву, чудом дошедшему до наших дней, – и на этих землях по-прежнему сохранялись все ее феодальные привилегии. Но и это последнее пристанище развеялось, когда мы переехали поближе к маркизе де Вильпаризи, в одну из квартир по соседству с герцогиней Германтской, расположенную во флигеле, примыкавшем к ее особняку. Это был один из старых больших домов, какие, наверно, можно увидеть еще и сейчас; часто на парадный двор такого дома – не то нанесенные набегающим валом демократии, не то доставшиеся по наследству от старых времен, когда представители разных ремесел жались поближе к сеньору, – выходили задние комнаты лавчонок и мастерских, а то и будка сапожника или закуток портного: в те времена, когда эстетика строителей еще не обрекала такие строеньица на снос, они мостились к бокам соборов: тут вам и швейцар-сапожник, который к тому же разводит кур и цветы, а в глубине, в той части дома, что считается, собственно, «особняком», – «графиня», выезжающая в ветхой коляске, запряженной парой лошадей, в шляпке, осененной настурциями, судя по всему, сбежавшими из садика при ложе швейцара, причем рядом с кучером садится лакей, соскакивающий с козел, чтобы занести визитные карты с загнутыми уголками в каждый аристократический особняк в округе[10], а хозяйка знай себе улыбается и слегка машет рукой всем без разбору, детям привратника и горожанам, снимающим помещения в доме, которых она в презрительной своей любезности и эгалитарном высокомерии вечно путает.
В доме, куда мы переехали, важная дама, живущая в глубине двора, была элегантна и еще молода. Это была герцогиня Германтская, и благодаря Франсуазе я вскоре кое-что узнал о нашем особняке. Дело в том, что Германты (которых Франсуаза часто называла «нижние» или «те внизу») были предметом ее неустанного интереса с самого утра, когда, причесывая маму, она бросала запретный, неудержимый, беглый взгляд на двор и говорила: «Надо же, две монахини, ну ясно, эти к нижним идут» или «Ох какие фазаны чудные в окне кухни, понятно, откуда такие взялись, это герцог охотился», – и до самого вечера, когда, подавая мне все, что нужно для отхода ко сну, она, бывало, слышала звуки фортепьяно, отзвук песенки, и делала вывод: «У тех внизу гости, ишь веселятся», и ее правильное лицо, обрамленное совсем уже седыми волосами, озарялось юной улыбкой, воодушевленной и благопристойной, благодаря которой ее черты на миг разглаживались, проникались жеманным лукавством, как перед контрдансом.
Но больше всего возбуждал интерес Франсуазы, больше всего радовал ее и терзал тот миг, когда распахивались обе створки входных дверей и герцогиня садилась в коляску. Обычно это происходило вскоре после того, как у наших слуг завершалось священнодействие, коего никому не дозволено было прерывать, то есть обед; в это время они были «табу», и даже отец и тот не смел беспокоить их звонками, понимая, впрочем, что никто не побеспокоится ни на первом звонке, ни на пятом, так что этот неподобающий поступок он совершит без всякого толку и себе же во вред. Ведь с тех пор как Франсуаза постарела, она по каждому удобному поводу напускала на себя неодобрительный вид, и на лице ее, испещренном красными клинышками прожилок, невнятно отражалась долгая память о ее сетованиях и о подспудных причинах ее недовольства. Впрочем, она высказывала их и вслух, но так, в воздух, так что мы не могли расслышать как следует то, что она говорила. У нее это называлось причитать целый божий день: ей казалось, что так оно нам досаднее, обиднее и вообще оскорбительнее.
Покончив с последними ритуалами, Франсуаза, которая, как в церквах первых христиан, воплощала в себе и пастыря и паству, наливала себе последний бокал вина, снимала с шеи салфетку, сворачивала ее, вытирая с губ последние винные и кофейные капли, продевала ее в кольцо, скорбным взором благодарила «своего» юного лакея, предлагавшего ей в избытке усердия: «Еще немножко винограда, мадам, уж очень хорош», и поскорей шла открывать окно под тем предлогом, что «в этой мерзкой кухне» слишком жарко. Поворачивая ручку оконной рамы, чтобы высунуться и подышать свежим воздухом, она тем временем уже успевала равнодушно оглядеть двор и убеждалась, что герцогиня еще не готова; на мгновение ее горящий презрительный взгляд задерживался на упряжке, а затем глаза ее, уделив каплю внимания земной суете, обращались к небесам: она заранее чувствовала, как безоблачно небо, как свеж и чист воздух, как пригревает солнце, и в уголке под крышей находила местечко, где каждую весну прямо под трубой от камина в моей комнате вили гнездо голуби, точь-в-точь такие, как те, что ворковали у нее на кухне в Комбре.
«Ох, Комбре, Комбре», – взывала она. (И так напевно звучал ее голос, пока она причитала, и таким по-арльски ясным было ее лицо, что можно было заподозрить, будто она родилась на юге и утраченная родина, которую она оплакивает, – это ее вторая, новая родина. Но скорее всего это было бы заблуждением: ведь, в сущности, в каждой провинции есть свой «юг» и у множества савойцев или бретонцев проскальзывают в голосе эти певучие чередования долгих и кратких, по которым узнается южный говор.) «Ох, Комбре, кабы вновь тебя увидать, край ты мой любимый! Кабы день-деньской глядеть на твой боярышник да на сирень нашу бедную, да слушать зябликов, да Вивонну, как она журчит себе, ровно кто-то шепчется, а не эту проклятущую сонетку, а то наш молодой хозяин и полчаса не посидит, чтобы не позвонить, и я знай себе несусь по этому проклятому коридору. Да еще ему и не угодишь, медленно бегу, ему хочется, чтобы я слышала до того, как он позвонит, а как на минуточку замешкаешься, он уже беснуется. Ох, бедный мой Комбре! Не увижу тебя небось, пока не помру, пока не швырнут меня, как камень, в могилу. И не услышу я оттуда, как пахнет наш дивный белый боярышник. Но сдается мне, что даже в могиле я буду слышать три звонка проклятой сонетки, которые мне и так уже всю жизнь отравили».
Но тут ее перебивал голос жилетника во дворе, того самого, который когда-то так понравился бабушке, когда она ходила в гости к маркизе де Вильпаризи; Франсуазе он нравился ничуть не меньше. Слыша, как наше окно распахнулось, он задирал голову и упорно пытался привлечь внимание соседки, чтобы с ней поздороваться. И тут ради г-на Жюпьена брюзгливое лицо нашей старой кухарки, огрубевшее от прожитых лет, дурного настроения и жара плиты, озарялось кокетством юной девушки, какой была в свое время Франсуаза, и с прелестной смесью осторожности, непринужденности и целомудрия она махала рукой жилетнику дружелюбно, но молча, потому что, пренебрегая мамиными требованиями не выглядывать во двор, она все-таки не доходила до того, чтобы болтать, свесившись из окна: по мнению Франсуазы, мама бы ее за это изрядно «приструнила». Франсуаза кивала жилетнику на запряженную коляску с таким видом, будто говорила: «Недурные лошадки!», а сама бормотала: «Вот старая корова!» и знала заранее, что сейчас он приложит руку к губам наподобие рупора, чтобы она слышала его ответ вполголоса: «А у вас бы тоже были такие, если бы вы захотели, а может, и побольше, просто вы этим не интересуетесь».
И Франсуаза со скромной, уклончивой и польщенной ужимкой, означавшей: «Каждому свое, а мы люди простые», затворяла окно из опасения, как бы ее не застала мама. Эти «вы», у которых могло бы быть лошадей побольше, чем у Германтов, на самом деле были мы, но Жюпьен был прав, говоря «у вас», потому что, не считая некоторых чисто индивидуальных утех самолюбия (например, когда на нее нападал кашель и весь дом боялся заразиться от нее катаром, а она с нахальной ухмылкой утверждала, что у нее нет никакой простуды), Франсуаза была похожа на растения, живущие в тесном союзе с каким-нибудь животным, снабжающим их пищей, которую добыло, сожрало, переварило для них и передало им в том виде, в каком они могут ее усвоить; она жила с нами в симбиозе, и на нас, со всеми нашими заслугами, состоянием, положением в обществе, лежал долг доставлять ей нехитрые радости, льстившие ее самолюбию, и вдобавок к ним бесспорное право свободно отправлять культ обеда согласно старинному обычаю, включавшему в себя и глоток свежего воздуха у окна после обеда, и неторопливые походы за покупками, и непременные выходные, чтобы навестить племянницу, – словом, все жизненно необходимые ей удовольствия. Поэтому понятно, что первые дни на новом месте, где никому еще не ведомы были почетные титулы моего отца, Франсуаза просто погибала от хвори, которую сама она называла тоской, тоской в том властном смысле, который она приобретает у Корнеля[11] или в предсмертных записках солдат-самоубийц, убивающих себя потому, что слишком «тоскуют» по невесте, по родной деревне. Франсуазу от тоски живо исцелил именно Жюпьен: он немедленно обеспечил ей такую же сильную радость, как если бы мы решили купить экипаж, причем даже более утонченную. «Хорошие они люди, эти Жюльены (у Франсуазы новые слова часто сливались в сознании с теми, которые она уже знала), прямо на лице у них написано». И в самом деле, Жюпьен, новый друг Франсуазы, сумел сам понять и другим объяснить, что у нас нет экипажа просто потому, что мы его не хотим. Дома он бывал мало, потому что получил должность в одном министерстве. Он жил с «девчонкой», которую бабушка в свое время приняла за его дочку, и перестал шить жилеты, потому что это потеряло смысл с тех пор, как девочка, давным-давно, совсем еще малышкой, сумевшая прекрасно починить бабушке юбку, когда та пришла в гости к маркизе де Вильпаризи, занялась шитьем дамских юбок. Поначалу подручная швея у какой-то портнихи, она сметывала, подшивала оборки, пришивала пуговицы или кнопки, поправляла талию с помощью булавок, но быстро стала второй, а потом и первой мастерицей, обзавелась клиентурой из дам хорошего общества и работала теперь дома, то есть у нас во дворе, чаще всего вместе с одной-двумя подружками по ателье, превратившимися в ее подмастерьев. Теперь уже присутствие Жюпьена требовалось меньше. Конечно, малышке, которая теперь выросла, часто приходилось шить и жилеты. Но с помощью подружек она справлялась. Поэтому Жюпьен, ее дядя, подыскал себе место службы. Сперва его отпускали домой в полдень, а затем он окончательно заменил чиновника, которому поначалу только помогал, и стал возвращаться прямо к ужину. К счастью, его вступление в должность произошло лишь через несколько недель после нашего переезда, так что любезность Жюпьена достаточно долго поддерживала Франсуазу, смягчая ее страдания в первое, самое трудное время. Впрочем, не отрицая, что для Франсуазы он оказался действенным «укрепляющим препаратом», должен признаться, что поначалу Жюпьен не очень мне понравился. Если смотреть с расстояния в несколько шагов, его глаза навыкате полностью опровергали румянец на лице и толстые щеки: в их взгляде плескалось столько сочувствия, отчаяния и задумчивости, что казалось, он или очень болен, или сражен огромным горем. На самом деле ничего этого не было и в помине, а в разговоре, причем говорил он, кстати, превосходно, его голос звучал холодно и насмешливо. Из-за этого разлада между взглядом и речью было в нем что-то фальшивое, неприятное; казалось, его самого это стесняет, будто он заявился в пиджаке на прием, где все одеты во фрак, или в разговоре с высокопоставленной особой не знает толком, как к ней следует обращаться, а потому отделывается односложными ответами. Но это только для сравнения, потому что вообще-то Жюпьен говорил замечательно. Я вскоре распознал за бездонностью глаз, затоплявших все его лицо (на что вы переставали обращать внимание, когда ближе с ним знакомились), необычайный ум, соединенный с таким литературным чутьем, какое мне редко приходилось встречать в жизни: скорее всего, не обладая, в сущности, культурой, он владел самыми изысканными языковыми оборотами или усвоил их с помощью немногих наспех проглоченных книг. Самые одаренные из знакомых мне людей умерли очень молодыми. Поэтому мне казалось, что жизнь Жюпьена скоро оборвется. Была в нем доброта, участливость, безмерная деликатность, безмерное великодушие. Франсуаза скоро перестала столь остро в нем нуждаться. Она сама научилась его подменять.
Даже когда поставщик или слуга доставлял нам пакет, Франсуаза, совершенно вроде бы не обращая на него внимания, с безразличным видом кивала ему на стул, а сама продолжала заниматься своими делами, но при этом так ловко ухитрялась использовать минуты, которые он проводил на кухне в ожидании ответа от мамы, что уходил он чаще всего, насквозь проникнувшись непоколебимым убеждением, что «если у нас чего-то нет, значит мы этого не хотим». Между прочим, Франсуазе было очень важно, чтобы все знали, что у нас «водится денежка» (ей неведомо было, что одни вещественные существительные употребляются только в единственном числе, а другие только во множественном: она говорила «взять денежку» точно так, как «принести воду»), хотя богатство само по себе, богатство без добродетели вовсе не представлялось ей высшим благом, но и добродетель без богатства также не была ее идеалом. Богатство для нее было необходимым условием добродетели, без него добродетель лишалась достоинства, лишалась очарования. Франсуаза настолько слабо различала добродетель и богатство, что в конце концов наделяла первую чертами второго и наоборот: добродетель была у нее неотделима от комфорта, а в богатстве она чуяла некоторую душеспасительность.
Поскорее закрыв окно – а не то мама, уверяла она, «всыплет ей по первое число», – Франсуаза принималась, вздыхая, убирать с кухонного стола.
«На улице Лашез живут еще одни Германты, – говорил лакей, – один мой друг у них работал, он там был вторым кучером. А еще один человек, не мой друг, а его шурин, служил в одном полку с конюхом барона Германтского. „В конце концов, это же не мой отец[12]!“» – добавлял лакей, имевший привычку не только мурлыкать себе под нос модные куплеты, но еще и уснащать свою речь свежими остротами.
Франсуаза была уже не молода, к тому же ее усталые глаза смотрели на все издали, из Комбре, словно сквозь дымку; она не понимала шутки, заключавшейся в последних словах собеседника, но понимала, что он шутит, потому что эти его слова, произнесенные с нажимом, никак не связывались с темой разговора, а говоривший явно был шутником. Поэтому она одарила его благожелательной и восхищенной улыбкой, будто говоря: «Ох уж этот Виктор!» Впрочем, она была в самом деле рада, ведь она понимала, что такие остроты каким-то образом связаны с благородными удовольствиями, принятыми во всех кругах хорошего общества, куда люди ходят принарядившись и не боясь простуды. И наконец, она считала лакея своим другом, потому что он постоянно и с негодованием сообщал ей об ужасных притеснениях, которым Республика собиралась подвергнуть духовенство. Франсуаза еще не поняла, что самые безжалостные наши противники – не те, кто нам противоречит и пытается нас переубедить, а те, кто раздувает или выдумывает новости, способные повергнуть нас в отчаяние, не пытаясь их хотя бы чуть-чуть оправдать, чтобы мы, не дай бог, ни на волос не примирились с враждебными силами, которые в их рассказах предстают беспощадными и непреодолимыми, усугубляя наши муки.
«Герцогиня небось с теми-то в родне, – говорила Франсуаза, подхватывая разговор о Германтах с улицы Лашез: так в анданте возобновляется уже звучавшая тема. – Уж не помню, кто мне говорил, что один из тех выдал за герцога замуж свою кузину. В общем, это все из одной „фамильярности“. Германты – великая семья!» – уважительно добавляла она, основывая это величие одновременно и на ее многочисленности, и на блестящей славе, как Паскаль основывал истинность Религии и на Разуме, и на авторитете Писания[13]. Поскольку для обоих этих понятий она располагала только одним словом, ей казалось, что оба они сводятся к одному и тому же: ее словарный запас был как драгоценный камень с изъянами, не пропускавшими свет, – из-за этого и в мыслях у нее оставались темные места.
«Я все думаю, не „ихний“ ли это замок в Германте, в десяти лье от Комбре, – тогда выходит, что они в родстве и с их кузиной в Алжире». Мы с мамой долго ломали себе голову над тем, что же это за кузина в Алжире, пока наконец не сообразили, что под Алжиром Франсуаза подразумевала город Анжер. Иногда то, что далеко, известно нам лучше, чем то, что рядом. Франсуаза знала про Алжир из-за ужасных фиников, которые нам дарили на Новый год, а про Анжер понятия не имела. Ее язык, как весь французский язык вообще, а особенно топонимика, был усеян ошибками. «Я хотела об этом поговорить с их метрдотелем…» – И тут она сама себя перебивала, задумавшись над тонкостями этикета: «Как же это ему говорят-то?» – а затем сама же себе отвечала: «Ах да, Антуан, вот как ему говорят», – как будто имя Антуан было титулом. «Вот он бы мог нам все сказать, но он такой важный господин, уж такой зануда, можно подумать, ему язык отрезали или вообще говорить не научили. С ним говоришь, а он даже не дает ответа», – добавляла Франсуаза, говорившая «давать ответ» точь-в-точь как мадам де Севинье[14]. «Но, – неискренне добавляла она, – знай свое дело, а в чужие не суйся. И все равно так себя вести нечестно. И потом, не очень-то он ретивый (судя по этой оценке, можно было вообразить, что взгляды Франсуазы изменились, ведь когда-то в Комбре она говорила, что доблесть превращает мужчин в диких зверей, но на самом деле ничего подобного: в ее устах ретивый означало трудолюбивый). И говорят, что он вороватый как сорока, хотя сплетням не всегда можно верить. Здесь все услужающие ходят через швейцарскую, а швейцары завидуют и наговаривают герцогине. Но что да, то да: этот Антуан настоящий лодырь, и его Антуанисса такая же», – добавляла Франсуаза; чтобы обозначить жену метрдотеля, ей нужно было образовать женский род от имени Антуан, и она, видимо, бессознательно опиралась в своих грамматических построениях на слова каноник и канонисса. И была не так уж неправа. До сих пор неподалеку от собора Парижской Богоматери есть улица Канонисс – это имя (поскольку там жили только каноники) придумали французы былых времен, а Франсуаза, в сущности, была их современницей. Впрочем, тут же она предлагала новый способ словообразования, добавляя:
– А замок Германт принадлежит нашей герцогине, это ясно как божий день. Она в том краю хозяйка и градоначальственная дама. Это вам не что-нибудь.
– Понимаю, что не что-нибудь, – убежденно откликался лакей, не чувствуя в ее словах иронии.
– Ты, что ль, и впрямь думаешь, паренек, что это что-то этакое? Да для таких, как они, градоначальство вообще ничего не значит. Эх, если бы у меня был замок Германт, я бы в Париж нечасто наезжала. И о чем только думают хозяева, да вот хоть наши месье и мадам, им же на всё хватает: сидят себе в этом ужасном городе, а нет бы собраться да и поехать в Комбре, когда время есть, никто же их не держит. Ушли бы себе на покой, и чего они ждут? Пока помрут, что ли? Эх, была бы у меня краюха сухого хлеба пропитаться да немного дров обогреться зимой, давным бы давно я уехала в Комбре, в домишко моего брата. Там хотя бы настоящая жизнь, и все эти дома перед глазами не торчат, а тихо так, что ночью слышно, как поют лягушки за два лье с лишком.
– Как это, наверно, прекрасно, – восхищенно восклицал лакей, словно этот последний штрих был так же неотъемлем от Комбре, как гондолы от Венеции.
Между прочим, лакей появился в доме позже камердинера и говорил с Франсуазой о том, что было интересно ей, а не ему. Франсуаза не любила, когда ее считали кухаркой, а лакей неизменно именовал ее «экономкой», и она платила ему особой благосклонностью, какую питает принц из захудалого рода к благонамеренным молодым людям, величающим его «высочеством».
– Там хотя бы знаешь, что делаешь и какое время года на дворе. Не то что здесь – ни одного тебе лютика не найти на Пасху, все равно как на Рождество, ни тебе колокол не звякнет на колокольне, когда я поутру разгибаю мою старую спину. Там слышно, как бьет каждый час, и пускай это просто наш бедный колокол, но ты себе говоришь: «А вот и мой брат с поля домой идет», видишь, как день клонится к вечеру, звонят на молебен об урожае, и ты успеешь домой вернуться до того, как пора свет зажигать. А здесь хоть тебе день, хоть тебе ночь, идешь спать, а сама не понимаешь, как день провела, как скотина какая.
– Говорят, что в Мезеглизе тоже очень славно, – перебил лакей; на его вкус разговор принимал немного слишком абстрактный оборот, и потом ему случайно запомнилось, что за столом мы говорили о Мезеглизе.
– Ах, Мезеглиз, – подхватывала Франсуаза с лучезарной улыбкой, расцветавшей у нее на лице всякий раз, когда звучали имена Мезеглиз, Комбре, Тансонвиль. Они настолько были частью ее собственной жизни, что всякий раз, когда она встречалась с ними во внешнем мире, слышала в разговоре, ее охватывала та же радость, какую испытывают школьники в классе, когда преподаватель намекнет на какого-нибудь современника, о котором они ни за что бы не подумали, что его имя прозвучит с кафедры. А еще она радовалась потому, что для нее эти места были совсем не то, что для других: это были старые друзья, с которыми было связано много приятного, и она улыбалась им, будто наслаждаясь их остроумием, и чувствовала, что неразлучима с ними.
– Да, сынок, верно ты говоришь, в Мезеглизе очень даже славно, – отвечала она с тонкой улыбкой, – но ты-то откуда слыхал про Мезеглиз?
– Откуда я про Мезеглиз слыхал? Да кто же его не знает; мне о нем бесперечь толковали, много-много раз, – отвечал он с преступной неточностью, свойственной многим осведомителям, которые утаивают от нас истинное положение вещей каждый раз, когда мы хотим получить у них объективные сведения о том, насколько важно для других людей то, что нас касается.
– Ах, уж вы мне поверьте, там под вишнями лучше, чем тут у плиты.
В ее рассказах даже Элали превращалась в прекрасную женщину. С тех пор как она умерла, Франсуаза совершенно забыла, что не слишком-то ее жаловала при жизни, как не жаловала всех, у кого дома не было еды, кто «помирал с голоду», а потом, как последнее ничтожество, начинал «кривляться» благодаря доброхотным даяниям богачей. Она уже не страдала оттого, что Элали каждую неделю «выманивала денежку» у моей тети. А тете Франсуаза неустанно пела похвалы.
– Так вы тогда жили прямо в Комбре, у кузины вашей хозяйки? – спрашивал юный лакей.
– Да, у нее, у дорогой госпожи Октав, ах, святая она была женщина, дети мои, и все-то у нее всегда было по-доброму, по-хорошему, славная женщина, уж вы мне поверьте, не отказывала людям ни в куропаточках, ни в фазанах, ни в чем, приходите обедать хоть впятером, хоть вшестером, и мяса было вдоволь, да какого отменного, и белого вина, и красного вина, все как полагается. (Франсуаза употребляла глагол «отказывать» в том же значении, что Лабрюйер[15].) И всегда брала на себя все издержки, даже если родные при ней жили хоть месяцы, хоть годы. (Ничего худого Франсуаза о нас не хотела этим сказать, и слово «издержки» в ее устах не имело юридического смысла, а значило просто «расходы».) Ах, уж вы мне поверьте, никто оттуда не уходил голодным. Господин кюре частенько твердил, что уж кто-кто, а она наверняка войдет в Царствие Небесное. Эх, я как сейчас слышу, как бедняжка госпожа Октав говорит этаким тоненьким голоском: «Франсуаза, вы знаете, я сама-то не ем, но хочу, чтобы готовили на всех как следует, как будто для меня». Хотя это, конечно, было не для нее. Посмотрели бы вы на нее, она весила не больше, чем кулек с вишнями, просто как тень. Меня не слушала, к доктору идти не хотела. Да уж, у нее, когда ели, от спешки не давились. Она хотела, чтобы слуг кормили как следует. А здесь да вот хоть сегодня утром – еле успели заморить червячка. Все делается в спешке.
Особенно ее раздражал подсушенный хлеб, который ел мой отец. Она была убеждена, что все это «фокусы», придуманные, чтобы заставить ее «поплясать». «В жизни такого не видывал», – поддакивал юный лакей. Можно подумать, он перевидал все на свете и впитал тысячелетнюю мудрость всех стран на свете со всеми их обычаями, среди которых отсутствовал обычай питаться подсушенным хлебом. «Да, да, – ворчал дворецкий, – но все это может измениться, в Канаде рабочие вот-вот начнут бастовать, а министр на днях сказал нашему хозяину, что ему за это заплатили двести тысяч франков». Причем дворецкий ничуть не осуждал министра, и не потому что сам он был не вполне честен, а просто считал, что политики все продажны, а взяточничество считал грехом менее тяжким, чем самая пустячная кража. Ему даже в голову не пришло усомниться, хорошо ли он расслышал эти исторические слова; он не задался вопросом, возможно ли, чтобы взяточник сам рассказал об этом моему отцу, а отец не выставил его за дверь. Но философия Комбре, которую исповедовала Франсуаза, не допускала, чтобы канадские забастовки влияли на потребление подсушенного хлеба. «Можете мне поверить, – говорила она, – так уж все на свете устроено, что господа всегда нас будут гонять, а слуги всегда будут исполнять их капризы». Вопреки этой теории вечной гонки моя мама, видимо, подсчитывала время, которое у Франсуазы уходило на обед, по какой-то другой системе мер, отличавшейся от Франсуазиной, и вот уже четверть часа удивлялась: «Да чем же они там заняты, они уже больше двух часов сидят за столом». И три или четыре раза робко дергала сонетку. Франсуаза, лакей, дворецкий даже не думали спешить на зов; они воспринимали эти звонки не как приказ, а как первые звуки инструментов, когда оркестранты настраивают их перед началом концерта и мы чувствуем, что через несколько минут антракт закончится. А когда звонки начинали повторяться и становились настойчивей, наши слуги мало-помалу обращали на них внимание и понимали, что свободного времени осталось мало и скоро надо будет опять приниматься за работу; тут они вздыхали, и, набравшись решимости, лакей шел вниз выкурить папиросу перед входной дверью, Франсуаза, отпустив на наш счет несколько замечаний в духе «опять им неймется», поднималась к себе на седьмой этаж прибраться, а дворецкий, заглянув ко мне в комнату за почтовой бумагой, поспешно отправлял свою личную корреспонденцию.