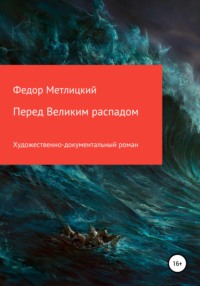полная версия
полная версияПолная версия
Родом из шестидесятых
И провел рукой вокруг себя.
– На нас народы смотрят. Говорите, что правда лучше? И так из-за ваших теорий авторитет потеряли.
Он отвердел скулами.
– Надо учитывать кап окружение. У нас много темных. Им это не нужно, не так примут.
Я спросил:
– А почему вы берете смелость знать, кому что нужно?
– Ха, как это?
– А как вы насчет отнятия архива у Солженицына?
– Наверно, было за что. Какие-либо материалы не в пользу советского государства были.
– Но, ведь, доказано, – не унимался я, – он честный писатель, он бы не использовал.
– Неизвестно, честный он или нет.
Я вдруг осознал, что ничего не меняется во временах. Тысячелетиями живут религиозные системы, нетерпимые, кровавые. И сейчас наша система, отвергшая старые религии, создала новую, учредила инквизицию, которая уничтожила миллионы врагов, то есть инаковерующих. И мое желание чистоты, близости и доверия в мире тоже религиозны, так как они в парадигме христианства, и ничего лучше не придумано.
Когда я, смеясь, говорил о том старпере, Прохоровна закатилась смехом.
– Этот генерал, которого я раньше знала, в своем мундире могучим казался. А теперь в лапсердаке, среди экспертов, ну, совсем не то.
____
По поручению я зашел к кадровику домой.
– Заходи, Веня. Тут, вот, ноги протри, значит. А вот моя жена… Мать, где ты, выходи… Мы друзья, а попадешься – уж не пеняй.
Провел в комнаты.
– Вот так я живу. Вот наша спальня. А тут – мои ребята.
Он снял пиджак, почесал живот.
– А вот балкончик. Их у меня два. Хороши виды? Москва-река. У меня всегда прохлада. О, белый пароход! Иногда часами сижу и наблюдаю. Там – Кремль. А там – гостиница «Украина», ресторанчик. А вон – Тарас Шевченко. Дальше – Кутузовский. А вот, внизу – родимая милиция, меня бережет. Коляску видишь? Голубчика везут, тут рядом с вокзала, пьяненьких много. Сейчас за белы ручки возьмут, если сам не встанет. О, сидит на земле и не ложится. Значит, сейчас встанет. Ага, взяли!.. Да, ширь какая… На праздники – салют во все небо! Тут же, рядом, из Кремля.
Он отвалился от балкона.
– Доволен, говоришь? В общем, да. Только иногда нервы, подымаются внутри: ребята мои учатся не очень. Старший институт кончает, а младший – школу. Боюсь, не поступит в институт. Хотел в танковое, но – что жизнь ломать? Переговорил сначала с дружком военным, и отказался.
Вошли в комнаты.
– Тут вот проезд метро устроили, шум. Но скоро колпаком покроют. Я брал квартиру, не думал, что тут будет метро.
Да, мог бы лучше отхватить. Я ж фигурой был, пятьсот в месяц получал. Начальником суворовского училища. Всю жизнь на «Волге» ездил. Но продал, стал мало получать.
Показал пачку удостоверений.
– Вот посмотри. Пригласительный билет в Колонный зал. Да-а, сколько по этому Кремлю ходил. Учти, тогда, когда простого смертного не пускали Мои суворовцы всегда открывали парад, так я там… Был на обеде в Георгиевском зале. В нише сидел, а напротив – Сталин. Я – за Стахановым, он длинный такой, а жена маленькая, сухонькая… Потом в другой зал поменьше оттеснили, а потом – мы ж человечки – совсем попросили. Некоторые министры напились – смотреть противно. Как могли? Еле волочил ноги, выходя из зала. А назад уже не пускали. Правда, с мандатом делегата везде зеленая улица. И обмывали, и отвозили домой. Я сейчас…
– Бу-бу-бу ( вдругой комнате).
Он вытащил еще один пригласительный билет, на всероссийскую партконференцию.
– Помню, партконференция была, Никита привел Его. Сталин был – да-а… Увидел – у меня прямо мороз по коже, волнами. А Никита на сапоги ему смотрел только, извивался у ног, преданно глянув, осклабливался. А тот прямо: "Никита Сергеевич пр-ы-гласил к вам, сказать рэчь. А чтоб сказать, надо знать, о чем говорить". И понес – об обязанности депутата, и так понес! В газете его речь – слово в слово. Это же не речь, а целая программа! А он без бумажки рубил!
Он махнул рукой.
– А что с Хрущевым? Известный юморист эпохи Аркадия Райкина – соединил ванну с санузлом, выдал замуж Терешкову и опробовал крепость советской обуви в ООН. Но не успел соединить пол с потолком, разделить МПС на «туда» и «обратно», Минлеспром на «елки» и «палки». Безграмотный, свинья. Был на съезде учителей: «Меня, простого шахтера, воспитала учительница. Ей бы в президиуме сидеть. А ее нет, где она? Ведь она воспитала такого, как я». Мне так было стыдно! Я руками закрылся. И остальные тоже. Так газеты на следующий день не вышли, думали, как речь напечатать, чтобы без хамства.
За обедом он вздыхал.
– Я всю жизнь трудился. Уж и работал – с утра до ночи. Все трудом далось. И никого не боялся, в глаза не смотрел. Потому что чувствовал за спиной – не в чем упрекнуть, работал по-настоящему, и прав. Многие недолюбливают за прямоту.
На балконе выпили кофе с коньяком, и я стал прощаться.
Он бубнил:
– Меня окружают умные люди, так и говорю приятелю, генералу. А он: «Брось ты…» Да, да, шеф… очень он… того… Главное, коллектив.
Внизу по набережной толпы.
– Видишь, гуляй по набережной, у парков. Очень хорошее место.
12
Управление экспертиз усиливало контроль за отделениями в регионах. Я улетел с радостью, в Одесское отделение, подальше от своей горечи, вместе с начальником отдела Игорьком, одутловатым, средних лет, с которым мы часто гуляли в обеденный перерыв у Кремля.
И сразу окунулись в народ. В купе беседуют люди с узлами и чемоданами. Какая-то бабка шамкает беззубым ртом:
– Терентий! Ты что ж, селедку ешь?
– Ем.
– Головку – не бросай, я посо-су-у.
– Ты, бабка, купила бы целую.
– Нету денег-то…
Две тетки беседуют:
– Ты где ж, Тамарк, мужа такого подцепила? Сам примус ставить, сам жарить-печеть…
– Ой, Тамарк, какой у меня парень был, Ванька-то! Рожа белая, как у Репина, зубы то все золотые.
– Так он коммунист-то. А-а, коммунист. А человек хоро-о-ший.
Вдруг – в проходе лицо жены, Кати.
– Ты чего пришла? А с кем Света?
На ее лице недоумение. Мы вышли в тамбур. Катя потерянно:
– Из магазина, решила забежать на вокзал. Еле успела. У Светки температура… Я тогда пойду.
– Ну, иди, простудишься.
И поцеловал в щеку.
– Ну, уж, – отвернулась она. – Как будто на самом деле любишь.
В окно вагона увидел ее спину, и стало больно. Выгнал… а ведь она спешила…
Я улыбаюсь соседям по купе, и больно от мысли, чтó она подумала. Выгнал, и сиротливо пошла к больной дочке…
Игорек удивился:
– Это твоя жена? Несусветная красавица.
Чего это он, полизывается, бегает глазами?
И говорю с мужиком в вислоухой шапке:
– Неужели за продажу рыбы – пять лет?
– Да, боятся, страсть. Ел у рыбаков пятерную уху из маленьких осетров. Чудо! Говорю: продайте. Нет, ешь хоть лопни, а продать не можем.
Проснулся утром – сине в щели окна.
– Говорить Киев. Начинаем передачу…
Свернулся клубком, качаясь от движения поезда, в состоянии новизны, вокзалов детства, с молочным светом шаров люстр на вокзале, и – родное, наше в голосе диктора, что-то от украинских корней мамы.
Морозно, но мягко, не по-московски. Добрались до гостиницы "Красная", бывший "Бристоль".
Молодой администратор, глядя мимо, сказал кратко:
– Нет. На вас не заказывали.
Еле достали номер. Вот что значит чудесная новизна командировок! Это состояние – вечно, во всех эпохах позволяет чувствовать никчемность себя с чужим уставом.
Когда удалось устроиться, мое мучительное состояние улетучилось, осталась только чистая аура моей доченьки, холодная высота правдивой натуры ее матери, и материнское тепло горящего огнями вечера на Дерибасовской.
Игорек метнулся куда-то к знакомым или по своим делам. Я зашел в «Гамбринус», выпил бокал коктейля «Огненный шар». Вышел на сквозной ветер, к памятнику Дюку Ришелье. Он одомашненный, рассказывают: к нему весной ходят десятиклассники, обкладывают соломой и жгут, чтобы он назвал темы сочинений на экзаменах.
Пошел по Потемкинской лестнице – в Морской порт. У кафе «Уют» парни в бушлатах, нарочито мрачно глядящие из-под маленьких козырьков "мичманок", расплачиваются "бонами". Все одеты в импортное (моряки привозят из-за границы). Длинноногие окапроненные смазливые девицы любяще жмутся.
Одна, надменная, в голубой плиссированной юбке, с большим носом, – пахнула родным, вылитая моя жена!
Я невольно пошел к ней, но она надменно глянула на меня, с сознанием своего могуществ. Почему же моя Катя не отвергла меня? Эта не случившаяся встреча поразила меня. Значит, то была моя удача, а эта не узнала меня. Между нами была пропасть – она из другого мира.
Ее моряки в мичманках с маленькими козырьками надвинулись на меня, и я медленно, с достоинством отошел.
Почему-то к командированным льнут вольные лица из привокзального дна. К моему столику подсела одинокая девица с красными губами. Я заказал водки. Она быстро опьянела.
– Представляешь, как было бы хорошо: мы с мужем на вилле. Он входит, я отряхиваю его, переодеваемся. Я подвожу на тележке еду – икру и прочее, потом мы к телевизору, метр на метр. Потом – в будуар, с багровой подсветкой. Вот как я хотела бы пожить.
Она рассказывала историю своей любви. Высокий, ко мне покровительственно. «Не ела? А ну пошли в забегаловку». Мы любили литературу, искусство. Чуть не посадили его в тюрьму за что-то. Исключили из партии, мол, разбил семью. Он мне – думал, я его выдала: предательница!..
Она смяла пальцами сигарету в пепельнице.
– Он меня за пазуху любил. Если бы, говорит, не это, ушел бы. Меня вот так обнимал, хочешь, покажу?
Взяла мои руки и обхватила ими себя. Я мягко отстранился.
– Да, был у меня муж. Нет, я удачно его подхватила. Платья подвенечного не было. Фату у подруги взяла. А он все-таки ушел. Он у меня не пил, зато я за него пью.
Какая-то старушка вздыхала:
– Странно видеть нынешнюю молодежь. Раньше мы даже свадьбу боялись справлять, одела драгоценности – комсорг заставил снять, мол, что за буржуйка. А теперь – только о добре, одежде, моде. Знали бы раньше, что это не предосудительно!
Наверху Приморский бульвар в сплошном лесу кранов и огней. Где-то в темноте скрывается бухта – холодной теменью, в отблесках невидимых волн.
Добрался до Театра оперы и балета. Внутри он золоченый, ложи из темного бархата. Поднял глаза – тускло блестит золото на потолке, меняется цвет, с красного на желтый, зеленый… Давали балет «Песня синего моря». Он, она, любовь покинутая, война, гадкие черные фашисты, встреча, она умирает на его руках – от истощения после блокады. Все на фоне мола и моря их детства.
Ничего не проходит. И сейчас балет на льду вызывает состояние легкой банальной грусти по любви.
Люди живут, наслаждаются, плавают, – другой мир, живой, мускулистый, залихватский, матерный. А я хожу и за шапку ондатровую боюсь, как бы пацаны не сдернули. Здесь идет своя жизнь, и ей нет никакого дела до нас, до власти. И никакого намека на то, что случится потом.
Наконец, пришел в свой номер. Игорька не оказалось. Ходил из угла в угол, в тоске. Наконец, он пришел, разделся. Показалось, что он был подавлен.
Мы разговорились. Видимо, он мне доверял.
– Мне не везет с бабами.
Он подумал, надо ли рассказывать.
– В армии был, в стройбате. Одна, Галка-прораб, ввела в прорабскую и дверь защелкнула. Я вижу, дело такое, стал снимать с нее брючки. Она – ничего. Только иногда: «Ой, чего ты… Так нельзя, без слов». Ну, после разговорились – она оказалась женой Ванюшки завгара. Ну, думаю, не надо бы. Мне друг Колька: «Брось, мало ли, в беду попадешь». Я и сам чувствую – надо кончать. Но… тянет. Она позвонила – пошел. Ну, так привык к ней. Она звонит – хожу. Она жила как раз за забором, мне ужинать, а я: к черту! И за забор, темно ведь. Как-то пригласила на Новый год, подругу привела, жену начальника гарнизона, толстую такую. Я: ну, Игорек, держись! Как обычно, шинель расстелил на полу – полы чистые. А за углом – Ванюшка! Я: «Галка, Ванюшка за углом, нехорошо бы не получилось». Вышли. «Иди прямо, вроде не видишь». Взял его за руки, не дал ее бить. «А, ты у меня узнаешь!»
Он вспоминал с сожалением.
– Потом, в прорабской, я ее за плечи, дверь приоткрыл, чтобы видно было. Чувствую, кто-то смотрит сзади, Ванюшка! «Дай паяльник, Галя». «Иди сам возьми». Ванюшка: «А-а-а! А вы миловаться будете?» Глаза бешеные, схватил доску, и на меня. Галка сбоку прыгнула на него, я за руки, ну и закатались по полу. Не пойму, где я, где он. Ребята наши собрались, не заступаются ни за кого, смотрят… Потом все равно встречались. «Галка, слышь, меня вызывают». «И меня тоже, Игорь»… Потом – реже. Демобилизовался, она подошла и в руки – сверток. Развернул – цветы, и записка: «Если тебе будет трудно…» и так далее.
И замолчал, чего-то не договаривая.
Утром пришли в Одесское отделение, незаметный зеленый домик среди каштанов.
Начальник отделения Мирошниченко, приезжавший к нам в Управление, крепенький хохол с прической, напоминающей оселедец, скривясь в улыбке говорил, словно намеренно, на украинском языке:
– Витаемо вас на украиньский земли!
У него всегда настороженная ироничная улыбочка, и нет той угодливости, с которой обычно встречают столичное начальство в провинции. Он окончил Киевский университет, был аспирантом, работал на строительстве Киевской ГЭС, потом на телевидении, в молодежной редакции. Выступил с протестом против арестов украинских интеллигентов-"шесидесятникоов", из-за критики перешел в спокойное Одесское отделение экспертиз. .
Днем были с одесскими экспертами в порту. Ветрище, холод, пахнет морем, корабли, один зеленый наполовину. Многое вспомнилось, из детства. На молу прислонился, закрыв бухту, пароход «Нахимов», громадный, клепаный, с пятном красной краски на носу. Другой медленно отплывает. Говорят, где-то там волнолом, и потому залив без волн. Моряки в ватниках, шлюпки подвешенные, чистые рубки над кораблем и водой.
Греческий пароход «Сизиф». Мы с экспертами Одесского отделения товарных экспертиз участвовали в разгрузке апельсинов. Принимали партию. Ветер. Материалов на акты экспертиз набралось только к ночи.
Когда легли спать, Игорек закурил папиросу.
– Чем кончилось? Нашел жену. Ее подружка вертелась около нее: «Не выходи, он вертун». Подали заявление, а та, сволочь… Я узнал от жены после, так запретил дружить с ней, и даже сейчас ненавижу… Ну, а теперь она подает на развод, узнала об измене, с той, что в стройбате.
Дальше он не захотел говорить, горечь внутри пересилила.
На следующее утро, в воскресенье, был парад физкультурников и демонстрация, как случается во всех уголках страны. 50-летие Украины. Но без парада бронетанковых войск. Говорят, для экономии.
Оттаяло, слякоть. Воробьев на деревьях – тьма. Сплошной писк или визг на улице. Говорят, летом даже не слышно машин.
Демонстранты шли в спортивной форме, с расстегнутыми воротниками белых расшитых сорочек.
К нам был прикреплен эксперт отделения, оказавшийся бывшим прокурором Одессы, пожилой, с одышкой, с колодой орденов на груди (сказал, брал Одессу).
– Пьете? Женщин любите? Значит, жить будем весело. У меня жена была необыкновенная красавица, ухаживала страшно, любила.
Он рассказывал, как у него в Одессе была уйма девиц, ведь, он был прокурор! Как брал девиц: шла одна из уборной, он ее в номер позвал. "Хорошая девица, уступчивая такая".
Рассказывал, как Хрущев грубо перевел его из прокурора Одессы в другой город за пьянку. Снявши голову, по волосам не плачут. Как хлеб по 100 г. давали, когда бросили на целину, и ее развалили. Молотов был прав – в центральных районах надо было увеличивать урожай.
Демонстранты шли и шли, размахивая флагами. Те, кого, наверно, этот прокурор с усмешечкой пытал и сажал.
Увы, в краткой командировке мы окунулись только в портовые будни с пронизывающим ветром с моря, и не увидели настоящий легендарный город, в котором жили герои Бабеля, Катаева и других гениев.
Перед отъездом я потянул Игорька в Аркадию. Там его горечь забылась. Море, волны бьют в мол, брызги на пять метров в высоту. Лазали по скалам, осмотрели пещеры с остатками побелки. Я искал раковины для Светки. Потом поели в кафе шашлыка, зашли на базар «Привоз», купили фрукты, гранаты…
А вечером начальник отделения пригласил нас к себе домой. Дом старый, пахнущий остро, как все старинные дома. Он говорил, намеренно по-украински:
– У вас в России не вмиют працювати.
Он говорил о стране, как о чужой, с усмешечкой, казавшейся наглой:
– Россияни винни в голодомори в Украини.
Меня, интернационалиста, как все мы были вокруг, это резануло. Что-то в этом национализме было узким, эгоистичным и откровенно враждебным. Я не знал тогда, что отдельность национальных надежд может стать выше интересов громоздких имперских агломератов.
Я ушел от политического разговора, навязываемого им. Он надменно говорил:
– Вы, росияни, не хочете бути щирими.
Он показал свое сокровище: древнюю мраморную скульптуру женщины, с пулевыми отметинами. В надменном лице, с большим носом, открывается другая цивилизация, чуждая нам, с иными ценностями. Откопана где-то в окрестностях.
Я смотрел в слепые глаза скульптуры, и думал о ней: откуда, какова ее судьба после того, как ее высек неведомый мастер?
Везде одно и то же, и мою замороженность не растопить другими краями. Но здесь я оживился, повеяло чем-то незнакомым.
***
Дома никого. Вечером пришла усталая Катя с дочкой.
– Целый день носилась с сумками. Не такой я себе жизнь представляла. Света оставалась у мамы, а у нее боль страшная в суставах, приходится ее навещать. Заикается страшно – полслова не скажет, реакция на какой-то испуг, может быть, уколы от кори. Что делать с августа – куда ее девать? Уходить с работы? Тогда мне пути закрыты.
Света испугалась моих подарков – ракушек и колючих шариков «бесстыдница».
Катя отрезвила:
– Неприятно-возбужденное настроение: ничего не хочется, чтобы развеселить себя, и чего всегда хотелось – не хочется.
– Странно, я не встречал счастливых людей. Наверно, кроме нового мужа твоей подруги Вали, да таких, как твоя подруга Галка…
– А чем она несчастлива? Муж старый, поживший, известный журналист. У него семья была, взрослые дети. С ним интересно, не как с тобой. Она его ценит. И достаток. Конечно, лучше, если бы со школьной скамьи дружили, когда только с одним.
– Что ты хочешь сказать – со школьной скамьи? Неинтересно со мной?
– Прекратим это. Не понимаешь, что я имею в виду, и прямолинейно…
У меня был в душе холод одиночества не любимого ею. Действительно, живу, и буду жить только в книгах, в мучительном прислушивании – осмыслении себя. И совсем нет участия в семье, и никогда не думал – пригласить ее хоть бы в театр.
Вечером читал «Трагедию Льва Толстого» В. Булгакова. Увидел лучше: живем, ссоримся, – кто прав? Она – с холодным отчуждением из-за моих привычек. И думаю – она никогда не поймет меня. У нас есть с Толстыми нечто сходное, и через много лет что-то поймем, чего не могли понять молодые С. А. и Л. Т., – разницу мировоззрений, характеров. И увидим свое место, издалека и высоко.
13
Последний день перед отпуском. Мозг в лихорадке, держит в себе уйму дел: ого, забыл! надо бежать за продуктами для дачи, а рука делает рабочие дела, и от этого туман в голове, и жалко чего-то, и тонкая обида, самолюбие, и предчувствие, что все будет хорошо.
– Ну, я пошел.
И не глядя, ощущая потупленный взгляд Ирины, решительно ушел, отбросив посторонние мысли.
Дома жарко, вещи разбросаны.
Катя молчит – не пришел во время упаковываться для переезда на дачу. Она заказала машину.
Закатил холодильник и прочее в машину.
– Лето будет жаркое, сухое, – сказал угрястый шофер. – Луна. Рога вертикально почти стоят. Это к ведру. А если бы наклонено, пузом, то дождливо будет.
До нашего дачного поселка полтора часа езды. Поехали в кузове, со Светой на коленях и котом Баськой. Она рада, все вертела головой.
– А объявлять остановку когда будут? (Что-то где-то запомнила).
– Как приедем, так и объявят.
Она захныкала. Остановились попикать.
– Цветочков хочу-у!
– Папа, принеси ей одуванчик, – сказала оживленная Катя, держа в руках рвущегося за нами кота.
Зажала в кулачке цветы. Ее перебрасывали с рук на руки, но она не чувствовала, цепко держась за цветы.
Я сел в кабину угрястого шофера. Он мягкий и стеснительный.
– Да, пшеница побурела. Скоро косить.
И всю дорогу рассказывал:
– Я в совхозе тут, в Домодедово работал. Адская работа, с раннего утра и до ночи, когда роса падет, – в поле. Отстроил тут такую домину (материал за счет совхоза), на участке соседки, и пришлось оставить ни за грош. Жалко. Две больших комнаты, кухня большая. Батареи поставил, ванну, сад посадил. Столько трудов положил, а соседка: "Забирай с собой сад, если просишь за него". А куда я его? К чертям уехал в Москву, там у меня мать. Получили квартиру, у меня ребенок, мать, жена с сестрой. По крайней мере, нормированный день. Правда, тоже за час до конца дня машину надо пригнать, то да се. Зато в воскресенье свободен. Вот только неприятность – сперли рулон клеенки, на 4 тыщи старыми. В суд подают. Я виноват в том, что утром выехал из парка и не проверил кузов. Что делать? Свербит в душе.
Он подмигнул мне:
– Да, хомут на себя надел ты. У меня в деревне тоже садик. Так приеду с работы, а жена: «Нужно полить!» Поливаешь. Или – угольку надо. Машина своя, привезешь. А в воскресенье – целый день топлю.
И вздохнул.
– Когда переезжал, приятели смеялись. Да тебе в городе нечего делать будет. Здесь хоть топить да поливать. Сбежишь сюда, ей-ей…
Помолчали.
– Хорошо тут, лес…
– Да, тут совхоз «Белые листья».
Мелькает речка-ручей Гнилушка, одиноко отблескивающая зарей. Чудесные дачи, спрятанные в зелени садов! Единственный рай, где прячутся от внешних тягот трудящиеся граждане.
Вот и наша дача, восемь соток, выделенные теще министерством, и деревянный сруб, который она обустраивала «своим горбом».
На границе нашего участка стояла соседка, с исплаканным лицом. Показала горсть собранных со смородины больных шариков.
– Значит, так. Надо вам со смородины клеща собрать. Потом листья сгрести.
И удалилась. Катя возмутилась:
– Терпеть не могу. Ради своего сада, чтоб к ним не перешло, на все готова.
– Это кто? – спросила Светка.
– Баба Яга.
Вышла соседка, из садового участка напротив, добрая, опекавшая нас.
– Уж эти Плохиши, соседи! Хозяйка своего никогда не упустит. Навоз привезли ей, а когда шофер выгрузил, она ему полцены. «Не хочешь, загружай обратно и увози. Понасадила вишен в полуметре от нашей границы. Ну, и я тоже. Она раскричалась, а я спокойненько: «Мои вишни – в метре, а ваши в полуметре». Годами оправлялись под яблони. Вонь такая, что до нас доходила. Ни грамма даже говна у нее не пропадает. Я с ней не ругаюсь – скажу и уйду.
Пока мы раскрывали окна, она продолжала:
– Напротив – Петр Иванович с семейством, вы знаете. Они ничего. Только вот мои доски тают, за стеной с их стороны. Штакетник унесли тоже. Как это можно? У них Галина Николаевна нагнулась к ребенку, и упала боком. Сломала позвоночник. Сейчас у них на даче заперто, пусто, а раньше с ранней весны людно было, – сыновья, снохи, внучата. Вот так бывает.
– С того угла, – продолжала она, – очень хорошие люди живут. Василий Иванович и-зу-мительный человек! Он жену потерял. С тех пор сдал.
А там – тоже очень хорошие евреи живут. Двое стариков. Это, сейчас работает в саду ее сестра. А они – на юге. Он пенсионер – путевка дешевая.
____
Наконец, в прохладе внутри дома, в запахе досок, поели картошкой с мясом и молоком.
Дорожные неудобства и страхи кончились.
В этом мире единственное, во что можно верить, это семья. Мир не приспособлен для вольного духа, и в нем есть только семья, спасение в наивной чистоте дочери, в моей мучительной любви с постоянной болью ревности к аристократическому духу гордой женщины. Поэтому у всех, с кем встречался – семья на первом месте. Но потухнет ли этот свет в мире? Или мир слишком холодный, чтобы сохранить этот свет в нежных ладонях.
Поднялся в мою «золотистую комнату» с дощатыми стенами, покрытыми свежей олифой. Она разделена на два «музея»: в прихожей царство плакатов и картинок сталинского ампира, сосланные сюда за ненадобностью. Сталин с Ворошиловым в сапогах прохаживаются по дорожке Кремля, ражие стахановки, лощеные артисты.
В большой комнате на соструганных мной книжных полках вся макулатура, изданная в сталинские времена: книги лауреатов сталинских премий, скучные журналы, вырезки из газет – съездов и пленумов. Поражаешься, сколько труда и бумаги израсходовано зря. Сколько убытков, одни убытки! Вся жизнь – сплошной убыток! – как говорил герой рассказа Чехова «Скрипка Ротшильда», похоронив жену!