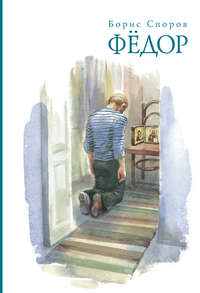Полная версия
Живица: Жизнь без праздников; Колодец
И все-таки в душе Алексея что-то сдвинулось: он как будто почувствовал свой возраст. Нельзя было оставлять мужа в одиночестве, но даже столь опытная женщина допустила промашку. Хотя какое уж там одиночество – два-три дня! И все-таки одиночество. Посмотрел в спину жены и её дочки – вот уже и одиночество, вот уже и червь в голову полез. Эх, времечко-то пролетело! Девчонка вытянулась до уха матери. А всего-то в шестой класс пойдет. Ничего себе – всего-то… И почему своего-то ребенка нет? (Задал вопрос и поморщился: есть, должно быть, у Зойки.) Господи, возраст-то что ни на есть самый зрелый и критический. Теперь уж только к пятидесяти годам можно заиметь своего Ванюшку….
Увиливает. Или надеется, что крепко за жабры взяла?.. И для чего тогда пыжиться? Просто жить можно и при райкоме партии. А что, может, и лучше бы остаться здесь – в районе… Нарожать детей, отгрохать дачу в Перелетихе… Вот ведь куда понесло. Сгинь, дух сомнения!.. И в момент провернулась жизнь от обозримого прошлого до настоящего, не только своя личная жизнь, а и жизнь вот этого края, отчего края, с которым скоро предстояло расстаться, и бог весть, возможно, навсегда. Промелькнули в памяти мать, отец – живые, многострадальные, – вспомнилась Перелетиха со школой под горушкой и сегодняшняя, неперспективная, где, наверно, будет в одиночестве стареть младшая сестра… Что-то вот и сдвинулось в душе, как будто проснулась тоска по детству. Только уж какая тоска, какое детство – не было детства, может, потому и тоска.
* * *Пришел Борис. Держался он, как обычно, застенчиво, но как только узнал, что ни Ады, ни дочки дома нет – уехали, так враз и оживился, осмелел, заговорил во весь голос:
– Ну, голова, и молчит, так бы и говорил, что один, а то молчит!
– Что же мне? Ты на порог, а я петухом на весь дом: один я, один – доставай бутылку! Так ли?
Борис ухмыльнулся:
– А ты, Петрович, откуда знаешь, что у меня бутылка?
– Что тут знать, великая тайна! Могу сказать, какая бутылка – «Золотая осень»… Морды поразбивать за такую «осень»! Травят людей…
– Ну и смешной же ты! Или я травлю? Сам ты и травишь, сам же и ругаешься. А ежели мужики не пили бы, так ваша мошна давно опустела бы.
– Оставь болтовню – опустела бы! Доходная статья, но не основная же. И что за манера – и пошел поливать! А сам ведь и в экономике не петришь.
– Я-то петрю, и ты петришь. Только тебе язычок-то на замочке велено держать… Вот и вся экономия, – Борис выставил на стол бутылку водки, причем вытянул ее откуда-то из-за пояса, – на ней всё и держится, от неё и погибнем. А то там не петришь, а мне и не надо петрить, хотя и не дурней телёнка.
Алексей в ответ лишь безнадежно махнул рукой. Что, мол, тебе и втолковывать. Но это был только жест, в душе своей он изумился: «Вот тебе и мужик! Влепил по ноздрям – и не дыши. Люди всё знают. Возле чапков и философствуют, и постигают политграмоту».
Совсем недавно и сам Алексей сделал для себя головокружительное открытие: спирт – основная статья дохода в государственном бюджете. Алексей буквально ужаснулся такому открытию: какое противоречие! Но он боялся даже подумать: какая ложь!..
– Видишь, не угадал – водка, не золотуха.
– Во вкус входишь.
– Вошел. – Борис поднялся к холодильнику за закуской.
Алексей с удивлением следил за ним. Борис без смущения распорядился рюмками, закуской, и когда повернулся к столу, Алексея покоробило: алкаш, законченный алкаш. Вызывающая дерзость, бесцеремонность и нахальство: с одной стороны, утрата совести, с другой – форма самообороны.
– Ну, что ты на меня так смотришь? Али не узнаешь? – Борис так и напустил на глаза хмарь.
– Тебя что, тошнит? Иди в туалет, – с ядовитой усмешкой ответил Алексей.
– Тошнит, тошнит, уже вытошнило, – смутившись, проворчал Борис. – Я к тебе, брат, по делу пришёл.
– Понятно. Без дела ко мне родственники не приходят.
– Экий ты мужик – зубастый… И сам ты занятой, и жинка у тебя… такая – вот зазря к вам и не шастаем, – ответил Борис, хотя сказать-то ему хотелось другое и не так, да воздержался – и правильно сделал.
– Ладно, не на суде, – довольный эффектом своих слов, подбодрил Алексей. – Наливай, я с тобой тоже рюмашечку выпью.
– Это дельно, это дельно! – Борис так и взбодрился. – А то ведь когда один пьешь, навроде как аликом себя чувствуешь…
Уже минул год, как Сиротины продали в Курбатихе свой «холодный» дом и перебрались в город. Все складывалось так, как и предопределял Алексей. Правда, слишком уж дорого, по мнению Бориса и Веры, обошлась им городская хибарка, но они мгновенно успокоились, как только Алексей растолковал им, сколько стоит в городе хотя бы однокомнатная квартира, понятно, кооперативная. Да и то верно, приложить бы руки к этой развалюхе, глядишь, домишко и заиграл бы, но ни о каком ремонте и думать не приходилось, лишь бы на голову не текло.
Поначалу и Борис, и Вера вместе работали на заводе. Вера до сих пор так и сидела на испытании автосигналов и уходить никуда не собиралась, хотя от шума постоянно болела голова. А Борис уже через два месяца уволился – рабочим в продовольственный магазин, где и началась его новая «линька».
Петька с Федькой кое-как окончили среднюю школу, даже не представляя, зачем они её окончили. Второй месяц работали с матерью на заводе, но работали так – отрабатывали.
А Ванюшка жил в Перелетихе.
Для Веры и Бориса удивительным представилось лишь то, что сам-то переезд оказался нетрудным – куда как труднее было в Курбатихе без конца решать: ехать, не ехать?..
– Я ведь зачем к тебе, – наконец доверительно заговорил Борис. – Ты ведь в этом деле, в законах-то, волокёшь…
– Волоку, волоку, пять с половиной лет учился… Говори, пока голова-то варит.
– Мои-то, значит, большаки в армию уходят, в военкомат вызывали – жди повестки. А нас, может, в этом году или в том выселят. Вот ты мне и подскажи: будем мы иметь право требовать и на солдат комнату, чтобы получить, значит, трехкомнатную квартиру. Нас пять душ, а из армии придут – женихи. Это одно, а другое: как бы кроме квартиры за дом с государства ещё слупить бы деньгу – это очень даже положено. – И Борис испытующе прищурился.
«Вот оно что, – с горькой иронией подумал Алексей. – Чуть только выползли, так сразу и права качать – урвать, сорвать, не выпустить. Как будто особые права получили».
– Д-аа, – вслух продолжил он, – ты с ходу быка за рога…
– Эка! – Борис от изумления даже руки от стола вскинул. – Петрович, а как же? Куй железо, пока не остыло!
– Ну-ну… Служащие в Советской армии при получении жилплощади имеют равные на жилплощадь права, предусмотренные общим законом… Денежные компенсации при предоставлении государственной квартиры не предусматриваются. Было одно время и так – и квартиру получил, и деньгу. Сейчас это не проходит.
– Жаль, – Борис даже крякнул, даже головой тряхнул, досадуя, – а я-то мнил и квартирку получить трехкомнатную, и деньжат хотя бы тыщонку.
И Алексея взорвало:
– Ну, мать же твою за ногу! И куда гнешь, деревня стоеросовая! Не успел выбраться – уже выгоду подавай! Деньги и квартирку, будьте любезны, трехкомнатную! Дети ещё и в армию не ушли, а ты их уже и женихами встречаешь, Ванька в деревне живет – двое вас! А однокомнатную не хотите? Совесть надо иметь – трехкомнатную! Я не в магазине рабочим работаю, а секретарем райкома комсомола, имеем три диплома на троих, а живем, как видишь, в двухкомнатной. И думки уже нет, что лучшее-то заслужить, заработать надо, хотя бы и на заводе. А ведь удрал, удрал с завода… – И Алексей вдруг осекся, не потому, что наговорил много обидного, глянул мельком на Бориса и прочел на его лице такое безразличие, такое невосприятие всего, что невольно подумал: да он и не слушает, сидит и ждет, когда я кончу лупить в барабан… Лишь на мгновение замолчал Алексей, замер, но уже тотчас раскатисто засмеялся: – Вот так тебе и скажут в райисполкоме – и пойдешь несолоно хлебавши!.. А я тебе и вовсе одно скажу: всегда знай меру.
Борис молча продолжал катать в пальцах шарик из хлебных крошек. Действительно, в нем даже досада не шелохнулась. За этот короткий год Борис чудодейственным образом вобрал в себя так называемый бытовой рационализм. Он хорошо освоил, что сегодня ни в чем никому не надо перечить, но и ни на шаг не отступать от своего и чтобы закон был на твоей стороне или уж хотя бы зацепка за законность… Теперь он убедился, что имеет право на трехкомнатную квартиру, а получит ее или нет – дело следующее. А то, что Алексей молотит, так ведь помолотит – и кончит.
– Ну, что молчишь?
Борис поднял на него невыразительный взгляд и, оттопырив манерно нижнюю губу, пробормотал:
– А что там и долго говорить, не пора ли повторить?
И повторили…
И случилось удивительное превращение: Алексей вдруг и как никогда естественно переключился на игру. Лишь вскользь он подумал: «А ведь на партийной работе – там! – придется иметь дело со всякими людьми. И не отмахнешься: и вопрос реши, и мнение о себе хорошее оставь» – вот так только и подумал – и переключился. Играть-то он умел и раньше, и неплохо, но вот эта игра – была уже выше порядком, когда человек как бы переступает в иной мир, где безоговорочно цель оправдывает любые средства и даже живые люди становятся средством – всепоглощающая виртуальность. Подобные превращения доступны и понятны ещё писателям и актерам – одни воссоздают за письменным столом целый мир и порой сами уже не в состоянии отслоить реально происходившее от вымысла, вторые входят в роль настолько, что, случается, трагически умирают на сцене вместе со своим героем.
Алексей сосредоточенно хмурился, кивал, поддакивал и в то же время даже не сознанием, а неведомым доселе чувством понимал, что никогда ничего не сделает этому человеку ради справедливой помощи, хотя ни в чем и не откажет. И даже когда Борис сказал:
– Деньжат надо бы сот пять сынов в армию проводить, да вот ещё на аванец – записались в очередь на стенку для новой квартиры… – Даже тогда Алексей понимающе кивал: да, да, все надо.
– А нам не до стенок, не до ковров. Живем, видишь, как на вокзале. Холодильник да телевизор – и всё, даже лишней чашки-плошки нет. – И доверительно положил руку на плечо Бориса.
Прищурил глаза и беззвучно засмеялся Борис:
– Ты, Петрович, жив не тем. Что тебе стенка, когда твоя думка далеко плутает. Стенка – как верига на ногах, далеко ли утопаешь! Ты тепереча лет до полста не угнездишься, так и будет – холодильник да телевизор… А нам с Верухой квартиру, стенку, да и самих к стенке. Только вот квартиру скорее бы, в домишке чтой-то холодно. В Курбатихе холодно, а здесь и того холодней… как в чистом поле на песках. А как же без тепла да в чистом поле… Может, для сугреву из холодильника, пока бабы-то нет, а ты дома. А то ведь всё как чужие – и не посидим, не покалякаем, не пожалимся друг другу…
И затмило. Алексей не смог бы сказать, долго ли продолжалось это затмение. Он вдруг ясно почувствовал: кто-то поддерживает его под локоть, помогает идти – в этот момент как будто и прояснилось. Алексей отдернул руку, точно возмутился: простите, я и сам пока в состоянии ходить. Но рядом никого не было – значит, померещилось, значит, на ходу вздремнул.
В квартире всюду горел свет. Алексей шел из своей комнаты с бутылкой коньяку, которую и нес-то плашмя в обеих руках. Через открытую дверь и коридор было видно, как Борис, прильнув к столу щекой, спит на кухне, слышалось похрапывание… «Не он же под руку поддерживал», – мелькнула осмысленная догадка, и Алексей вторично оглянулся – никого.
…Хотелось почему-то не просто выпить-похмелиться, хотелось напиться до беспамятства, до свинства, как никогда – в стельку, в лоскут, в доску, в гробину. Но не будить же этого хмыря, чтобы вливать ему в горло двадцатирублевый коньяк. И Алексей повернулся назад в комнату. В тот же момент кто-то обнял его за плечи, легонько притиснул, дохнув утробным жаром в щеку. Алексей дернулся и выругался вслух:
– Тьфу, черт возьми!
– Зачем же так грубо, Алексей Петрович? – прозвучал голос трезво, бодро, и уничижительная усмешка брызнула из этого голоса. Алексей настороженно повел взглядом: за письменным столом, в его креслице сидел мужчина, одетый в его новый, ненадеванный костюм, купленный всего-то неделю назад, чтобы не ударить в грязь лицом – там.
«Жулик, ляпнул костюм, – мелькнула догадка, но тотчас же и отпала: – Жулик за столом?»
Алексей хотел обратиться к гостю с ледяной вежливостью – так, чтобы враз и обезоружить этого нахала. Но на руках, как ребенок, лежала бутылка – и это смутило, И все же он откашлялся, однако сказал буквально против своей воли:
– Ну что ты, пёс, лыбишься? Влез в чужой костюм и лыбишься!
Невероятно, почти чудовищно – что за голос, что за язык! Алексей растерянно зыркнул по сторонам, а гость, похоже, в усмешке отвернулся к столу.
– Во-первых, я не пёс, Алексей Петрович. Пора бы и забыть сермяжную феню. А во-вторых, давайте сюда, давайте коньячок. И посидим, и покумекаем: ведь как-никак, а ждете приглашение ко двору.
В животном страхе Алексей подумал: «Да ведь это же мужик, видать, из обкома, приехал по делу, а я тут в дупель, да ещё и рычу. – Но уже тотчас и возмутился. – Да и хрен с ним, что из обкома, я – дома».
– Я говорю, а хрена тебе вместо коньяку не подать из холодильника – имеется! – И на сей раз Алексей не узнал себя: голос не свой, развязность не своя – и слова-то, как из выгребной ямы.
– Ты что, сударь, или спятил? – грозно разворачиваясь, проговорил гость. – Я ведь, смотри, сейчас же одну свинцовую в лоб зафинтилю – и язык закусишь. К тебе не грузчик магазинный пришел…
Алексей содрогнулся. «Встать в строй!» – прозвучала команда. И косясь на гостя, отмечая играющий желвак на скуле и шишковатый с залысиной лоб, стараясь не качаться, Алексей тихонько поставил коньяк на стол и сам, как бедный родственник, присоседился на краешке стула.
Но в горле-то у Алексея так и трепетало живое, холодное, отрезвляющее слово, и оно, это слово, уже оформлялось и отливалось в свинец – тоже ведь в лоб зафинтилить можно. Экая зараза, пришел…
– Вот и прикинем, как будет и что будет – ну, лет на пять, до сорока твоих, – переливаясь то ли в улыбке, то ли в двойном освещении, заговорил гость. – Ты хоть понимаешь, какая возможность перед тобой открывается? Какая перспектива… Хотя ты пока ещё телок, ты даже вкуса этой перспективы не знаешь. Но – познаешь. Только за все надо платить, и ты должен знать, какой валютой…
Насупившись, Алексей молчал. Как вода в сосуде, колыхалось в нем сознание – и единственное, что силился понять он: кто такой? – но понять не мог… И, видимо, из раздражения на то, что сам он опустошен, как футляр без инструмента, что даже понять не в состоянии, кто этот человек, и в то же время понимая, что происходит что-то важное и это важное не зависит от него, он опять-таки посторонним голосом, с раздражением сказал:
– Кто продаётся – я или ты?
– На взаимной выгоде, – не совсем понятно ответил гость.
Переспрашивать, уяснять Алексей не решился. Чувствуя, как всё в нем кипит от возмущения, готовый с удовольствием шарахнуть бутылкой по балде этого с иголочки хлюста, Алексей нетерпеливо закурил и, хищно растягивая рот, сказал:
– Я ведь много хочу, тебе и не снилось, как много – очень много.
Гость весело с подголоском засмеялся, в восторге даже руку вскинул:
– Это и хорошо – блестяще!.. И как только ты все поймешь, так я и включу – зеленый свет… И перелицуем принцип: каждому по его способностям!..
И далее гость повел мирную речь, перемежая ее сигаретками и коньячком. Нет, в его словах не было никакой тайны, никакого заговора, да и говорил он о простых и понятных вещах, однако в какой-то момент своим нетрезвым умом Алексей вдруг очень трезво понял, что он уже сдался, уже подчинился, уже согласился на всё и что он уже в такой зависимости, в такой отчаянной безвыходности, что никто ему не поможет, никто не спасет. И только теперь он почувствовал, как всё внутри дрожит от недоумения и страха перед непонятной сделкой… И так-то вдруг стало жаль себя, сделалось тоскливо до тошноты, захотелось уйти, убежать, спрятаться в какую-нибудь западню или щелочку, сжавшись до подходящих размеров.
Как под снайперским прицелом, Алексей поднялся, на всё на свете махнув рукой – стреляйте: умышленно покачнулся, сбился с шага – и пошел, пошел, и уже казалось, что даже в коридоре спасение, а уж если в ванной да замкнуться, то и вообще – бункер, крепость… И тишина окружала, и не хотелось верить, что за спиной следит он, что стоит лишь оглянуться – и уже никакая крепость, никакая стена не спасут. И Алексей не оглянулся: он вышел в коридор – дверь в ванную открыта, и там тоже горел свет.
Щелкнула задвижка.
Теперь хотелось одного: протрезвиться, очиститься – и тогда, грезилось, все восстановится и никакие нахалы уже не смутят. Алексей ополоснул лицо холодной водой, затем в стакан налил воды, из настенного ящика-аптечки достал нашатырный спирт, накапал в воду и придерживая левой рукой горло, чтобы умерить тошноту, начал пить из стакана меленькими глотками.
Четверть часа спустя из ванной вышел гладко причесанный Алексей. Хотя внутреннее состояние его и было подавленное, шел он уверенно с твердым намерением дать бой этому наглому торгашу.
«Нет, мил-друг, меня Хаймовичем не удивишь!» – подбодрил себя Алексей, небрежно толкнул в комнату дверь – и остолбенел.
В рабочем креслице за столом сидел Борис: не первой свежести, но вполне вменяемый, он улыбался навстречу, щуря один глаз и как бы говоря: «А я ничего, проспался – могу и продолжить».
– Где он? – бледнея, спросил Алексей.
Глава вторая
1
Тридцать годков без одной зимы минуло с тех пор, как пришла похоронка на Петра Струнина. Тридцать лет – и ни единого праздника, только и есть что свечечка в угасающем сознании Лизаветы… Без одной зимы десять годков, как упокоилась Лизавета. И дети взрослые: старшей, Анне, за сорок, младшей, Нине, за тридцать. Это ли не сроки!.. А уж для Перелетихи горемычные тридцать лет – хуже Мамаевых. И дышит облысевший взгорок безголосым, неживым покоем, точно не след от деревни, а от погоста след – памятно зеленеют в рядок уцелевшие березки да рябины, когда-то посаженные под окнами, да только выросшие к изголовью.
И укрылась плотной дерниной земля, не та – картофельная, картофельные усады распахали сплошняком и уже обезличили, а земля огородная, на которой с незапамятных времен выращивали лучок-чесночок. Отдыхает кормилица, ждет своего часа смутой выморочная земля.
А вот дом Петра Струнина пережил все сроки. Подгнивали нижние венцы, разрушались углы, и дом уже много лет оседал, а в последний год завалилась переводина, и повисли, захлябали половицы – это конец… Долго думала, долго гадала в своем одиночестве Нина, и минувшим летом надумала – подрубить, поднять родительский дом. Все свои копейки собрала – мало, взяла ссуду – хватило.
С неожиданной охотой согласились подрубить дом перелетихинские мужики, правда, теперь – курбатовские, теперь – старики, и стариков-то – двое. Возглавил артель Чачин. Казалось бы, от былого Чачина уже ничего и не осталось, а взялся! Ну а где Чачин, там и Бачин. Всего же их набралось шестеро. Что и не постукать топором, что не подсобить друг другу – пенсионеры, своя воля.
Весь лето они возились с домом, изо дня в день – без выходных. Работали по-стариковски: не торопко, но споро и ладно. Вроде бы и разворачиваются-кряхтят, а по венцу к вечеру и обтесали, и обстрогали, а на другой день и пазы выбрали, и в обвязку на шканты положили. Да так вот оно и шло – не напором, не штурмом, а напористым прилежанием, терпением да трудом. И новый венец дополнительно прирубили, и фундамент подвели, правда, пришлось помоложе мужиков призвать. Дом подняли, так и мост с крыльцом поднимать надо, стало быть, обновлять. И что уж особо дельно, все порушенную временем резьбу на окнах и фронтоне восстановили. Явись теперь Петр Струнин, уж он-то свой дом узнал бы: от какого ушел, к такому и пришел бы.
И мужики-то распалились: и что за дочь у Петрухи, не покидает родительский дом! Уважим ей, парнишки, помянем Петра, авось и Перелетиха ещё поживет.
И Нина, глядя на стариков, радовалась и плакала от горечи беспамятной. Двадцать восьмого августа и сбегала в Никольское, поставила свечечки, подала записки о здравии и об упокоении, просфоры взяла – и за отца Петра Алексеевича, которого и во сне ни разу не видела, за мать, и за мужиков-односельчан, сверстников отцовых.
А когда закруглились мужики, пошабашили, то устроила им хозяюшка обед знатный.
Весь стол уже был заставлен тарелками и блюдами с жареным, пареным и холодным, а Нина все возилась у печи – готовила. Мужики отдыхали здесь же, разместившись кто на чем поодаль от стола.
Нинушка уже хотела ополоснуть руки, чтобы и пригласить к столу, когда Чачин, опередив, поднялся со стула и валко подошел к печи. Он положил свою крепкую руку на притолоку дверного проема, как бы пробуя, а ладно ли сделана отгородка, слегка тряхнул ее рукой и, по-детски смущенно улыбнувшись, спросил:
– Нет ли дочка, у тебя водицы крещенской?
Нина растерялась, и в растерянности подумала: «Господи, подшутить, что ли, хотят», – и уже вздохнула, чтобы ответить: «нет», – как вздрогнула, спохватилась: «Да что я, в таком-то деле и врать!» – и ответила даже спокойно:
– Есть.
Как под конвоем прошла в боковушку, вынесла оттуда белую бутылку с винтовой пробкой.
– Вот, крещенская.
– Дай посудинку и что-нито навроде кисточки.
И только теперь Нина поняла, зачем понадобилось Чачину все это – жаром так и опахнуло лицо изнутри.
Всю жизнь, все годы, проведенные в Перелетихе, Нина видела вот этих мужиков и, думалось, знала их доподлинно. Уж что проще – Чачин да Бачин: один, казалось, только то и делал, что гоготал, охальничал да над властью потешался, а второй, напротив, со всем соглашался, всему поддакивал и вечно заседал в президиумах. И мнилось, что ничего другого в этих людях нет, да и что может быть, когда душа нараспашку – и вся она перед тобой, как разграбленная кошёлка.
Только взял Чачин большую пиалу, набулькал в нее крещенской водицы, прихватил в кузнецкие пальцы кисть особую и, вздохнув, вышел в двери. И видно было в окна, как макает он кропило в водицу и, коротко взмахивая рукой, кропит обновленные стены дома – и еле заметно беззвучно шелестят его губы.
Вошел Чачин внутрь дома. И мужики поднялись, заприглаживали ладонями волосы, а Чачин макнет кисточку да махнет – во имя Отца, макнет да махнет – и Сына, макнет да махнет – и Святого Духа…
И Ванюшка тут как тут – вынырнул из боковушки. Прошел Чачин в боковушку – и там покропил. А вышел – не узнать мужика: таким степенством и достоинством от него веяло.
Обратились мужики к красному углу.
И не видела Нина отродясь, за всю свою жизнь не видела, чтобы семь мужиков с Ванюшкой и она вот здесь, в родительском доме, одновременно лбы перекрестили. И Бачин, не чудо ли чудное – Бачин, глуховато кашлянув, степенно прочел «Отче наш…». И вздохнули мужики, на молитву притихшие. А Чачин сказал:
– Теперь и выпьем по фронтовой… вот и помянем Петруху, а заодно и Лизу горемычную.
И сели к столу, и на минуту замерли, и до звона в ушах охватила тишина.
Вот и помянули.
2
Нина и сама не знала, почему именно так складывалась её личная жизнь. Поначалу было ясно, почему, скажем, осталась в Перелетихе – затосковала по самостоятельности. Какая ни родня, а всё в чужой семье. Вот и осталась. Но ведь можно было, и не раз, подняться в ту же Курбатиху, а вот не поднялась. И опять же была на то причина. Жалела, Перелетиху жалела, отчий дом и Ванюшку жалела. Достаточно было пустить ей свой дом на дрова – и все, останные дворы рухнули бы. Старухи здесь и доживали свой век лишь потому, что Нинушка Струнина под боком – в любом деле выручит. А ещё – Ванюшка: ему здесь свобода, ему здесь раздолье, ему здесь вольница. А любовь да вольница – рай для ребенка.
А уж когда мужики дом подрубили да так отладили, что он, казалось, и плечи порасправил, и козырёк вознес горделиво, тогда даже из Курбатихи бабы приходили поглазеть-убедиться: шутка ли – Нинушка Струнина родительский дом возвеличила! А Юлия в Курбатихе табуретку на улицу вынесла, села – и плакала.
Не подозревая того, Нина своим капитальным ремонтом сделала вызов и партийной, и советской властям. Поняли это и Раков, и Алексей, а после популярного толкования поняла и сама Нина.
И все-таки никто поначалу не подозревал, как это много – капитально отремонтированный дом в поруганной деревне.
Те, кто продумывал и утверждал идею разрушения традиционного сельского уклада, рассуждали властно и просто. Нельзя же, как литовкой траву, смахивать целиком и враз живые деревни по той лишь причине, что, мол, неперспективные – какое наглое, кощунственное слово! Поэтому приговоренные к уничтожению деревни лишались жизненности: школы, магазина, агитпункта, электричества – и уже достаточно, чтобы люди поднялись на этап. А что старики останутся на пепелищах, так это и хорошо: видимость естественного самоуничтожения и минимум забот – сами собой лет за десять – пятнадцать и вымрут… Вот так же разрушали и разрушают церкви: всякий раз взрывать – можно прослыть и вандалами, а сорви кровлю – дожди и ветры дело завершат.