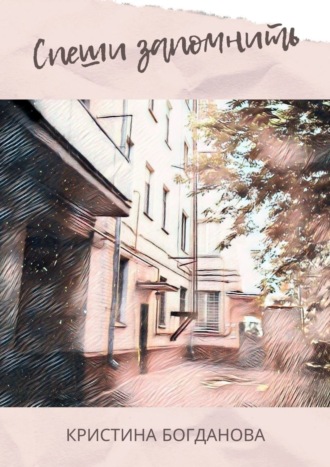
Полная версия
Спеши запомнить
Под завистливый шепот распахнутой форточки я продолжаю баловать себя изысками бабушкиной кухни. Ее яблочный пирог удивителен, и в моей памяти он навсегда останется теплым островом самых спелых воспоминаний. И если бы однажды Бог спросил меня, как пахнет первое лето на Земле, я бы непременно ответила: только так – яблочным пирогом, который бабушка старательно пекла для нас с братом.
Но быстрое время на часах неумолимо уходит прочь, и это заставляет маму поглядывать на них с невысказанной тревогой.
– Отец скоро приедет? – озадаченно спрашивает она у бабушки.
– С минуты на минуту.
И не успевает бабушка договорить, как из прихожей волной негромкого шуршания начинают доноситься звуки открывающейся двери. Звон ключей в кармане, и мгновением позже – поворот ключа в замке. Еще секунда, и в дверном проеме обрисовывается взъерошенный силуэт деда.
– Не вставайте, я сейчас быстро схожу в магазин за колбасой и бутылкой пива на вечер! – стремительно объявляет он.
Понимая, что спорить с дедом бесполезно, мы продолжаем нашу скромную беседу, которая тем не менее будет слышна даже тем, кто случайно в этот вечер пройдет мимо окна бабушкиной квартиры на расстоянии шести-семи метров.
Спустя еще около тридцати минут мама объявляет, что непременно пора сворачивать наш маленький пикник, и мы бодро начинаем собираться домой. Спешно одеваемся и уже через мгновение оказываемся на улице под серым козырьком подъезда. Как и всегда прежде, вслед за нами на улицу выходит бабушка, это ее скромный ритуал – провожать нас прямо посреди двора. На ногах красуются домашние тапочки: она вновь забыла сменить их на уличную обувь.
Бабушка громко прощается с мамой, параллельно не упуская возможности обсудить некоторые крайне актуальные темы, и очень скоро я понимаю, что такое прощание (совершенно обыденное для моей семьи) может затянуться надолго.
Я отхожу в сторону и наблюдаю.
Прошла уже тысяча лет, а лохматые тополя кудрявыми кронами по-прежнему шелестят над головой. Из года в год и изо дня в день грубые руки московского ветра гнут их шершавые ветви, однако ничего не меняется: стройные деревья стоически выдерживают напор стихии и времени.
В грязной песочнице играют дети. Я незаметно улыбаюсь – это улыбка скорби по быстротечным сюжетам времени. Ведь, кажется, еще совсем недавно мы сами копошились здесь, будто два крошечных жучка, но у времени нельзя взять отсрочку взросления. И вот теперь это началось – мы постоянно куда-то спешим, что-то ищем, кого-то ждем. Однажды вырастут и эти дети. Придут сюда без видимой цели – постоять в тени кривых арок, послушать, как ветер танцует в листве, побродить по знакомым переулкам – каждый из них пахнет детством и домом. Когда-нибудь и они заметят это: как умело время белой нитью выскальзывает прямо из наших рук, а мы этого как будто не замечаем. Словно невидимая рука с силой швырнула в воздух шерстяной клубок нашей жизни, и вот он быстро катится по асфальту переспелым яблоком, а все, что остается после, – лишь робкий след на тротуарах вечности.
Надеюсь, они никогда не посмеют забыть, откуда все началось. Ведь это невероятно важно: построив дом своей жизни, всегда помнить о том хрупком фундаменте, на котором он держится. Фундаменте воспоминаний.
Да, время уйдет. В конце концов, оно всегда уходит. Но я знаю наверняка: тополя над головой не перестанут шелестеть. Даже если у нас больше не будет ушей, чтобы это слышать. Хочется только непременно остаться в каждом метре этого города, он нечаянно заблудился на скрещенной карте севера, переполненный, но пустой. Дышать в нем пылью весенних дорог и обрести в этом истинный покой – заснуть в колыбели вечности под гулкую мелодию автострад. Большими буквами впечатать свое имя в хмурые стены этих уставших зданий и позже остаться лишь немым эхом в чужих голосах – теперь здесь играют другие дети. Капризный ветер будет все так же протяжно выть и стучаться в окна по ночам, и блики света от проезжающих машин будут рисовать на потолке причудливые узоры. И главное – может, когда-нибудь этот безумный ветер снова станет разносить наши далекие мечты по пустым карманам, и нам – в груде пыли на пустом полу – будет с силой вздымать грудную клетку, мы выдохнем в последний раз и вновь услышим ритм пульса самых далеких прохожих.
Внезапно я осознаю: я совершенно отвлекалась от того, что сейчас происходит под козырьком подъезда. А там, застыв в неестественных позах, стоят мама и бабушка и пристально смотрят в сторону арки, из темных недр которой вдруг появляется взлохмаченный и отчего-то кажущийся теперь абсолютно потерянным дедушка.
Он хромает. А точнее, он идет так, что очень скоро становится понятно: волочет за собой правую ногу. Я решительно не понимаю, отчего так происходит, поэтому начинаю идти ему навстречу. Внезапно у меня появляется возможность в мельчайших деталях разглядеть его стремительно приближающее лицо. Я замираю в немом изумлении.
Цвет его лица оказывается слишком бледным – так не выглядит здоровый человек. Привычно смуглое лицо дедушки теперь приобрело желтовато-серый, будто восковой, оттенок. Щеки сильно впали, а острые скулы отчетливо проступили на его изрядно похудевшем лице, которое в данный момент было бы правильнее назвать маской. Глаза странным образом потускнели и поблекли, словно кто-то нарочно пожелал их обесцветить.
Теперь я отдаю себе отчет в том, что там, в квартире, под другим освещением я этого просто не заметила. Я оборачиваюсь, чтобы лучше вглядеться в лица бабушки и мамы, и моментально осознаю, что вовсе не я одна сразу не сумела этого разглядеть. На их искривленных физиономиях застыл безмолвный испуг.
Дед идет так, как никогда не ходил прежде. Как будто не своей походкой. Точно испуганный воробушек, он сгорбился, как бы прижался к земле, и от этого, кажется, словно стал намного меньше, чем на самом деле.
– Здравствуй, дед! – пытаясь прибавить голосу непринужденности, громко приветствую его я. – Ты как? Ты себя хорошо чувствуешь?
– Привет, Кристюша! Да как-то не очень. Пойду-ка я сразу домой, что-то не могу долго стоять на ногах, лучше бы прилечь.
Никогда прежде я не видела его таким. Выглядит он чрезвычайно усталым и нездоровым. Болезненно худым и слишком бледным. Он быстро, но тепло приветствует маму нежным поцелуем в лоб и, сославшись на невыносимую слабость, спешно скрывается за железной дверью подъезда.
Я смотрю на бабушку. На ее лице читаются крайняя тревога и озабоченность.
Мама первой нарушает повисшее в воздухе молчание:
– Он плохо себя чувствует? – спрашивает она у бабушки.
– Это продолжается уже давно. Мне кажется, он тяжело болен. Простуды следуют одна за другой. Быть может, у него воспаление легких, уж больно сильно он кашляет по ночам! Но ты ведь его знаешь! Все дело в том, что он даже и не собирается лечиться! – встревоженно отвечает она.
– Да еще и хромает, – замечает мама.
– И ведь правда! Кажется, это началось лишь несколько дней назад… – в задумчивости проговаривает бабушка.
– Знаешь, вот как мы поступим. Я оставлю тебе телефон специалиста, ты обязательно позвони ему и обо всем договорись. А затем обязательно отвези отца на обследование. И прошу, не задавай мне пока лишних вопросов.
Мама вытащила из сумочки маленькую визитку розового цвета и аккуратно протянула ее бабушке. Бабушка кивнула в знак согласия:
– До свидания, мои хорошие!
– До встречи! Звони мне, как только все узнаешь!
И мы уехали домой. Бабушка долго махала нам вслед, крестила воздух перед собой – это должно было уберечь нас от бед. Тогда она еще не знала, что беда невидимой тенью уже давно живет в ее собственном доме.
* * * * * * * * * * * *Глава 1. (Воспоминания)
Ровным светом солнце освещает каждый метр серого асфальта. Улица залита теплом. Солнечные лучи пляшут на тротуарах, отражаются в лужах, обнимают ласковыми эфирными пальцами шершавые стволы деревьев.
На дворе апрель. Такой, каким я его знаю. Будто бы все время Вселенной сосредоточивается в одном месяце. Это пик. Момент, когда все оживает, поднимается и наполняется воздухом весны. Начиная от почек на деревьях и заканчивая человеческими сердцами. Апрель – будто хрупкий эмбрион жизни, что теплится в материнской утробе. Еще немного, и родится новый мир. Со своими красками, солнцем и небом – нет, не таким серым, а другим, ярко-голубым, чистым и распахнутым. Кажется, будто потерпеть осталось недолго. Совсем скоро мир опрокинется в лето. Закружится в бесконечном празднике, и в этом есть особая прелесть: знать, что впереди только лучшее. И с этим осознанием жить.
Мы расположились возле дедушкиного гаража. В объятиях нежного солнца. Он копошится под машиной, у него это, кажется, называется «чинить», хотя у меня всегда возникала масса вопросов по этому поводу. Я маленькая, мне лет шесть от роду, учусь кататься на велосипеде. Коленки разбиты в кровь, на них ссадины и ранки, но я даже не думаю сдаваться, для меня это дело крайней важности.
Вокруг нас с особо деловитым видом ходят чумазые апрельские голуби. Они такие грязные и ободранные, что кажется, будто они могли быть только здесь. В этом месте. В этой части города. Пахнет железом, мусором, так как метрах в двух находится прелестнейшая свалка районного масштаба, и краской, ибо тротуары только-только выкрашены в черно-белую зебру (непонятно по какой причине тротуары обязательно должны быть черно-белые. Да и зачем вообще каждый год, будто надеясь на чудо, так упорно их выкрашивать, зная, что дешевая краска не продержится и до середины лета, я, честно сказать, не знаю, да и никто не знает) и, конечно же, бензином.
Ветер шаловливо шелестит в густых кронах высоких тополей. Листьев еще немного, и они маленькие, нежные, едва позеленевшие, только что вкусившие терпкий вкус жизни. Запахи, витающие в воздухе, уносят куда-то далеко отсюда. Справедливости ради стоит отметить, что в воздухе пахнет не только железом и бензином, но и горячим, недавно испеченным хлебом, купленным в расположенной поблизости местной булочной, в которой, к слову, готовят самый вкусный хлеб на свете. Если купить его сразу после двух, как только его выставят на прилавок, заранее отстояв длинную очередь, и, расплатившись, быстро вернуться домой, можно успеть положить его на стол еще теплым, даже горячим. Но основная прелесть в другом. Вам вряд ли удастся донести его до дома целиком, ведь он так свеж и пахуч, что, пожалуй, нужно обладать невероятным мужеством, чтобы не откусить кусочек по пути. А если все-таки хлеб попадет на стол, то будет источать неземные запахи, которые, проникая через полуоткрытое окно на первом этаже, будут манить голодных прохожих.
Как и происходит сейчас. Окно соседской квартиры открыто настежь. Оттуда доносятся аромат теплого хлеба и звуки громко работающего радиоприемника. Хозяйка этой квартиры – улыбчивая женщина лет пятидесяти пяти с пухлыми ногами и коротенькими руками, которая ходит медленно и вперевалку, непременно надевая нелепого вида старый красный шарфик в любое время года. Она всегда шумно гремит посудой на кухне, что предвещает ее громкий последующий возглас «Кушать готово!».
Все это я слышу день ото дня. Прохожу мимо ее окна и внимательно вслушиваюсь. Она такая суетливо-настоящая, истинное воплощение простой московской жизни. На ее столе вечным каламбуром хаотично разбросаны крошки пищи. У нее усталые натруженные руки, которые полжизни таскали тяжелые сумки из дома на работу и из магазина в дом. Она уже немного утомилась от этой жизни, но тем не менее не прекращает улыбаться каждому случайному прохожему, будто по крупицам пытаясь отыскать в их взглядах искренность и отблески красоты своей погибшей молодости, по которой изредка со светлой тоской скучает.
Эта женщина, как и все в этом хрупком мире, – часть моей жизни, часть меня самой.
Асфальт под ногами продолжает услужливо стелиться. Шершавый, серый и пыльный. На коленках с каждой секундой появляется все больше и больше детских неровных ссадин.
Дед замечает их. Он смеется. Вылезает из-под машины. На него надеты его проклятые потрепанные штаны. Они ужасно испачкались. Грязнее только его руки. В одной ладони железные инструменты, другой он аккуратно убирает со смуглого лба черные, как смоль, кудри.
– Ты чего это, убиться об асфальт совсем решила, принцеска? – громко хохоча, спрашивает он.
– Я вот научиться хочу, – указываю взглядом на покоцанный желто-синий велосипедик.
– Значит, научиться… – с задумчивым видом произносит он. – Но, чтобы научиться, знаешь, нужно упорство, – он улыбаясь рассматривает мои ссадины на коленках. – Но, видимо, у тебя его с лихвою хватает.
– Тогда чего же не хватает? – недоумеваю я.
– Может, веры? – с легкой полуулыбкой спрашивает он.
– Может, и веры… только как же я пойму, что мне именно веры не хватает? – продолжаю допытываться я.
– Так ты же не можешь научиться. Если бы хватало веры, ты бы уже летела на своем велосипеде по длинным улицам и не оглядывалась бы, а пока не можешь, значит, веры в себя нет. В то, что ты все сможешь, что тебе все по плечу. Так во всем, понимаешь? Даже в жизни. Если вера есть вот здесь, внутри, – он кладет руку себе на грудь, – то плевать, кто ты, где ты, зачем. Тебе все равно. Кто-то спешит куда-то, за что-то борется, ищет свою силу, становится сильным, а ты даже не пытаешься. Потому что у тебя уже есть другая сила. Твоя крепкая и непоколебимая вера. Люди без веры, маленькая моя, такие смешные. Когда-нибудь ты это увидишь, ну а пока просто поверь. Люди спешат становиться сильнее и отращивать себе острые зубы. Но, например, у акулы две тысячи острых зубов, и ей абсолютно все равно, что находится над поверхностью воды. Потому что всему миру на самом деле плевать, сколько у тебя зубов. Главное, есть ли у тебя перспектива видеть немного дальше собственного носа, – он затихает на пару мгновений. – Вот поймешь это и научишься кататься на велосипеде, – дед взъерошивает большой шершавой ладонью мою пшеничную головку, – а может, и не только на велосипеде.
Через три дня я уже буду кататься на велосипеде, но пока ровным счетом ничего об этом не знаю. Я с предельным вниманием разглядываю небольшую лужицу под ногами, каким-то чудом выжившую под палящим дневным солнцем. Меня всегда интересовал этот вопрос, думаю, сейчас самое время его задать.
– А почему в луже радуга? – наконец выпаливаю я.
– Почему-почему? Все бы тебе знать, – дед тяжело вздыхает, – это интерференция световых волн.
Я захожусь в громком истерическом смехе.
– Да, конечно же, я все поняла, – смеюсь я. – Чего ты тут рассказываешь, это обыкновенная радуга, а тебе лишь бы чудеса убить. Небось, сам-то не понял, чего сказал? – не унимаюсь я.
– Ну, принцеска… – дед наклоняет набок голову, внимательно вглядывается в мое смеющееся, жаркое от улыбки лицо, и я вижу, как в его глазах неутомимым огнем загорается неповторимый задор. – Я тебя сейчас поймаю и докажу, – он резко догоняет меня, хватает обеими руками и поднимает вверх, издавая при этом смешные звуки, имитирующие, по его мнению, работающий двигатель маленького самолетика.
– Прекрати-прекрати, опусти сейчас же, – хохоча, визжу я.
– Тогда не задавай дурацких вопросов.
– Тогда и не буду задавать. Давай, чини уже свою машину…
Он отпускает меня, и я продолжаю крутиться на асфальтированной площадке перед нашим домом. Еще одно окно распахнуто настежь. Но здесь решительно другая история. Одинокий, стремительно стареющий мужчина, который, однако, не теряет надежды. У него была бурная молодость и бесконечное желание стать лучше, но, видимо, что-то не сложилось. И такое бывает. Его удел теперь – вдыхать извечный никотин соседей и прогнившими легкими глотать дымные облака пыльного воздуха. Пить свой дурацкий кофе и верить в мечты своей трагически погибшей молодости.
Дед копошится в гараже, громко перебирая инструменты где-то глубоко в его темных недрах. Странно, но в тот день я очень многое поняла. Многому научилась. И не только тому, как нужно кататься на детском двухколесном велосипеде, определенно.
Я подхожу к окну своей странной смешной соседки. Присаживаюсь на асфальт и начинаю вслушиваться. Теперь я снова знаю, что творится внутри. Привычный шум успокаивает меня. Я закрываю глаза и спиной ощущаю шершавую стену родного дома. Солнце ласкает мне щеки. Я прижимаю ладони к стене. Мир сжимается вокруг меня. Я ощущаю небывалую эйфорию от жизни. Знала бы тогда, что через много лет буду стоять вот так напротив и шептать этим стенам свое странное заклятие.
«Привет, я не научилась жить иначе».
Быть может, тогда все и сложилось бы по-другому. А все-таки здорово, что нам не суждено знать будущего.
Глава 2
Испуганной бабочкой бьются на ветру льняные занавески. Крошечной соринкой в масштабе Вселенной я утопаю в тканом озере простыней. Изнеженное тело пьет солнечный свет залпом, позже наполняет все лампочки внутри, стеклянные сосуды с золотым сиянием и запахом холодного воздуха. Весна – как архипелаг надежды, цветущий оазис в пустыне тусклых цветов и выцветших бликов.
Я знала всегда: весна спасет во мне лучшее от человека. Проведет вдоль заплаканных улиц за руку к рассвету смысла, к полудню жизни.
И я стою у окна, только здесь, в неизбежном центре, вслушиваюсь в тишину. Сегодня мне показалось, что время еще не началось. А кто-то посмел разбудить, разобрать, заглянуть в гнездо и найти там того, кто сумеет сказать миру, что весна – не просто повод надеть более легкую одежду.
Невидимой рукой разбросаны по земле острова зелени и пробуждения, осколки стекла и сломанные заколки. И шар воздушный запутан в ветвях – он реет над переулком разорванным флагом, куском глянцевой пленки в умелых пальцах обнаглевшего ветра. Долгая зима сожгла этот город холодом и темнотой, отняла голубые краски у неба и писала на его мольберте скудными грязно-серыми мазками. И мы устали, мы перестали дышать как ребенок, выпавший из лодки посреди залива: каждый вдох – это последний шаг навстречу бессмертию. Весна скользнула по крышам и упала в лужу, разбилась хрусталем, разлетелась по тротуарам брызгами солнца и запахла в воздухе сладкой патокой.
Когда ты здесь, а впереди простирается неровность московского тротуара, хочется только пройти еще тысячу миль, ступая неслышно, будто меня никто и не ждет на том конце весны. Будто никто не торопит, словно не существует временных и пространственных границ – это так, лишь глупая выдумка Бога, а ты иди, сколько сможешь, и не ищи конца этой странной дистанции. Порхай по теплому воздуху, ты – невесомое перо с крыльев огромной птицы или даже атом в первородном хаосе космоса – это не важно, это не есть смысл. Смысл – это быть струной, на которой Вселенная играет звонкую музыку жизни. Шаги и ветер, танец в полете – ты гуляешь по краю и слышишь молящий шепот одного из стремительно бредущих на снос невысоких домов. Город не хочет быть стертым с карты памяти, как мы не хотим умирать с невысказанной болью, а впрочем, ее все равно не высвободить из тюрьмы грудной клетки, она живет там нехваткой кислорода, катается под ребрами волнами слез, торчит из диафрагмы уродливой рукоятью беспристрастного меча.
Под моими ногами трамвайные рельсы шепчут новые сказки, а я перепрыгиваю их так, словно мне хватит сил пройти навстречу еще несколько жизней. Это слепой прыжок в самую глубокую пучину судьбы – никогда не знаешь, что ждет тебя за поворотом. Под ногами белоснежный берег на истоке, место, координаты которого невозможно найти ни на одной карте мира. Под моими ногами пыльный московский асфальт, и он почти стал моей кожей, вошел внутрь меня, застыл и живет в каждом вдохе.
«Погоди, трамвай, не уезжай так быстро. Забери меня с собой и по стареньким рельсам увези далеко отсюда, туда, где нет пыли и громких автомобильных гудков вслед, а трамвайные пути неспешно уходят вдаль и сливаются с горизонтом в самой крайней точке», – шепчу я и еле заметно улыбаюсь. Кажется, никто не должен этого заметить. Да, я всегда любила без следа теряться в этом городе и только тогда чувствовать себя по-настоящему свободной, ибо, наверное, стать таковой можно действительно только в том случае, когда тебя никто не видит.
А я уже почти перешла на бег. Я всегда знала, жизнь – это словно затяжной бег на какую-то определенную дистанцию. Резвые, непослушные ноги сами ведут нас, сшибая на своем пути различные препятствия и стены, перепрыгивая ямы и взбираясь на возвышения. Можно бежать с какой-то целью. Можно бежать, глядя на горизонт. Видеть там что-то невероятное и постоянно стремиться к этой тающей вдали точке. А достигая ее, находить взглядом новую и бежать уже к ней. Наверное, это бесконечно круто – бежать. Я никогда не боялась лишиться своих ног, а также заветной точки на горизонте. Единственное, чего я боюсь, – это потерять из виду тех, кто бежит рядом, а еще забыть, зачем бегу. Ведь по-настоящему важно, не то, куда ты бежишь и сколько преград сшибаешь на пути, а то, осталась ли у тебя после всех этих лет любовь к бегу.
А небо над головой горит цветными огнями пустых перекрестков и разливается лужами на тусклых асфальтных мостовых. И если мысленно приложить ладони к горизонту, можно увидеть, как город сладкой ватой тает в их горячем плену и безропотно теряется между россыпью солнечных бликов, небрежно прыгающих по крышам. Да на этих самых пыльных улицах похоронено мое детство, чистотой взглядов терзающее в надеждах на исполнение сокровенного.
Это как экстракт нежности, что бывает в глазах влюбленных и младенцев, этакий концентрат весеннего света и искренности… Экстракт нежности в моих жестах с рождения рисует на стеклах видения и провожает смиренным взглядом небесноглазых деточек на улице, вслед им, счастливым и юным, каждый раз бросая свою весеннюю эйфорию. И пусть сквозняки в воспаленных легких свистят без отпусков, цепляясь тонкими пальцами за изящность ушедшего детства, и светофоры мигают одиноким пешеходам, освещая красно-желто-зеленым дорогу.
А в такие моменты только хочется неслышно прошептать: «Дай им любви и прощения, Боже», – потому что в этой апрельской сказке, среди родных прохожих и уютных крыш, знаешь, Бог, мне снова хочется верить в чудеса.
Мама рассказывает что-то взахлеб, но я ее почти не слышу. Сижу и пристально наблюдаю за быстрой сменой эмоций на ее красивом лице. Будто невесомым покрывалом дневной свет закутал ее плечи, а в лицо детским восторгом крепко вцепилось хрупкое изящество безмятежности. Так продолжается несколько недолгих минут, а затем квартиру сотрясает звенящий гул телефонного звонка.
Я мечтаю, чтобы со мной навсегда остался этот большой кусок проклятой жизни с ночными посиделками на кухне и пыльными простынями на антресолях, советскими обоями в нелепую розочку и запахом бабушкиной выпечки в полуденной тишине дома. Потому что такой мир не стирается. Не уходит, не растворяется, не пропадает бесследно. Он навсегда остается в нас нежным осадком на самом дне расцарапанного нутра, его оттуда не достать и не выловить, он камнем спит под толщей серых воспоминаний и безликих будней. Но он там всегда. Главное – позволить себе никогда об этом не забывать.
Тем временем утро достигает своей кульминации. Мы с мамой сидим на кухне, пьем чай со вкусом травы, и с этого ракурса мама вдруг начинает казаться мне неожиданно свежей и молодой.
Совсем как тогда, я помню. Лет семь, может, восемь назад. Мы жили еще все вместе, и мама играла мне на пианино. В полдень. В квартире становилось неожиданно тихо, это было похоже на невидимого духа, который влетал через открытые форточки и съедал весь шум. Шум за окнами и шум старого дома. Даже бесконечное бормотание внутреннего голоса – он съедал все.
Оставалось лишь пианино, и я видела, как аккуратно мама поднимает отполированную крышку. В оконный проем лились дрожащие струйки света. Я смотрела на просвет. Было видно, как в беззвучном вальсе кружится пыль.
Она играла мне «Лунную сонату» Бетховена и еще «К Элизе» – мелодию моего детства.
Окна, плотно занавешенные шторами, создавали в комнате абсолютный полумрак. Под эту музыку я начинала тихо кружиться, и никто из нас не произносил ни слова.
Как будто эта музыка звучала здесь всегда. Распадалась на аккорды блеском уставших глаз – такие глаза были у всех, кого я знала. На перекрестках жизни танцевала робким шумом сонного дождя, бродила по тротуарам пылью и кошачьими лапами. Эту музыку играла мама в полдень в нашей тихой гостиной, но мне казалось, что она звучала с неба – легкой поступью спускалась на землю и медленно застывала в тонких руках жестокого времени. Я ощущала ее оголенное дыхание, словно одиночество рисовало с нее натуру, а музыка играла, но играла теперь не звуками – она прорастала в воздухе прозрачными цветами из пустоты.


