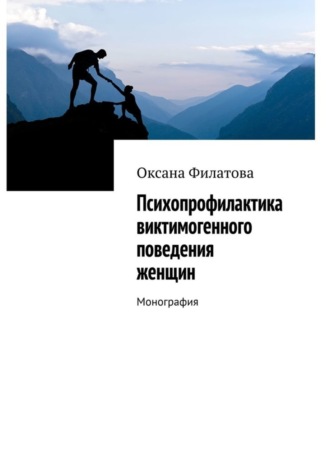
Полная версия
Психопрофилактика виктимогенного поведения женщин. Монография
Эвентуальная виктимность (виктимность в потенции), означающая возможность при случае, при известных обстоятельствах, при определенной ситуации стать жертвой преступления, включает в себя причинно обусловленные и причинно сообразные девиации. Естественно, что характеристики эвентуальной виктимности в основном определяются частотой виктимизации определенных слоев и групп населения и закономерностями, присущими такой виктимизации.
Децидивная виктимность (виктимность в действии), охватывающая стадии подготовки и принятия виктимогенного решения, да и саму виктимную активность, соответственно, включает в себя целесообразные и целеобусловленные девиации, служащие катализатором преступления.
По мнению сексолога-криминалиста Б. Л. Гульмана, люди, которые сознательно или бессознательно выбирают роль жертвы, имеют некоторые общие черты:
• установку на демонстрацию беспомощности в критической ситуации;
• нежелание менять неблагоприятные аспекты жизни;
• постоянное обращение за помощью к другим лицам;
• низкую самооценку;
• робость, нерешительность;
• быстрое усвоение виктимных стереотипов от близкого окружения [13].
Такие лица постоянно оказываются в потенциально опасных ситуациях; подсознательно они настроены на получение как можно более тяжелых физических и психологических травм – для возможности вызывания сочувствия у окружающих и, как следствие, материальной и психологической помощи.
Например, классический портрет жертвы сексуального насилия включает черты фатализма, робость и внутреннюю напряженность, скромность, неуверенность в себе и высокую внушаемость. Гульман отмечает, что большинство (72±6%) потерпевших являлись случайными жертвами и не провоцировали преступников, причем 27±6% из них оказывали решительное сопротивление, несмотря на внезапность нападения и чувство страха, остальные по этим причинам не сопротивлялись насилию. Сознательно провоцировали мужчин с надеждой в последний момент не допустить изнасилования 15±4% женщин; 12±4% неосознанно провоцировали преступников (легко знакомились, флиртовали, вели разговоры на сексуальные темы). Среди пострадавших 15±4% были внушаемы, 29±5% после изнасилования требовали денежной компенсации, а 3±2% – женитьбы; в основном по этим причинам 36±6% женщин заявили о преступлении в правоохранительные органы через 1—2 недели после изнасилования, молодые девушки – чаще по настоянию родителей.
Таким образом, проведенное автором исследование показало, что в довольно значительном числе случаев – 28±6%, изнасилование было спровоцировано неправильным поведением женщин либо совершению преступления способствовали особенности личности жертв, их неспособность противостоять насилию.
Рассматривая виктимность как психическую и социально-психологическую девиации (семейные, групповые и этнические формы патологической виктимности, коллективный страх перед преступностью), следует отметить особую роль именно феномена коллективного страха, как основной ее формы, присущей большой численности населения нашей планеты, и практически не подлежащей критическому переосмыслению и коррекции.
Рассматривая этот феномен, Ф. Риман видел в нем подсознательную реализацию противоречия между стремлением каждого человека к стабильному существованию, безопасному будущему и тяге к изменениям, потребности в новом опыте. Он утверждал, что в основном страхи, которые являются органической составляющей нашего бытия как биологических и социальных существ, напрямую связаны с телесным, психическим и духовным развитием, с овладением различными социальными функциями при интеграции в общество. Страх сопровождает человека всякий раз, когда он пересекает привычные границы своего существования и делает шаг в сторону нового, непознанного.
Такой страх может проявляться как в форме опасения попадания в определенные ситуации (ночная прогулка, незнакомый город, вынужденное одиночество), или в отношении отдельных лиц (преступник, насильник, незнакомая особь мужского пола), так и в виде генерализованного состояния ожидания опасности (охватывая широкий круг коллективного бессознательного).
Опыт общества, в котором живет человек, формирует у него комплекс специфических для данного этноса страхов, основанных на трагических событиях из народного прошлого и прогнозировании будущих катастроф, роста преступности, экономических проблем, исходя из искусственно сконструированных, логично необоснованных, эмоционально окрашенных сообщений СМИ.
Эти страхи напрямую связаны с нашими внутренними установками, физическим и психологическим самочувствием, системой ценностей и опытом социального общения. По Ф. Риману, основными видами таких страхов являются:
• страх перед необходимостью самоутверждения, который воспринимается как незащищенность перед обществом;
• страх «потеряться в толпе»;
• страх перед вынужденными изменениями, которые воспринимаются как потеря удобных стереотипов и неуверенность в себе;
• страх перед необходимостью принимать важные решения.
Страх перед преступностью, в отличие от элементарных правил предосторожности, основывается на иррациональное основе, и приводит, как минимум, к остановке в социализационном процессе и сужению круга общения.
Широкую трактовку понятия потерпевшего в уголовном праве дает Д. Б. Булгаков. По его мнению, в круг потерпевших следует включить следующие категории лиц:
– родственники и близкие убитого;
– родственники и близкие потерпевшего от особо тяжкого преступления;
– лица (за исключением преступников), которым причинён вред в результате действий лица в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости, либо при наличии иных обстоятельств, исключающих преступность деяния;
– лица, которым причинѐн вред в результате действий лица в состоянии невменяемости [11].
В. Я. Рыбальская признавала степень виктимности основным критерием типологизации, что дает возможность обособить несколько типов жертв:
1. Случайная жертва. При отсутствии виктимогенных признаков или когда они незначительны, лицо становится жертвой в результате стечения обстоятельств (случайное попадание в то место и время, где сконцентрированы потенциальные жертвы, или попадание в место и время, где стихийно возник конфликт, к которому жертва не имеет никакого отношения). В большинстве случаев взаимоотношения между будущей жертвой и преступником возникают ситуативно, непосредственно перед совершением преступления. Возникшие взаимоотношения, в принципе, не зависят ни от воли и желания жертвы, ни от воли и желания преступника.
2. Жертва с незначительным потенциалом риска, живущая в нормальных для всех людей рамках возможного риска, виктимность которой возросла непредвиденно, под влиянием конкретной неблагоприятной ситуации. К этой
группе может быть отнесена большая часть людей, если только они не попадают в условия, которые делают их случайными жертвами.
3. Жертва с повышенным потенциалом риска, в отношении которой действует целый комплекс факторов риска. К этой группе относятся два основных типа жертв:
а) жертвы неосторожных преступлений – характер выполняемой ими работы или их поведение, как, например, участников движения по улицам и дорогам, таит более высокую, чем обычная, виктимность;
б) жертвы умышленных преступлений, социальный статус которых или выполняемые ими социальные роли содержат повышенный риск виктимности (работники силовых структур или представители общественности, на которых возложены функции по охране общественного порядка и безопасности на определенных объектах). Жертвами данного типа могут быть и лица, виктимность которых возросла в результате конкретных взаимоотношений между будущей жертвой и преступником и эвентуально – третьих лиц, породивших конфликтную ситуацию.
4. Жертва с очень большим потенциалом риска, нравственно-социальная деформация которой не отличает ее от некоторых ярко выраженных правонарушителей. Она характеризуется стойкой асоциальностью или антисоциальностью: неучастием в общественно полезном труде, проституцией, наркоманией, гомосексуализмом, незаконной торговлей и др.
Многие из них обычно бывали ранее осуждены за различные преступления. Особенное положение в этой группе занимают «воры в законе», «преступные
авторитеты» [14].
Различные типы поведения жертвы позволяют увидеть широкий спектр ее ролей. Так, можно отличать совершенно невиновную жертву от жертвы по
незнанию, от добровольной жертвы, от жертвы по неосторожности, от человека, ставшего жертвой в результате собственной провокации, первым совершившего нападение, стимулирующего преступление и от мнимой жертвы.
А. А. Гаджиева предполагает, что при установлении в виктимологии критериев типизации, следует серьезно учитывать социальные, нравственные, эстетические и психические особенности жертвы и ее поведения. На этой основе ею была предложена следующая типология потерпевших:
– потерпевшие, не способные сами адекватно оценить виктимность ситуации, предшествующей преступлению. К ним можно отнести детей и лиц с психическими отклонениями. Эта категория людей практически беззащитна перед преступными посягательствами, если они оказываются вне сферы влияния лиц, призванных контролировать их поведение и защищать их;
– потерпевшие, способные сами адекватно оценить опасность ситуации, предшествующей преступлению, но в силу того, что преступник является их знакомым или родственником, не строящие предположения о наступлении криминальных последствий;
– потерпевшие, способные сами адекватно оценить виктимность ситуации, предшествующей преступлению, но по тем или иным соображениям пренебрегшие мерами личной безопасности. Сюда относятся в первую очередь женщины, чьи маршруты передвижения пролегали по безлюдным местам, в поздние вечерние часы без сопровождения и т. д.;
– потерпевшие, находившиеся в своих домах, чаще всего в сельской местности, и подвергшиеся там нападениям, которые иногда сопровождаются ограблением жертв либо, напротив, вначале совершается разбой, который перерастает в изнасилование и последующее убийство;
– потерпевшие, чья виктимность обусловлена определенным родом занятий (политики, бизнесмены, сторожа, инкассаторы и пр.), обычно предпринимающие меры безопасности;
– потерпевшие, которые спровоцировали посягательство положительным поведением (заступались за своих близких, реагировали на противоправное или аморальное поведение);
– лица, которых устранили в связи с особым процессуальным статусом (свидетели и потерпевшие, которые могли дать показания против обвиняемого или подозреваемого, либо их близкие), а также лица, смерть которых позволяла кому-либо приобрести имущественные выгоды (вступить в наследство, стать единственным собственником жилья и пр.);
– потерпевшие, являющиеся членами преступных групп [15].
Безусловно, с каждой новой эпохой, имеющей свои социокультуральные особенности, классификация и типология жертв несколько видоизменяются и нуждаются в дальнейшей переработке, установлении критериев, определяющих роль жертвы в различных юридически значимых ситуациях, что требует совместных усилий криминологов, психиатров, психологов и представителей других смежных специальностей.
Разработка виктимологической типологии непосредственно связана с решением практических задач по борьбе с преступностью и ограничением виктимизации в обществе. Определение вида жертвы (составление «психологического портрета») облегчает их выявление и возможность проведения с ними коллективной или индивидуальной профилактической работы.
Как свидетельствует статистика, женщины в 4 раза чаще мужчин становятся жертвами бытового, криминального, религиозного и экономического насилия. Характеризуя процесс виктимизации женщин на индивидуальном уровне, мы можем процитировать слова известного криминалиста З. А. Астемирова: «На уровне индивида процесс виктимизации происходит на микросоциальных уровнях и связан с адаптацией его в реальных социальных условиях, с его образом жизни и отношением к правилам общежития, обретением нравственно-психологической устойчивости и материального благополучия».
Необходимыми компонентами виктимизации на индивидуальном уровне являются виктимность как устойчивая констелляция свойств отдельной личности, и виктимогенная ситуация – взаимодействие между носителем этих качеств и преступником, что и определяет результат виктимизации индивида.
В зависимости от уровня взаимодействия преступности и виктимности, его продолжительности и объектно-субъектных связей, выделяются следующие виды виктимизации: первичная, вторичная, третичная и рецидивная (повторная).
Под первичной виктимизацией понимается причинение материального, физического, морального и иного вреда жертве непосредственно в процессе совершения преступления.
Вторичная виктимизация охватывает случаи косвенного причинения
вреда жертве, связанного с отношением к ней социальной общности в целом, лиц из ближайшего окружения, правоохранительных органов, медиков и представителей больничного персонала, работающего с жертвами. Предубежденность в отношении жертвы, грубое, невнимательное обращение и негативное отношение к ней как к лицу, чем-то запятнавшему себя, унижение ее чести и достоинства составляют перечень типичных форм вторичной виктимизации.
Третичная виктимизация жертвы преступления проявляется не только в неправомерном её использовании представителями правоохранительных органов и работниками средств массовой информации в своих целях, но и в причинении или угрозе причинения вреда жертве, в связи ее участием в уголовном судопроизводстве.
Под рецидивной виктимизацией понимается повторное причинение вреда данной жертве в ситуации, не связанной с предыдущим преступлением.
Следует помнить, что виктимизация поражает сферу «самости» жертвы. Включенными здесь являются не столько индифферентные ее качества или зона личностной уязвимости, сколько внутренний, аутентичный мир жертвы и иных лиц, тесным образом связанных с ней.
Глава 2
НЕПРАВИЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕВОЧЕК
КАК ПРЕДИКТОР ИХ ВИКТИМИЗАЦИИ
Известно, что особенности раннего детства, специфика протекания психосексуальных этапов развития, наличие фиксации на определенном этапе, обусловливают формирование характера человека.
Характер, в узком смысле слова – репертуар типичных паттернов поведения, устойчивый, во многом неосознаваемый, способ реагирования на других людей и внешние обстоятельства.
В основе психодинамических концепций развития лежит выдвинутое З. Фрейдом предположение о том, что основные характеристики личности, ее базовая структура формируются в раннем детском возрасте, сохраняясь практически неизменными на протяжении всей последующей жизни. При этом отношение к людям, окружающим ребенка с момента рождения – в первую очередь, к родителям – впоследствии проецируется, переносится на других людей, определяя тем самым его адаптацию в социуме, семейные отношения и собственное родительство.
Хотя большинство психоаналитических концептов Фрейда сейчас рассматриваются с позиций мультифакторности генезиса становления личности, психологи всего мира единодушно признают справедливость трех его теоретических положений:
1) существующие психологические проблемы являются отражением своих младенческих предшественников;
2) взаимодействия в ранние годы создают шаблон для более позднего восприятия жизненного опыта, и мы бессознательно понимаем его в соответствии с категориями, которые были важны в детстве;
3) идентификация уровня развития личности – это кардинально важная часть понимания характера человека.
В психоаналитической теории развития продолжают оставаться все те же три фазы инфантильной психологической организации:
– первый год и половина второго года жизни (оральная фаза по Фрейду);
– промежуток от полутора-двух лет до трех лет жизни (анальная фаза по Фрейду);
– время между тремя-четырьмя и примерно шестью годами жизни (эдипова, или фаллическая фаза по Фрейду).
У женщин с повышенной виктимностью обнаруживается типичная модель поведения, характерная более для ребенка, чем для взрослого человека. При этом общие характеристики виктимности выглядят следующим образом:
– трудность в принятии решений, неуверенность в их правильности, «душевные метания»;
– стремление опереться на совет, поддержку других людей, создание ситуаций, когда решение за них принимает кто-то другой;
– исполнение неприятных для них, но необходимых для других обязанностей;
– сохранение деструктивных взаимоотношений из страха быть покинутыми;
– беспомощность в ответ на критику и неодобрение, поиск инфантильных оправданий;
– нечеткая граница Я, неумение прервать нежелательную интервенцию в личное пространство;
– подавленные эмоции прорываются в виде запоздалой злости и агрессивности, оставляя после себя чувство вины и стыда;
– зависимость от оценки окружающих;
– боязнь одиночества;
– отсутствие чувства внутренней значимости;
– отношения «прилипания» к другому, без которого они не могут выжить;
– стремление угадать желания окружающих и удовлетворить их, знать и чувствовать, что нравится, и что не нравится другим;
– проявление заботы об окружающих, роль «мученика»;
– ответственность за чувства других, за содержание их мыслей, за их жизнь;
– слабо выраженная духовность, приземленность, бытовой уровень логики.
Выраженность «симптомов» виктимности может колебаться от слабой до значительной степени, так же как и в любой дисфункциональной модели поведения. Формирование очерченного, узнаваемого по нескольким критериям, комплекса повышенной виктимности, приходится на подростковый возраст.
Известный исследователь подросткового возраста, Э. Шпрангер в своей культурно-психологической концепции определил подростковый возраст как период врастания в культуру: по сути, это врастание индивидуальной психики в объективный и нормативный дух данной эпохи. Содержанием кризиса в этом возрасте является освобождение от детской зависимости. По Шпрангеру, главные новообразования подросткового возраста – открытие «Я», возникновение рефлексии, осознание своей индивидуальности. Первые сексуальные переживания сопряжены со страхом перед чем-то тайным и незнакомым и чувством стыда, что вызывает дискомфорт и чувство неполноценности, а впоследствии может проявляться в страхе перед миром и перед людьми, вплоть до враждебности [16].
Ш. Бюлер, рассматривая пубертатный период с биологической точки зрения, выявила специфические психические явления, связанные с вызреванием особой биологической потребности – потребности в дополнении, которая побуждает к поискам и сближению с существом другого пола. Бюлер отметила основные черты негативной фазы этого процесса: повышенная чувствительность и раздражительность, беспокойное и легковозбудимое состояние; физическое и душевное недомогание (драчливость и капризы); перенос неудовлетворенности собой на окружающий мир. Непослушание, занятие запрещенными делами обладает в этот период особой притягательной силой. Не дают покоя чувства одиночества, чужеродности, непонятости. Снижается работоспособность, растет изоляция от окружающих или открытое проявление враждебности, совершаются разного рода асоциальные поступки. Ш. Бюлер предпринята попытка рассмотреть пубертатный период в единстве органического созревания и психического развития [17].
В. Штерн описал подростковый возраст как промежуточный между детской игрой и серьезной ответственной деятельностью взрослого. По Штерну, тип человеческой личности обусловливают переживаемые ценности. В концепции Ж. Пиаже, в подростковом возрасте осуществляется «последняя фундаментальная децентрация – ребенок освобождается от конкретной привязанности к данным в поле восприятия объектам и начинает рассматривать мир с точки зрения того, как его можно изменить». Согласно Ж. Пиаже в этом возрасте окончательно формируется личность, строится программа жизни.
Э. Эриксон в своей эпигенетической теории определил подростковый период как кризис идентичности, то есть формирование новой идентичности (поиск ответа на вопрос «кто я в различных жизненных и социальных ситуациях?» и сведения всех этих ролей во внутренне непротиворечивый комплекс) в противовес ролевой неопределенности детского личностного Я. Формирование идентичности, по Эриксону, есть процесс самоопределения. Идентичность (тождественность) может быть понята в двух измерениях – временном и ситуативно-ролевом. Во временном измерении идентичность обеспечивает преемственность, связь прошлого, настоящего и будущего. В ситуативно-ролевом – составляет центральное образование, удерживающее в единстве многие ситуации и роли, в которых выступает человек. Тот, кто сформировал идентичность, оказывается самотождественным, он остается самим собой независимо от ситуации, он адекватен ей, не теряя при этом своего лица.
К важнейшим конфликтам этого возраста относятся следующие.
Диффузия идентичности: кратковременная или длительная неспособность Я сформировать идентичность. Такие молодые люди не могут выработать свои ценности, цели и идеалы; сталкиваясь с проблемами развития, они не в состоянии завершить психосоциальное самоопределение. Они избегают адекватных для их возраста требований и возвращаются на более раннюю ступень развития, в известной степени оправдывающую их неправильное поведение.
Диффузия времени: нарушение чувства времени, проявляющееся двояким образом. Либо возникает ощущение жесточайшего цейтнота, либо человек чувствует себя одновременно молодым и старым. Нередко с диффузией связаны страх или желание смерти.
Застой в работе: нарушение естественной работоспособности, в большинстве случаев сопровождающееся диффузией идентичности. Подростки либо неспособны сосредоточиться на необходимых и соответствующих их возрасту задачах, либо чрезмерно поглощены бесполезными для дальнейшего развития вещами в ущерб всем остальным занятиям.
Отрицательная идентичность проявляется прежде всего в отрицании всех свойств и ролей, которые в норме способствуют формированию идентичности (семейные роли и привычки, профессиональные, полоролевые стереотипы и т. д.).
Позже проблема идентичности исследовалась многими авторами. Наиболее известны работы Дж. Марсиа, который выделил четыре основных варианта, или состояния формирования идентичности, получивших название статусов идентичности.
1. Предрешенность – принятие на себя обязательств, не проходя через кризис идентичности. Так можно охарактеризовать статус идентичности тех людей, которым в силу внешних обстоятельств рано пришлось принять на себя преждевременную взрослость («дети, лишенные детства»).
2. Диффузия идентичности – состояние избегания решений, отказ от поиска собственной идентичности, своеобразное продление детства.
3. Мораторий – период построения своей идентичности, состояние поиска ответов на вопросы «кто я, какой я?».
4. Достижение идентичности – благополучное завершение кризиса идентичности, возникновение новой самотождественности.
Выделяются следующие особенности подросткового периода, которые являются группой факторов риска в формировании виктимного поведения:
– повышенный эгоцентризм;
– тяга к сопротивлению, упрямству, протестные реакции;
– амбивалентность и парадоксальность характера;
– стремление к неизвестному, рискованному;
– обостренная страсть к взрослению;
– стремление к независимости и отрыву от семьи;
– незрелость нравственных убеждений;
– болезненное реагирование на пубертатные изменения и неспособность принять свою формирующуюся сексуальность;
– склонность преувеличивать степень сложности проблем;
– кризис идентичности;
– деперсонализация и дереализация в восприятии себя и окружающего мира;
– негативная или несформированная Я-концепция;
– гипертрофированные поведенческие реакции (эмансипации, группирования, имитации), странные увлечения;
– низкая фрустрационная толерантность;
– преобладание пассивных копинг-стратегий в преодолении стрессовых ситуаций.
С. Куперсмит обнаружил четыре компонента, необходимые для формирования положительной самооценки у детей.
– Принятие ребенка взрослыми, родителями, учителями и другими авторитетными лицами. Это помогает укреплять связи и создает ощущение того, что тебя ценят.
– Четко определенные и регламентированные запреты. Их должно быть как можно меньше – это помогает установить равновесие между экспериментированием и стремлением к безопасности, расследованием и посягательством на права ребенка, ассертивным и пассивным или агрессивным поведением ребенка.
– Уважение со стороны взрослых к ребенку как личности. Важно, чтобы потребности и желания ребенка воспринимались серьезно. Это позволяет ребенку иметь психологическое пространство для взросления, самостоятельности и автономности (отделения).



