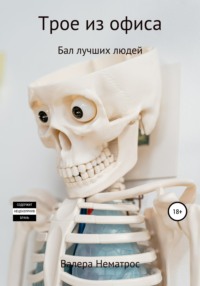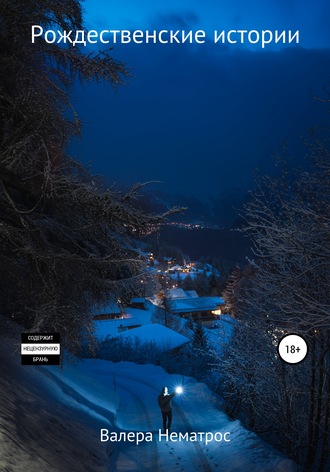 полная версия
полная версияРождественские истории

Валера Нематрос
Рождественские истории
История первая
Жить с маленьким хуем возможно.
Жить с маленьким сердцем – преступление против человечества. Эта мысль не дает мне покоя уже пять секунд. Она и сраный столичный трафик.
Тридцать первое декабря. Москва нарядилась, как потасканная шлюха в ожидании праздника.
– Мадам, сколько вам?
– Восемьсот семьдесят два.
– Кхм, а на вид больше семисот и не дашь…
Уродливыми сталагмитами пялится в небо Москва Сити. Сегодня не должно быть никаких пробок, однако же есть. Трешка стоит – судя по комментариям в навигаторе какой-то мажор с помощью отбойника разобрал свою машину на узлы и агрегаты, проделав то же с несколькими собратьями по потоку. Решил ограничиться этим годом, оставив вечным сюрпризом 2020-й. «Пусть меня запомнят молодым, обдолбанным и мертвым».
Проползаем место аварии. Каждый считает своим долгом остановиться и запечатлеть, чтоб было чем поделиться с родными под елкой.
Мы живем, как шарики для пинбола, причем большую часть проводим в отстойнике, и лишь некоторым везет, они получают «лапкой» под сраку, вылетают в яркий сверкающий мир, мечутся там, собирая бонусные очки, чтоб потом вернуться в черную утробу. Возможно навсегда.
***
Перед глазами все еще стоит бесконечный больничный коридор цвета морской болезни, напоминающий нутро гигантской анаконды, с натыканными вдоль стен лавками, перемежающимися с унылыми дверями, обитыми шкурами жестяных человечков.
Хорошая метафора жизненного пути, где перед тобой закрыты все двери, а в конце, у дальней стены, в огромной кадке ощерился исполинский кактус, на который тебя насадят.
Те, чья жизнь закладывала крутой вираж, как правило, отчетливо хранят в памяти образ, этому сопутствующий. Для меня теперь это утренняя табличка на двери врача «Дададзе Автандил Шотаевич». Неизбежность видится мне огромной черной жопой, засасывающей меня, как смерч.
Пытаюсь отогнать мрачные мысли прочь, и чуть не пропускаю свой съезд.
***
Притормаживаю у кофейни, что в соседнем с нашим офисом здании. Она чудо как хороша. Не кофейня, конечно же, а Джамиля, бариста. Кофейня – говно, и кофе там средний, а про качество обжарки можно сказать только, что студентом я так жарил однокурсниц, пока соседи, вьетнамцы, жарили селедку.
– Добрый день, чего вам? – Джамиля отрывается от телефона. У нее глубокие бездонные глаза, и сморят они с глубоким похуизмом.
Пытаюсь подобрать слова, хаотично разбросанные в голове.
– А вам не кажется, – начинаю я, – что мы в этой повседневности, пожирающей нас, как грибковая плесень, упускаем что-то действительно важное? Что-то восхитительное в своей простоте.
– Чо? – удивляется она, изгибая татуированную бровь. Из ее восточных уст это звучит, как «чё-о-о-о».
– Ну вот вам, например, никогда не приходило в голову что-то поменять в этой жизни? Совершить что-то действительно неожиданное, удивить всех и прежде всего себя.
– Нет. А зачем? – искренне недоумевает она.
– Просто взять, прямо сейчас закрыть кофейню, пойти в туалет и отсосать там совершенно незнакомому человеку, не зная даже его имени.
– Вообще-то, я тебя каждый день вижу, ты Валера, клерк из соседнего офиса, на работу ездишь на метро. Летом в футболке, зимой в пальто.
Понимаю, что минета не будет, но в то же время мой напор не разорвал тонкую нить зарождающейся взаимной симпатии. В иных условиях меня бы это устроило, но не сегодня.
– Ну а если завтра не будет? – настаиваю я.
Она смотрит на меня, как на ебаната. Ничего не имею против. Она тоже не торопится закончить общение – я вполне симпатичный.
– А если завтра не будет, то я, видимо, упускаю шанс всей жизни, – пожимает плечами Джамиля.
– А если завтра не будет только для меня? – совершенно серьезно спрашиваю я.
Она начинает терять интерес. Сторителлинг – не мое.
– Если за пломбы переживаете, давайте без прелюдий. Полипов у вас, надеюсь, нет? – всем своим видом выражаю озабоченность, пытаясь показать масштабность испытываемых чувств.
Кажется, разгадывать шарады она сегодня не намерена. Закатывает глаза, но даже в этом едва уловимом движении целая уйма секса.
Дверь за моей спиной открывается, впуская маленькую снежную завихрень, оторвавшуюся от большой метели. Входит дородная дама, начинает раскладывать сумки за столиком, явно намереваясь плотно покофейничать.
– С праздничком вас! – басит дама. Ее нос красный то ли от мороза, то ли от трех бутылок шампанского.
Я оставляю две тысячи и показываю пальцем на доску, где написано «подвешенный кофе». Доска почета добрых кофейных дел, тут можно оплатить напиток безденежным посетителям, временно оказавшимся на мели или просто охуевшим мудакам, которые любят халяву.
– Все равно не дам, – говорит Джамиля, но купюру берет и рисует на доске шесть больших капучино.
– С новым годом, – бросаю я и ухожу.
– Можно мне два подвешенных, – слышу уже в дверях голос дамы, – хотя два выпью ли? Давайте лучше три, и, если можно, побыстрее, за мной подъехать должны.
Пока иду к машине, пурга успевает прописать мне пару джебов морозной лапой.
Еду пятьдесят метров до шлагбаума. Нам давно пора его автоматизировать и раздать пульты, но руководство свято верит в необходимость создания рабочих мест для хомосапиенсов.
Шлагбаум долго не открывается – человек в черном, с мутным прошлым и туманным будущим изучает списки. Я предпочитаю добираться на работу на общественном транспорте, и моя машина не примелькалась в тусклых глазах открывателей. Наконец в его мозгу все сходится, и усталая полосатая палка ползет вверх.
Мое парковочное место находится в углу, недалеко от лифта. Удачно расположенное парковочное место, надо признать. Единственная загвоздка заключается в том, что не я один понимаю выгодность его расположения.
Это в детских или семейных фильмах злые мудаки в конце раскаиваются, переосмысливают, исправляются. В жизни мудаки остаются мудаками.
На меня из угла понуро смотрит огромный черный Рэйндж, как бы извиняясь, и говоря «да, мой хозяин конченое хуйло, но хозяев же не выбирают, да?»
Коробов рулит каким-то бесполезным отделом. Постоянно всем твердит, что нет машины надежней Рэйндж Ровера, притом раз или два в неделю приезжает на работу на подменном авто. А еще он нихуя не понимает, что если это мое место, то не нужно ставить сюда свою колымагу, будь это хоть трижды ближе к выходу. «Старик, – говорит он, – ну оно же все равно пустует». Аргументы, что я не сую член в его голову, например, хотя она тоже пустует, на него не действуют. Вспоминаю, что в боевиках, в отличие от семейных фильмов, мудаков обычно расстреливают.
Подгоняю свою машину, ставя «палочку над Т» по заветам Нельсона. Теперь Коробову чтоб выехать, придется идти на таран или взлететь, потому что сам я обратно поеду на метро. Если поеду, конечно.
***
В офисе праздничный переполох, возбуждение и ажиотаж. Все ходят, поздравляя друг друга, уточняя, когда же нас нахуй распустят. Утверждать, что атмосфера не рабочая, я не могу, потому что в обычные дни все занимаются примерно тем же.
– Привет! Где встречать будешь? – Маринка, бухгалтерша. Не очень красивая, не очень умная, не очень стройная.
– Кого?
Маринка смущается. Она и не страшная в общем понимании этого слова, и отдастся мне по первой просьбе, но с этой просьбой я не спешу. Проебать работу я завсегда готов, поебаться на работе предпочитаю не.
– Новый год, – тише, покраснев, говорит она.
– Думал, в интоксикации, но боюсь, не успею, – чересчур уж зло отшучиваюсь я, бросая взгляд на часы.
– А, ну ладно, – пожимает плечами она и уходит. Насколько я помню, она живет с мамой и бабушкой. Им бы в хату подселить Ринго Старра, и самый охуенный квартет в истории готов.
Мысль уже не остановить, и она выворачивает к моей матери. Отменили урок, мы с другом Гордеем пришли ко мне поиграть в Сегу. Мать с соседом дядей Мишей кувыркались в родительской спальне.
– Глубже! – в исступлении орала она, – глубже!
– Да не могу я глубже, – оправдывался дядя Миша, – итак по самые яйца уже.
– Я, пожалуй, пойду, – сказал Гордей.
Мне захотелось объяснить ему, что они – шахтеры, а не то, что он подумал. Еще захотелось схватить лыжную палку, стоявшую тут же в коридоре, которую, кстати, в прошлом году подарил мне дядя Миша, и проткнуть ей этого тщедушного человечка. Но больше всего хотелось пойти и закрыться где-нибудь в самом темном чулане или утопиться в реке. У нас с соседями был некий ритуал обмена папами на Новый год – оба наряжались дедами Морозами и отправлялись поздравлять. Отец соседей, дядя Миша – нас. Кажется, в этот раз он решил подменить батю не только на Новый Год.
Я тихо прошел в свою комнату и позвонил отцу на работу, сбивчиво объяснив суть происходящего.
– Да. Ебутся… – подтвердил я.
Батя лихо гнал домой знававшую лучшие времена «четверку». На повороте его поджидал столб.
Гордей не умел держать язык за зубами, и назавтра в классе адюльтер был бы главной темой для разговоров, но батя разбился насмерть, и тема смерти перевесила тему любви.
Температура наших с матерью отношений замерла на отметке «Оймякон». За окном был благоухающий апрель моего восьмого класса. Летом я подал документы в Суворовское училище. Следующим летом стукнет тридцатилетний юбилей моей независимости.
Она периодически писала мне безответные письма, потом совершала неотвеченные звонки, а теперь изредка присылала непрочитанные сообщения.
Получается, что я, не особо желая, многое знал о ней. Она, наоборот, с уверенностью могла сказать только, что я жив.
Праздничного настроения прибавилось с гулким шлепком, как тюремной баланды в алюминиевую миску.
Я смотрю на дверь в конце коридора – мой единственный выход. Кажется, еще не время.
Достаю смартфон, подушкой большого пальца запускаю карусель телефонной книги, чтоб почти сразу остановить на «м» – контактов немного, что говорит о моих навыках коммуникабельности.
«Мать». Ни фотографии, ни особых отметок.
Палец, как жало миноискателя, левитирует над экраном между «написать» и «позвонить».
К разговору я, пожалуй, пока не готов.
Вылезает клавиатура. Эмоджи. Слева вверху куча говна с глазами, как самый используемый смайл и доминирующий компонент моей личности. Буквы выстраиваются друг за другом.
«Привет! Как ты там?»
И это уже немало.
***
Через время – минуту, день или тысячу лет – со спины подходит Коробов и хлопает меня по плечу.
– Старик, пойдем, машину переставишь.
Собираюсь вступить в диалог, но цензурных слов мне недостает, а омрачать праздник матом не хочется, поэтому предпочитаю не обращать внимания.
Коробов вынужден обойти меня и сесть напротив.
– Стари-и-и-ик, – трясет он мое предплечье, – мне ехать надо. Теща ждет.
Я не большой мастер пантомим, но «мне похуй» получается вполне сносно.
– Блядь, да ты издеваешься?! – багровеет он.
Молча киваю.
Он в ответ изображает «закипающий чайник», что с его и без того постоянно красным ебалом выходит довольно убедительно.
Вертит этим самым ебалом по сторонам то ли в поисках поддержки, то ли настенных часов – подчеркнуть важность момента и неумолимость времени для тещи. Делает это мощно, порывисто, обдавая меня затхлым бризом.
Наконец встает, тыкает в мою сторону указательным пальцем, каждая фаланга которого может похвастаться шевелюрой Эйнштейна.
– Я еще вернусь! Никуда не уходи!
***
Я и не собираюсь. Коллеги сворачивают свои тесные рабочие мирки, чтоб довезти их домой и там так же аккуратно развернуть, занять оборонительные позиции в пассивном противостоянии с женами, мужьями, детьми, собаками и хомяком. Уравнение с множеством проигравших.
– С наступающим! Пока! – Маринка улыбается. Улыбка ее не красит, но и не портит.
Она работает на семнадцатом, и ради этого «пока» ей нужно выйти из лифта на пятнадцатом, сделать неслабый крюк, оказавшись рядом с моим рабочим местом. Здесь как нигде уместно сравнение с гландами через жопу.
Ее гланды мне уже не видны – Маринка, не дождавшись ответа уходит – но я успеваю крикнуть в удаляющуюся жопу:
– Давай! Береги себя и печень.
Я никогда не приглядывался к ее жопе, но сейчас она кажется ничего. Уместной, логичной, нужным фрагментом мозаики окружающего хаоса.
Этаж пустеет.
***
Теперь, кажется, все ушли. До меня никому нет дела, но это и неудивительно, мне и самому нет дела до всех. Даже освещение сменили на дежурное. И это тоже символично – я как сущность, как нечто мыслящее и действующее, важен для окружающей действительности, для этого офиса, не больше, чем дуновение сквозняка или сопля, размазанная Кравцовой по тыльной стороне столешницы в момент, когда ее никто не видит. Никто кроме меня.
Как следует поднапрягшись испускаю громогласный пердеж. Самый верный способ выяснить, остался ли в офисе кто-нибудь еще. Пердю я раскатисто и достаточно звонко, чтоб звук добил до крайних уголков этажа, но недостаточно для того, чтоб он вернулся ко мне эхом. Ни возгласов возмущения, ни восторженных аплодисментов.
Наверное, так звучит одиночество.
***
Делай, что должен, и будь что будет. В последний раз под этим девизом я насрал старшине в котелок, а в предпоследний спиздил три ведра колхозных яблок.
Медленно иду по коридору свою «последнюю милю». Должно быть так шагал среди остальных петрашевцев Достоевский по Семеновскому плацу морозным декабрем полных сто семьдесят лет назад.
Моя рука не дрожит, ухватывая холодный хром дверной ручки. Десятилетия онанизма дают о себе знать. Распахиваю дверь и смотрю своему страху в лицо.
Так же твердо страх смотрит в лицо своему мне.
Первым отвожу глаза. Процедура подготовки не сложная и не требует времени. Она требует железной выдержки и несгибаемой воли, а я этим не богат.
Боль накрывает даже не волной, а каким-то лоскутным одеялом.
– А-а-а-а-а, блядь! – кряхчу я сквозь стиснутые зубы.
***
– Да ну не волнуйтесь вы так, – успокаивает меня доктор Дададзе и вгоняет в мою залупу зонд.
– Это просто мазок на флору, – улыбается медсестра.
– У-у-а-а-э-э-э! – контраргументирую я. Выяснилось, что мазок – это не только главное отличие Моне от Мане или пенальти Баджо в 94-м, а уролог так и вовсе не тот чудик, который гоняется за летающими тарелками. Надо валить из этой конторы, где премия по итогам года зависит в том числе от прохождения диспансеризации. Тридцать первого декабря переться на другой конец Москвы, чтоб получить порцию унижения и боли.
– Могли бы и предупредить, – хмуро смотрю я на него исподлобья, надевая штаны.
– Предупреждаю, – не глядя на меня, записывая что-то в мою медкнижку, отвечает Дададзе, – когда впервые после процедуры захотите помочиться, вас ждут примерно те же ощущения.
Лучше бы он молчал. Ожидание смерти хуже самой смерти, равно как ожидание секса хуже самого секса или ожидание зарплаты хуже самой зарплаты.
– А в остальном вы абсолютно здоровы, – улыбается он.
***
Стою, ухватившись за полотенцесушитель, жду, когда сердце успокоится, а последние капли упадут в унитаз.
Я смог, я справился, я пережил.
Громко хлопаю дверью сортира, выходя. Это восхитительный звук переворачивающейся страницы, уходящего в забвение прошлого моей жизни.
Ощущение праздника появляется, концентрируется в воздухе, как аэрозоль из распылителя. Хочется чуда и вискаря.
Вытаскиваю телефон.
«Привет, сын. В порядке. Как ты?»
Вспоминаю свое недавнее «совершить что-то действительно неожиданное, удивить всех и прежде всего себя». Нет, встречать новый год с матерью и ее теперешним в Сургуте после тридцати лет разлуки, я все-таки не готов и вряд ли успею.
«Писаю, мыслю, существую. Завтра созвонимся? С наступающим!»
Тут же в телефонной книге притаилась «Маринка Винни Бух». Стираю «Винни Бух», набираю номер.
– Але, – произносит она. В голосе неподдельное изумление, как если бы она столкнулась лицом к лицу с пролезшим сквозь печную трубу гарантом конституции в одеянии Санты с чумазыми щеками и дожидающимися за окном санями, запряженными переодетыми сотрудники ФСО.
– Слушай, Марин. У меня тут свободная ночь образовалась и так уж вышло, что новогодняя. Вот и подумал – не приютишь? Обещаю не приставать к твоим дамам. Только чур чтоб и они ко мне. Что скажешь?
История вторая
– А дело бывало, – коза поудобнее устроилась в качалке и раскурила трубку, – и я с бараном гуляла… Э-э, к-хм, пожалуй, об этом в другой раз расскажу.
– Нет, давай сейчас! – запрыгали вокруг козлята, – такую сказку ты нам еще не рассказывала!
– Такую сказку я никому не рассказывала, – коза мечтательно закатила глаза.
Самый маленький козленок, Валентин, вперил в нее свои внимательные грустные глазки:
– А мама говорит, что у баранов одни ворота на уме.
«Дура твоя мама» – хотела парировать старая коза, но вслух проблеяла:
– Это был необычный баран, ну просто вылитый козел. Сначала такой обходительный, а потом бороду в кусты. Но сейчас не об этом. Есть у меня история получше. Случилось это под самый Новый Год, когда я была молодая и глупая (да-да, было и такое).
Коза налила себе браги из бочонка и начала рассказ.
***
Они стояли на опушке и смотрели, как лучи полуденного солнца разбиваются на миллионы искр, пляшущих на снежной равнине поля.
Скоро Новый Год, и никогда еще коза не была такой счастливой. Он стоял рядом, такой кучерявый и такой надежный. Не то, что все ее бывшие. У него был приятный блеющий баритон и маленькие красивые глазки. Когда он прижимался к ней, коза таяла, и приятная истома разливалась по телу. Подкашивались ноги, и ощущение невесомости бытия накрывало ее с головой, даря безмерное счастье, сравнимое с тем, когда бежишь по некошеному лугу, и высокие травинки щекочут тебе вымя.
Ей так хотелось, чтоб этот миг длился вечно, но желания коз мало кого интересуют.
– Я устал, – сказал баран.
– Пойми, дело не в тебе, – добавил он.
– Но так будет лучше для всех, – продолжил баран.
– Нам надо расстаться, – закончил он.
Кто эти все, которым станет лучше, если они расстанутся, коза не знала. Баран старательно отводил взгляд, щурился, потому что смотреть в таком случае приходилось на солнце, и на всякий случай отстранился.
Коза была молодой, и мало что знала о гордости, поэтому собиралась плюхнуться в снег и умолять барана остаться, но ее репутацию спасла, как водится, случайность.
– Агриппина! Лукреций! А ну домой, проказники!
Старик хозяин размахивал кочергой для убедительности. Баран вприпрыжку помчался к распахнутым воротам. Коза плелась следом, раздавленная и угнетенная, сгусток черных мыслей в этом белом сверкающем царстве зимы.
***
Он поежился от налетевшего ветра и посмотрел на луну. Было в ней что-то притягательное, заставляющее снова и снова поднимать взор наверх с тоской и надеждой. Именно там, в бескрайних лунных пустынях резвятся многие поколения родичей, оставивших этот мир. Там наверняка его мать и отец, смотрят на своего сына. Гордятся? Наверное.
Мать он помнил смутно, ее не стало, когда он был совсем мальцом, а отца не знал вовсе. Его воспитывал дядька, матерый и крупный.
– Волка ноги кормят, – важно декларировал тот, – а тебя, жирная свинья, ничто не прокормит.
Он не обижался по двум причинам. Во-первых, он действительно был очень жирным, а во-вторых, был уверен, что в ногах правды нет. Но сейчас именно ноги были залогом успеха. Через дыру в заборе он пробрался на скотный двор, вдоль стены сарая до маленькой покосившейся двери хлева.
Прислушался. Тихо. Спят, скоты. Навалился на дверь – дед никогда ее не запирал – и та со скрипом отворилась. Замер, ожидая, что такой шум непременно кого-нибудь разбудит, но в этот раз обошлось. Воняло внутри будь здоров, но вони он не боялся, скорее наоборот, чувствовал себя, как дома. Вот дрыхнет лошадь, дальше коровы, овцы и большой черный баран, на другой стороне козы, и вроде, осел. Вся птица в конце. Куры, утки, ага, вот. Крупная индюшка, такая мягкая и сочная.
Подкравшись поближе, насколько это было возможно (тут надо сказать, что крался он второй раз в жизни), бросился на индюшку, схватил ее и устремился к ветхой двери, через которую старик водил птицу на выгул. Деревянная щеколда не выдержала напора огромной туши, а в хлеву за спиной стало весьма оживленно – кудахтанье, визг, храп, ржанье.
– Какого хрена? – успела произнести удивленная индюшка.
***
– Чертовы волки! – причитал наутро дед, пока чинил «птичью» дверь хлева, – было бы ружье – всех бы перестрелял.
Он точно так же говорил про почтальона и участкового, но ружья у деда не было и трагедии удалось избежать.
Дед примостил новую металлическую щеколду, заново прибил петли, успев пройтись молотком по пальцам, выругался довольно грязно и пошел в дом.
Животные, до этого притихшие, начали горланить, кто во что горазд. Конь Валера критически осмотрел отремонтированную дверь и сказал, что для волка она не помеха. Осел всем рассказывал, что волков он не любит, а морковку очень даже. Куры наперебой кудахтали друг другу непонятно что, а в конце сошлись, что индюшка все равно была слишком важная и заносчивая, и, в общем-то, ей досталось поделом. Баран, обычно весь такой обворожительный и загадочный, сегодня среди овец был равным, таким же напуганным и подозрительным.
И только коза предпочла взволнованному трепу с товарками задумчивое одиночество у маленького окошка. Сквозь мутное стекло небо было не таким уж голубым, а солнце – слепящим.
***
Савелий не был типичным ослом. Не потому, что был весь в пятнах и с длинной шеей, или злым с косматой гривой и хвостом-кисточкой. Нет, он просто не был упрямым, не спорил и не стоял на своем. Окружающие называли его ведомым, сам же он говорил – гибкий.
– И все же, Савелий, я бы на вашем месте не спала так крепко, – изрекла Криштиана. Голос у нее был заунывный и какой-то мычащий. Даром, что корова, – Меня-то волки вряд ли ухватят, а вот кого поменьше, типа тебя, легко.
– Угу, – согласился Савелий. С коровой спорить – себя не уважать.
– Уж насколько Владимир Вольфович был большим поросенком, к году как хряк-трехлетка весил, так и то сожрали.
– Угу, – Савелий решил не менять тактику. Волки и вправду распоясались совсем. Поросенка сожрали четыре дня тому назад, даже костей не осталось, а ночью матерый волчара индюшку утащил.
– А вчера, вчера-то, – запричитала Криштиана, – прямо на моих глазах ее растерзали, бедняжку.
Савелий хотел уточнить, что никого не растерзали, по крайней мере, в хлеву. Утащили, это да, но ни капли крови не было. Все в один голос пели про огромного волка, но сбивчиво, и Савелий сделал вывод, что это могла быть и лиса. А что огромного зверя видели, так спросонья и хомяк – медведь. А вслух произнес:
– Угу.
– И все же на вашем месте, Савелий, я бы более чутко спала, а то мало ли…
Диалог начинал развиваться по спирали, и осел поспешил откланяться. Преимущество осла перед тем же конем Валерой заключалось в отсутствии привязи. Он мог ходить, где хочет, ибо не был проблемным и всегда самостоятельно возвращался в хлев. Он долго работал на репутацию и теперь пожинал плоды взаимности.
Савелий обошел дом, двигаясь по ежедневному зимнему маршруту – за ворота не совался. У крыльца беседовали Агриппина и Чубайс, большой хозяйский пес, рыжий с головы до пят, наглый, но добрый. Позапрошлым летом именно Агриппина притащила маленького облезлого щенка во двор и сунула играющим хозяйским внукам. Тем оборвыш приглянулся, и они упросили деда оставить милого песика. За полтора года тот вымахал в гавкающее подобие лошади, но добра Агриппине не забыл, выступая негласным гарантом ее безопасности. Да и просто поболтать они любили.
– Ну все, теперь его очередь, – негромко произнес Чубайс, но так как тихо гавкать он не умел, Савелий хорошо расслышал это.
– Прекрасно, – улыбнулась коза, – а это точно?
– Хозяин так и сказал.
Савелий хорошо знал, что хозяин слов на ветер не бросал, и если сказал, что он следующий, то так тому и быть. Осталось понять только, кто этот он, и куда он следующий.
Агриппина первой заметила осла и первой же переменила тему:
– А вот интересно, придет ли к хозяину на Новый Год Панас?
Даже такой осел, как Савелий, знал, что Панас, местный выпивоха, подрабатывающий по хозяйству при церквушке, обязательно придет колядовать. Он колядовал на Новый Год, на Рождество, на Пасху, в день Конституции, восьмого марта и двадцать третьего февраля.
Пока он думал про Панаса, совершенно забыл, о чем разговаривали Агриппина с Чубайсом и о чем он размышлял до этого. Попенял на короткую ослиную память и двинулся дальше.