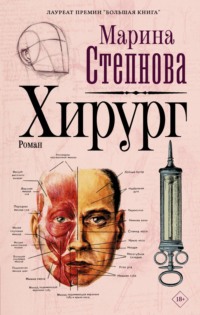Полная версия
Сад
Я должен принести вам свои извинения…
Мейзель перебил, невежливо, недопустимо:
Вы ничего мне не должны, князь. Как и я вам, впрочем. Девочка давно заболела? Что с ней?
Я не знаю… Мне сказали – кончается. Должно быть, уже умерла. Царствие небесное. – Борятинский быстро, стыдливо перекрестился, чтобы от самого себя скрыть, что ничего не чувствует. Да и что было чувствовать, господи? Девочка! Он едва ли два раза видел ее за все это время. Наденька не подпускала к детской никого, сама оттуда неделями не выходила…
Остановите, – приказал вдруг Мейзель. Борятинский не ослышался – не попросил, именно приказал. Боярин, словно тоже почувствовав эту тихую чужую волю, всхрапнул, сам перешел на шаг и встал у въезда в усадебный парк, непроницаемый, как будто вырезанный из черной фольги и наклеенный на такую же черную, но уже бархатную бумагу. Мейзель спешился (неприятно ловко – не по званию, не по сословию, не по чину) и быстро пошел назад.
Je vous l’interdis[18]!
Борятинский не закричал даже – завизжал, невыносимо, как заяц, раненый, погибающий, уже понимающий, что всё кончено, всё, совершенно всё.
Наденька, господи! Впервые за долгие месяцы снова заметила его, попросила! Что он скажет? Как объяснит?
Борятинский тоже спрыгнул с Боярина и побежал за Мейзелем следом.
Вы не смеете! Стой, мерзавец, или я буду стрелять! Князь захлопал себя по безоружному халату, одна туфля, дорогая, тонкая, тотчас позорно дезертировала, другая промокла насквозь, чавкнула, жалуясь на непотребство. Борятинский едва не упал, оскользнувшись.
Подлец! Подлец! Подлец! – закричал он снова, ужасно, тонко, ломко, как мальчишка, адресуясь то ли Мейзелю, то ли себе самому, то ли Богу, но откликнулся только Мейзель, откуда-то из-за деревьев.
Сюда, – уже привычно приказал он. – Так можно спрямить к дому, я знаю дорогу.
Борятинский постоял секунду – и бросился на голос.
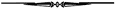
В детской ничего не изменилось, Борятинская даже, кажется, позу не поменяла – так и сидела, крепко прижав к себе спеленутого ребенка. Разве что бабы перестали метаться и стояли теперь в ряд вдоль стены. Танюшка, кормилица и две няни. Поджав разом руки и губы, с одинаково постными твердыми лицами – будто в почетном карауле, нет – в ночном дозоре, потому что единственная свеча едва дрожала в круге маленького, смуглого, совершенно рембрандтовского света.
Мейзель распахнул дверь – резко, будто хотел ее выбить, и свеча тотчас заплясала, задвигалась, превращая Рембрандта в Босха. Мейзель ахнул от вони, от жары – и выхватил у Борятинской девочку, грубо, рывком. Стянул чепчик – мотнулась маленькая темноволосая головка, запавшие веки, взмокшие завитки. Мейзель попытался распеленать, накололся на булавку, вбитую в свивальник до самой кожи, господи, еще одна, еще! Свивальник все не заканчивался, метры и метры жесткого льняного полотна, закоржавевшее кружево. Как замотали, нелюди! Пальцы Мейзеля, все в йодистых коричневых пятнах, тряслись, волны вони, гнева и духоты накатывали попеременно, так что в какую-то секунду ему показалось, что он не выдержит, сорвется. Давно было пора – уже много лет. Но тут девочка шевельнулась и запищала, сначала слабо, придушенно, но с каждой минутой все увереннее, все сильнее, как будто давала Мейзелю знать, что жива, что все еще надеется на спасение.
Мейзель распеленал ее наконец, выпутал и даже зашипел от жалости: пергаментная кожа, вздутое щенячье пузцо, судорожно стиснутые синеватые пальчики. Сколько он видел таких, господи, сколько – кажется, надо давно привыкнуть, закрыться изнутри наглухо, очерстветь, но он не мог, просто не мог. Со спокойным сердцем отпускал взрослых – зарезанных, поломанных, замерзших спьяну и удавившихся с тоски, умерших от удара и болезни кишок, ращения утробы и нарыва на глазе. Делал, что мог, если не получалось – отходил в сторону с сожалением, но без боли. У взрослых был выбор, и не важно, как они им воспользовались. Выбор – был. Бог дал, Бог взял – это было про них. Про взрослых. Детям Бог не дал ничего, значит, не смел и отбирать. Поэтому каждую смерть ребенка Мейзель считал личным вызовом, прицельным, мстительным плевком в собственное лицо.
Это был его персональный крестовый поход. За детей. На деле – бесконечная битва с ветряными мельницами, конечно. Дети умирали. Крестьянские – тысячами. Тысячами! Малярия, дифтерия, оспа, холера, тиф. До земской реформы 1864 года на всю Воронежскую губернию приходилось семь врачей. После – прибыло еще сорок. Легче не стало. Хуже всего было летом – и Мейзель ненавидел его люто. Июнь, июль и август были временем самой тяжелой крестьянской работы, и если родившиеся в осень и зиму еще могли чудом увернуться от кори или пневмонии, то летние дети умирали от голода. Почти все. Почти все! Единственная больница брала с каждого страждущего шесть рублей тридцать копеек в месяц. Немыслимо дорого!
Каждое лето Мейзель бесконечно мотался из одной смрадной избы в другую, пытаясь сделать хоть что-то, хоть как-то помочь. Напрасно. Матери уходили в поле еще до света, возвращались затемно. Новорожденных оставляли на младших, чудом выживших детей, на полоумных стариков. Или совсем одних. Счастье, если в доме была корова. Если нет… В лучшем случае нажевывали в тряпку хлеба с кислым квасом или брагой, в худшем – давали рожок, самый обычный коровий рог, к которому привязывался отрезанный и тоже коровий сосок. В рожок заливали жидкую кашу. К вечеру, в жаре, сосок превращался в кусок тухлого мяса, каша закисала. В такой же кусок тухлого мяса часто превращался и сам младенец, которого сутками держали в замаранных тугих свивальниках, так что Мейзель часами потом вычищал из распухших язв мушиные личинки без малейшей надежды, что это поможет, просто повинуясь совести и долгу.
Он всё понимал, ей-богу: каторжная работа, усталость, невежество, да что там невежество – настоящая дремучесть; он не понимал только одного – почему в избах была такая чудовищная, невообразимая грязь? Почему каша в рожке, и без того дрянная, часто была с тараканами и трухой? Почему дети червивели заживо? Почему нельзя было, ладно – не вымыть, но хотя бы проветрить? Перетряхнуть кишащие вшами и блохами лежанки?
Это был вопрос не врача, а отчаянно, почти патологически брезгливого человека. Коллеги Мейзеля если и ушли от крестьян, то всего на пару шагов. Из мертвецкой в родильную палату входили в одном и том же сюртуке, и в нем же отправлялись на дружескую пирушку. Земмельвейс, попытавшийся привить медикам любовь к мытью рук раствором хлорной извести, умер в шестьдесят пятом, чокнутый, осмеянный, в сумасшедшем доме. Мейзель и слыхом о нем не слыхивал, разумеется, не догадывался, что через тринадцать лет всего воцарится карболка, врачи разом, будто не было никакого затравленного Земмельвейса, заговорят об асептике и антисептике, о стерильности, об обработке ран и рук. Просто грязь и плоть были невыносимы ему физически. И кровь. Особенно кровь. Полнейшая по сути профессиональная непригодность.
Мейзель осторожно прощупал живот ребенка – вздутый. Паучьи ручки и ножки. Огромная голова. Девочка дышала прерывисто, поверхностно. Но еще дышала. Она тоже умирала от голода, господи! Княжеская детская. Батистовые пеленки. Шелковые диваны. Та же дикость. То же невежество. Тот же смрад. Мейзель достал из саквояжа шприц, набрал камфару, долго выбирал, куда уколоть, но понял, что так и не выберет. Некуда. Игла вошла в натянутую сухую кожу. Ребенок перестал пищать, коротко застонал и снова затих.
Бабы разом перекрестились. Борятинская сидела все так же неподвижно, уронив опустевшие руки и глядя перед собой светлыми, совершенно сумасшедшими глазами.
Грязь! – заорал вдруг Мейзель. – Почему тут такая грязь?! Почему нечем дышать?!
Бабы переглянулись.
Трясовицы ходют, не ровён час… – низко, в нос, сказала кормилица, молодая, задастая баба, смуглая, гладкая, как породистая кобыла. И даже взгляд у нее был совершенно лошадиный – диковатый, испуганный, темный. Боялась, что погонят с теплого места.
Окна! Окна открыть немедленно!
Бабы снова переглянулись. Мейзель был им никто, немчура, даром что ученый. Отставной козы барабанщик. Не сама коза даже. Тогда Мейзель, не выпуская из рук ребенка, сам затрещал неподатливыми рамами, путаясь в тяжелых пыльных гардинах и ругаясь, пока предрассветный воздух наконец не оттолкнул его плотным плечом и не вошел в детскую – огромный, прохладный, квадратный, полный запаха сырой травы и гомона просыпающихся птиц.
Девочка судорожно вздохнула и снова запищала.
Борятинская на секунду вскинула голову, прислушиваясь, – и лицо ее опять захлопнулось, застыло. Она покачала пустые руки и тихонько, ласково, на одной ноте, запела – а-а-а! а-а-а! Мейзель осторожно положил ребенка в колыбель, подошел к Борятинской и отпустил ей короткую, сильную пощечину. Голова княгини мотнулась, Танюшка ахнула и снова перекрестилась.
Борятинская прижала ладонь к распухшей щеке, и глаза ее потемнели, медленно наливаясь слезами. Ожили. Гнев улетучился, теперь Мейзелю было жалко ее так же, как ребенка. Она хотя бы страдала. Оплакивала свое дитя. Мейзель только раз видел крестьянку, рыдающую над мертвым тельцем. Август. Первенец. Жара. Другие крестились и говорили – вот спасибо, развязал Господь. Выродки! Настоящие выродки! Не люди!
Почему вашего ребенка не кормят, ваше сиятельство? – раздельно, громко, будто разговаривал с глухой, спросил Мейзель.
Как это не кормят! – ахнула кормилица и вдруг стала копаться у себя за пазухой, будто искала на дне мешка что-то важное и дорогое – соскользнувшее венчальное кольцо или завалившийся образок. – Как же не кормят!
Мейзель наклонился ниже.
Вы знаете, что ваш ребенок умирает от голода?
Борятинская посмотрела испуганно – уже совсем, слава богу, в себе.
Я хотела сама, – сказала она виновато. – Хотела сама. Но она не ест. Не хочет мое молоко. Не берет…
Кормилица закончила наконец свои поиски и вывалила на ладони голые груди – громадные, смуглые, тугие. От голода! – сказала она сварливо. – Да я мужика взрослого выкормлю, коли надо будет!
Хлопнула дверь. Мейзель оглянулся – это был нагнавший его наконец-то князь Борятинский, заблудившийся в собственном парке, окончательно утративший вторую туфлю, исцарапанный, потный, весь облепленный паутиной и невесомым июльским сором. Великолепное кормилицыно вымя так и прыгнуло ему в глаза – и Борятинский смущенно заморгал, не зная, что приличнее – смотреть или отвернуться. Все светское, привитое, вколоченное с детства, делавшее мир понятным и простым, не работало этой ночью, словно князь действительно оказался в страшной сказке.
Мейзель подошел к кормилице, осмотрел грудь, пощелкал пальцами – и кормилица тотчас поняла, брызнула ему на ладонь теплой молочной струйкой. Мейзель лизнул – и тут же коротко сплюнул. Срыгивает? – спросил он Борятинскую. Та кивнула. Кормилицу меняли? Эта третья уже, – вмешалась Танюшка, снова почуявшая в Мейзеле опасного фаворита, но не решившая еще, жрать его или угождать. – Полусотню перебрали, выбирая-то, никак не меньше.
Мейзель смерил старую горничную тяжелым взглядом и пощелкал пальцами еще раз. Борятинская тотчас поняла, послушно потянулась к лифу.
Какого черта! – возмутился Борятинский. – Что вы себе позволяете!
Но Надежда Александровна уже расстегнулась. Бледная кожа, синеватые надутые жилки. Сорок четыре года. Старуха по всем законам – и по божеским, и по человеческим. Мейзель слизнул молоко с ладони – и сплюнул еще раз. Борятинская опустила голову. Мейзель легко, как священник, дотронулся до ее макушки. То ли отпустил грехи, то ли привычно принял их на себя. Борятинская всхлипнула.
Мейзель обвел глазами детскую и сухо распорядился – окна держать открытыми, в любую погоду, всегда. Про свивальники забыть. Приготовить сахарную воду. И вот сюда поставить кушетку – для меня.
Сахарную воду? – переспросила Танюшка. – Как для кашлю?
Мейзель подумал, сморщился – просто велите принести сахар, спиртовку и воду. Много воды. Прямо сейчас! Я всё приготовлю сам.
Бабы поспешили, пихаясь локтями, сталкиваясь. Борятинский невольно посторонился, как посторонился бы, пропуская всполошившихся лосих.
Борятинская подняла голову, вытерла глаза и нос – по-детски, рукавом. Хлюпнула даже.
Почему она не ест, Григорий Иванович?
Жара. Духота. Дрянное молоко. Свивальники эти ужасные. Ей, простите, пёрднуть некуда, не то что есть.
Она же не умрет?
Мейзель подошел к колыбели, взял девочку на руки, взвесил, словно раздумывая.
Надеюсь, что нет. Но на одной сахарной воде точно не вырастет. Придется завести козу…
Простите! – Борятинский даже поперхнулся. – Кого надо завести?
Козу. Будем разводить молоко – половина воды, половина молока. Я сам буду разводить. Мы ее выкормим. – Мейзель еще раз взвесил девочку на ладони. – Красавица какая! Как вы ее назвали, княгиня?
Борятинская слабо улыбнулась.
Туся. Наташа. В честь Наташи Ростовой. Вы же читали Толстого? “Война и мир”.
Нет, – спокойно ответил Мейзель. – Я не читаю ерунды. И вам не советую.
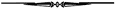
Пять лет спустя, в 1875 году, когда в “Русском вестнике” вышла первая книжка “Анны Карениной”, Надежда Александровна сидела в той же детской, глядя в сад сквозь распахнутые огромные окна. Среди яблонь носилась, играя с Мейзелем в салки, Туся, высоко задирая жирные ножки и пронзительно вереща. Она была в одной рубашечке – бегала так, по настоянию Мейзеля, до самых холодов. Никогда не болела, слава богу. Ни разу. Надежда Александровна сморгнула, перекрестилась украдкой – Мейзель не любил ни веры, ни суеверия. И напрасно – в него самого Борятинская теперь верила куда больше, чем в Бога.
После той страшной ночи ни в одном доме Борятинских, ни в одной их усадьбе не осталось ни единой книги. Громадная, годами собиравшаяся библиотека была раздарена, расточена, распылена. Уничтожена. Из воронежской усадьбы они больше не выезжали.
Надежда Александровна была счастлива. Да, счастлива. Несмотря на то что Туся – в свои пять лет – еще не сказала ни одного слова. Ни единого. Мейзель уверял, что это совершенно естественно. Ребенок прекрасно слышит, весел, смышлен, выполняет все распоряжения, живо всем интересуется. Молчание в данном случае – признак особенного ума. Не будем мешать природе, она сама всё управит.
Врал. Постыдно. Бессовестно.
Ничего естественного в Тусином молчании не было. Она была немая. Совершенно. Немтырь. Захлопнувшая шкатулка.
И самое страшное, что Мейзель не имел ни малейшего представления, что с этим делать.
Глава вторая
Отец
Пращур его, тихий лекарь Йоганн Мозель, был живьем зажарен на вертеле.
Великая Русь. Москва. Мороз. Опричнина. Воронье.
Лето от Рождества Христова тысяча пятьсот семьдесят девятое.
Мозеля схватили на улице, худенького, перепуганного, – отчаянный заячий крик, шапка, затоптанная в грязном снегу. Он был виновен лишь в том, что оказался уроженцем вестфальского Везеля – и, значит, земляком всесильного Элизеуса Бомелиуса, возможно, мошенника, несомненно – недоучки, и – вот она глупость, вот истинная вина! – личного дохтура Иоанна Грозного, Государя, Царя и Великого князя всея Руси. На дыбе, едва живой уже, Мозель Богом клялся, что ни разу в жизни не видал Бомелиуса ни издали, ни в едином шаге, но даже Бог не хотел это слушать, даже Он.
Не отвержи мене от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от мене.
Нет, не внемлет. Отвернулся. Все напрасно.
По делу об отравителях царя хватали десятками. Изобретательный психопат на троне. Перепачканный кровью, прихваченный дымом допросный лист.
Всегда один и тот же. Всегда все тот же.
Жена Мозеля только вернулась от пастора, шубейки еще не расстегнула (словно не решаясь выпустить махонькую, тихо пригревшуюся на груди веру), как ворвалась перепуганная кухаркина дочка, залопотала, мешая немецкие и русские слова. Жена Мозеля поняла сразу, ахнула коротко, утробно, как от удара, и бросилась в комнату – к детям.
Трое.
Годовалая Анхен в корзинке – щеки опять красные, всю ночь басовито ныла, отращивала себе новый зубок. Четырехлетний Георг, кудрявый, как отец, такой же серьезный. И десятилетняя Ансельма. Вскочила с лавки, округлила пушистые светлые глаза – что, мама? Совсем взрослая, худенькая, на запястьях – красные костяшки. Единственная родилась не здесь. Всё, что они привезли с собой в Московию с родины.
Честные руки Йоганна Мозеля. Его доброе сердце. Лекарскую сумку.
И Ансельму.
Трое.
Время дернулось несколько раз и колом встало посреди комнаты, натопленной до малиновой одури, тесной. Жена Мозеля схватилась за горло, сжала чужими холодными пальцами, точно это могло помочь. В оконце, затянутое бычьим пузырем, заглянуло январское солнце, крошечное, жуткое, ухмыльнулось криво, как параноик, – и исчезло, спряталось за рябой птичьей стаей. Будто занавесилось.
Трое!
Что, мама?!
Жена Мозеля не ответила, только ахнула еще раз – и побежала, побежала, побежала опять, сперва перескакивая ступеньки, потом по галерейке и дальше – проулком, кривым, как судьба, еще одним, таким же коротким и страшным, потом по тракту, дальше, дальше – белесые растрепанные волосы, белесые остановившиеся глаза, так и не перевела дух до самого Ревеля и только всё прятала на груди головку Георга, тяжеленького, теплого, – не смотри, сынок, не смотри.
Но он все равно смотрел – и навсегда запомнил страшное дивное сияние снега и огненное закатное небо, прошитое колокольным гулом и торжественным вороньем.
В Ревеле мать наконец остановилась и в три дня умерла – будто опомнилась. Георга забрал проезжий вестфальский купец, рыжий, толстый, важный. Завернул в шубу и увез, прижав к огромному, как будто даже жидкому пузу, прочь, прочь от Ливонской войны, от Руси, – держись от московитов подальше, сынок, дикий народишко, дикий и трусливый, они все рабы своего царя, и царь у них такой же – настоящий зверь.
Под шубой стояла плотная, кислая вонь, от которой слезились глаза, Георг задыхался, а купец все бубнил и бубнил, гудел гулким брюхом в самое ухо. С каждой верстой становилось теплее и грязнее, они въезжали в весну, вползали в нее – медленно, неотвратимо, как будто мир действительно оттаивал, отдаляясь от Москвы. Полозья сперва стали застревать, потом заскреблись жалко, как зазябшая собака под дверью, и наконец под ногами застучали, мягко переваливаясь, колёса. Снег, долго-долго слабевший, исчез вовсе, словно его и не было. Георгу это не понравилось, он завозился, попытался пожаловаться – но не смог.
Да и купец все равно никого, кроме себя, не слушал.
Вестфальская земля оказалась зеленой, кудрявой, и даже птицы тут не орали, а звучали – торжественно, радостно, слаженно, как орга́н. Невидимая точка на горизонте, к которой Георг с купцом стремились, обрела наконец очертания, словно сбывающаяся мечта: темная, самую малость зачерствевшая стена, два собора, острая геометрия крыш. Город все наплывал, наплывал, потом глуховатый стук колес сменился грохотом, и повозка въехала на центральную площадь.
Везель, – объявил купец торжественно и поставил Георга на брусчатку. Мальчик закинул голову – небо было безоблачное, яркое и совершенно пустое. Вкусно пахло горячим хлебом с анисом и кориандром, сытостью, свежей грязью и таким же сытным, свежим, парны́м дерьмом. У са́мого соборного шпиля болталась клетка, в ней дотлевало какое-то умертвие.
Георг зажмурился.
Всегда уповай на Господа, сынок, – назидательно прогудел купец, подбирая поводья. – Держись только своих. И помни, что ты – свободный гражданин свободного города.
Георг кивнул и зажмурился еще крепче. За долгую дорогу он завшивел, отощал и разучился плакать. Своих у него больше не было. Совсем.
Купец, довольный, что развязался с богоугодной обузой, причмокнул, лошадь дернула мохнатой спиной, и через несколько минут от прошлого Георга не осталось даже грохота.
С-своб-бодный, – попробовал повторить он, но не смог. Звуки стали густыми, вязкими, налипли на нёбо, как вишневый клей. Отец учил его есть вишневый клей. В Москве. У них был свой сад. И вишни.
Всё, что Георг хотел, – вернуться домой.
Когда он в следующий раз открыл глаза, то снова увидел снег. И Москву. У ног Георга стояла лекарская сумка.
По величанию как?
Двадцать пять лет. Худой, как отец, такой же упрямый. Правда, уже не такой же кудрявый. Темя словно обглодало – временем, ветром, и макушка торчала – голая, беспомощная, розовая. У отца не так было. Он подбрасывал Георга – высоко-высоко, сажал на плечи. И макушка у него была кудрявая, плотная, как руно.
Георг помнил. Макушку вот эту. Вишневый клей.
И еще – снег.
Дьяк из Посольского приказа потерпел еще немного, выжидающе вися пером, и уточнил на глухом неповоротливом немецком – не надо ли толмача.
Георгу было не надо. Двенадцать лет учебы. Ляйпциг. Штрассбург. Лейден. Оксфорд. Парис. Падова. Шесть языков. На всех заикался ужасно. Цесарский, латинский, французский, итальянский, голландский.
И русский, да. Он не забыл.
Отроком бросался к редким купцам-московитам – п-п-па-а-аж-жа-алуйте! Плюясь от радости, спотыкаясь. Тощий, нескладный. Многие чурались, шарахались, как от юродивого, обливали с перепугу грязной площадной бранью.
Растряси тебя хуеманка, залупоглазая ты проёбина!
Георг не огорчался, не унывал. Нравом тоже пошел в отца – легкий, слабый, упрямый. Грязь – та же земля. Брань – те же слова. Складывал одно к другому. Повторял внутри себя – там, где всегда говорил легко, гладко. Свободно.
Русский мат оставался свободным всегда. Только с ним Георг не заикался.
Так по величанию как?
Дуроёб отпетый.
Чиво?!
Дьяк вздернул башку, ошеломленный.
Причудилось?
Угорел?
Обожрался с вечера молочной каши?
М-м-м-мо-оэ-э…
Георг замычал привычно, без отчаяния, – обычные человеческие слова приходилось тянуть из себя, как проглоченную веревку, трудно, почти рвотно давясь. Изблюю тебя из уст Моих. Дьяк машинально погладил себя по животу и даже скривился от сочувствия и скуки. Все-таки каша. И правду сказать – выжрал на ночь целый чугунок. И никто ведь не неволил.
Г-г-ге-эор-р…
Да понял, понял я, болезный. А по батюшке? Отец есть? Как величали, знаешь?
Георг засмеялся даже, кивнул.
И-и-ио-о-о-о…
Дьяк покачал головой, и, не чая конца этой фонетической муке, высунул язык, и вывел по своему разумению – Мейзель Григорий Иоаннович. Иванович тоись.
Георг не стал поправлять. Зачем?
Новоявленный Григорий Иванович Мейзель вышел из приказа, щурясь на закатное солнце, на огненный снег. Россыпь ярких шаров конского навоза – будто спелые каштаны. Печные дымы, подпирающие небо, густо наперченное вороньем. Все было, как он помнил. Только лучше. Пахло прелой соломой, березовыми дровами, живыми, горячими лошадьми. Москва гомонила, визжала санями и девками, ухала, колыхалась внутри кремля темной веселой жижей и то закручивала люд гулким водоворотом, то застывала, вылупив нахальные глаза и раззявив рот.
Какая-то бабенка, щекастая, рыжая, в сбившемся платке, завела на ходу протяжную, сильную песню, но шарахнулась от пьяных стрельцов, захохотала, шмыгнула в едва заметную дверь – будто лиса в отнорочек. И только голос ее, прекрасный, высокий, еще несколько секунд звенел на морозе, пока не застыл и не рассыпался колкой ледяной крупкой.
Мейзель сам не заметил, что улыбается. Шел тысяча шестисотый год. Хорошая, легкая дата для начала новой жизни. Впереди был великий голод, продолжение Великой смуты, плач и скрежет зубовный, Лжедмитрий, Семибоярщина, первый Романов и последний защитник осажденной Лавры, но Георг всего этого не знал – и потому не боялся.
Он вернулся домой, он смог.
Он смог!
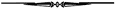
Рожденный при Иване Грозном Георгом Мозелем, Григорий Иванович Мейзель умер при Алексее Михайловиче Романове в своем собственном доме, окруженный взрослыми правнуками и стареющими внуками, легкий, светлый, костяной, восьмидесятитрехлетний. В 1658 году. Он никогда не искал сестер, даже не пытался, – и никогда не говорил о них ни сам с собой, ни с другими, но дочерей назвал Анхен и Ансельма, и всегда очень жалел баб – всех, любых, старых и малых, словно надеялся хоть так искупить невозможную вину.
Мать ведь выбрала его, потому что он был мальчик. Мужчина. Георг это быстро понял. Очень быстро.
Каждый обитатель тогдашнего тварного мира был чьим-то рабом – господина или государя, Господа Бога нашего Иисуса Христа, да хотя бы и просто своего дома, поля либо ремесла. Это была настоящая лестница, грубая, страшная, ведущая из дерьма до самого неба, но женщины, бедные, были ниже любого дерьма – и служили всем. Даже самые родовитые из них ценились меньше бессловесного скота. Да что там говорить – добрую корову иной раз берегли крепче, чем какую-нибудь княжескую дочку, рожденную в палатах, но не смевшую поднять без воли батюшки или мужа ни голоса, ни глаз, ни головы. От коровы был толк – молоко, приплод и мясо, а баба, даже самая сладкая, была просто баба. Инструмент для воспроизводства. Раба самого распоследнего раба.