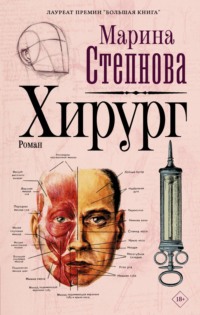Полная версия
Сад
Когда Надежда Александровна отказалась даже от слабенького чая, вызвали доктора, местного, – а хорош ли? Говорят, Владимир Анатольевич, что хорош, да ведь выбирать не из кого. Из Петербурга пока доедет! Борятинский, мысленно поклявшийся протянуть к Анне отдельную железнодорожную ветку (будет исполнено, но не им – и в 1897 году по линии Графская – Анна пройдет первый поезд), самолично вышел встречать доктора на крыльцо и, пожимая сухую, красную, йодом перепачканную руку, вдруг поймал себя на мгновенном ярком желании руку эту поцеловать. Был бы картуз, сдернул бы с головы, честное слово. В ноги бы повалился. Только спаси!
Мейзель, Григорий Иванович, – отрекомендовался врач, немолодой, крепкий, круглая крупная голова стрижена под седой, густо перченый ежик. Поискал что-то в глазах Борятинского и спокойно прибавил – лютеранского вероисповедания. Борятинский, вспыхнув, развел руками – да разве это имеет значение, помилуйте, проходите, может, чаю с дороги изволите?
Мейзель не ответил, тяжело преодолел жалобно заохавшие ступеньки, обвел взглядом всеми окнами распахнутую в сад гостиную.
Словно оценил – но как именно, не сказал.
Прикажите проводить к больной, – распорядился он и пошел, пошел, помахивая потертым саквояжем, невысокий, коренастый, спокойный неведомым Борятинскому спокойствием не аристократа, а профессионала, честного ремесленника, каждый жест которого, каждое слово стоит чистого золота. И пятидесятилетний князь, забыв обо всем, как голенастый перепуганный стригунок, забегая то справа, то слева, отталкивая вездесущую Танюшку, – пшла, дура, воды прикажи доктору подать, или глухая?! – поспешил следом, показывая дорогу и даже – впервые в жизни! – изгибаясь угодливо спиной на зависть любому приказчику. Только бы не чахотка, господи! Только бы не чахотка! – заклинал он мысленно, не отдавая себе отчета, что не к Богу обращается вовсе, не к Господу нашему Иисусу Христу, а к этому неведомому Мейзелю, сельскому лекарю лютеранского вероисповедания в пыльном скверном сюртуке…
Хлопнула дверь спальни. И тишина.
Только бы не чахотка.
Мейзель вышел через три четверти часа – под короткий, переливистый курантовый бой. Точно подгадал. Такой же невозмутимый, Борятинскому даже показалось – равнодушный, словно не Наденька там лежала, погибая, за злосчастной дверью, словно не Надюша моя. Господи Боже ты мой! Борятинского шатнуло так, что пришлось вцепиться в край неизвестно откуда приблудившегося столика, – все сорок пять минут ожидания он постыдно накидывался некстати случившимся коньяком, стаканом глотал, куда там грядущим декадентам, и вот на́ тебе! Его снова повело, словно зеленого юнкерка, – а ведь, кажется, где только ни пивал, а гвардию не позорил, с великим князем Константином Николаевичем честь имел надираться, и младший братец самодержца российского, как все Романовы, на выпивку исключительно крепкий, самолично изволил…
Борятинский запутался окончательно и, не выпуская из рук столик, испуганно спросил – как она, э-э-э… Чертово имя начисто вымыло из головы коньяком. Плохо, обидится, погубит Надюшу… Э-э-э… Как она, доктор? Не спросил даже – пискнул, словно мышь из-под веника.
Мейзель бесстрастно сказал: вы можете к ней войти. Не ответил – разрешил, будто сам был тут хозяин, и Борятинский впервые услышал в голосе доктора, не в голосе даже – в интонации – что-то раздражающе нерусское. Словно Мейзель ставил привычные слова в чуть-чуть непривычном порядке, и выходило слишком спокойно, слишком непогрешимо. Слишком уверенно. Русские так не говорят. Они или молчат, или орут. Борятинский выбрал первое. Он просто мотнул головой и, из последних сил чеканя шаг и сам понимая, что это первейший и позорнейший признак пьяного, пошел к двери, которая за эти бесконечные недели стала личным его, лютым даже врагом.
Открылась. Закрылась.
Очень тихо. Очень душно. Почти темно.
На… Надюша?
Ослепший после солнечного полудня, Борятинский споткнулся об очередной вертлявый столик – мебель сегодня решительно ополчилась против него, – закрутил головой растерянно, ища жену, но ее не было – и только зашторенный воздух нежно, сильно и сложно пах Наденькой – словно кто-то разлил склянку с самым лучшим, что в ней было. С самым дорогим.
Володя…
Слабенько, негромко. Как колокольчик, подбитый войлоком, полугласный.
Да где ж, мать твою…
Вот она, господи.
Почти невидимая, почти бесплотная, на кровати. Взбитые подушки темнее лица, которое истончилось так, что, кажется, всё превратилось в профиль, в силуэт, вырезанный заезжим ангелом из плотной веленевой бумаги. Глаза только светятся – огромные, зеркальные, словно у сплюшки под стрехой.
Плачет?
Княгиня хотела сказать что-то, но не смогла – закашлялась.
Чахотка! Значит, все-таки чахотка!
Наденька!
Борятинский вдруг рухнул на колени и пополз, как в церкви, отроду не ползал, пока не уткнулся носом в руку жены – по-щенячьи, по-детски. Нет, нет, нет, бормотал он, всхлипывая, – комната рухнула вместе с ним, прыгал в глаза то край ковра, то глухие постельные отроги, то домашние туфельки Нади, жалко прижавшиеся одна к другой. Как всегда, на первом хмелю всё было резким, ужасным, громким – особенно боль, такая огромная, что Борятинскому казалось, что она не помещается у него внутри, как не помещается во рту воспаленный дергающийся зуб, весь круглый, огненный, красный. Но страшнее всего было, что какая-то подлая, самая маленькая часть князя радовалась и ковру (отлично вычищенному, кстати), и спасительной полутьме, и тому, что он стоит на коленях, – потому что так можно было дышать, не боясь, что Наденька услышит гнусный коньячный дух. Бессмысленного безразборного пития она не выносила. Всего вообще – беспорядочного, нутряного.И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму – делать непотребства. В гвардии тебя, матушка, с такими идеями и часа бы не продержали. В голове у хорошего солдата Богу делать нечего. Там пусто должно быть – шаром покати. Чтоб команды помещались. А похмелиться – разве ж это непотребство? Непотребство – наоборот как раз, с утра не поправиться. Непотребство и ересь злокозненная.
Так он всегда говорил. А она смеялась.
Умрет – застрелюсь сей же час.
Володя.
Откашлялась наконец.
Володя. Я…J’ai…[2]
И зашептала, зашелестела, путаясь, сбиваясь на французский и точно приседая на каждой фразе – легко, торопливо, по-полонезному.
Quoi?![3]
Борятинский вскинул голову – забыв про коньяк, про мокрое от слез лицо с расползшимся, почти бабским, опухшим ртом.
C’est vrai?! Mais… mais enfin, ce n’est pas possible. Ce n’est vraiment pas possible![4]
Лучше бы язык себе откусил, честное слово.
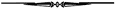
Лиза и Николай приехали через месяц, к концу августа, – неслыханно скоро, если учесть, что Лизе пришлось добираться из Рима, а Николаю – срочно испрашивать в полку отпуск (и, значит, следующего ждать придется целых два года, эх!). Оба, сговорившись, решили встретиться в Воронеже, чтобы по пути в новую родительскую усадьбу всё хорошенько обсудить, но обсуждать, как оказалось, было нечего. Телеграммы от отца с требованием приехать незамедлительно, без проволочек, совпадали до буквы – и, похоже, отправлены были в один и тот же час. На ответные письма (гомон взволнованных вопросов, скрытое негодование, почтительный гнев) пришли еще две телеграммы, на этот раз с одним-единственным словом – незамедлительно. Чтобы выяснить это и понять, что понять тут ничего невозможно, хватило нескольких минут, так что два оставшихся (бесконечных, бесконечных!) дня ехали молча, все больше раздражаясь друг на друга.
Впрочем, они и в детстве не были дружны – каждый рос сам по себе.
Сам по себе и вырос.
Как назло, погоды стояли скверные, мозглые – совсем не августовские и уж точно не воронежские. Кругом лило, чавкало, моросило, опять лило, каждую перемену лошадей добывать приходилось с боем, и Николай то хватался за шашку, то сгребал очередного станционного смотрителя за грудки. Да еще несносное это, чертово перекладывание бесконечных Лизиных шляпных коробок, кофров и дорожных сундуков, отнимавшее уйму времени. На почтовых к вечеру были бы на месте! Лиза только картинно заводила огромные глаза такого черносмородинового отлива, что белки казались голубыми, и, страдая от путевых неудобств, все прижимала крошечный батистовый платок к хрустальному горлышкуHoubigant, так что деваться некуда было от гнусных назойливых тубероз.
Убери уже эту чертову склянку!
Очередное ресничное трепетание, тонкие пальчики трясут тяжелый флакон. Ни капли! Пустой!Mademoiselle, donnez-moi le parfum. Non, pas celui-ci, pas celui-ci, je vous dis![5] Это решительно невозможно! Apportez-moi le néessaire! Je le ferai moi-même[6]. Иноземная горничная, пугливая, востроносая, серенькая, подавала требуемое, ныряя из одного мелкого книксена в другой – точно прихрамывая. Удивительная дура. Несносное существо. Au nom de quoi, au nom de quoi dois-je supporter tout cela?![7] Лиза ожесточенно рылась в изящном сундучке, отбрасывая пуховки, баночки в золотой оплетке, щетки, эгреты, гребешки. Николай, не дожидаясь нового туберозового залпа, выходил из очередной станционной избы, саданув дверью. Сама дура удивительная! За посланника вышла, по Европам таскается, а горничную по щекам лупит.
Дура и есть! Выдрать бы за косы – как в детстве.
На нужную станцию прибыли только к полуночи. Их встретил незнакомый кучер, не то сонный, не то глухонемой, – впрочем, расспрашивать прислугу о домашних делах Николаю все равно не позволяла гордость, а Лиза устала наконец до полной немоты и всю черную сырую колыхающуюся дорогу до имения, тоже незнакомого, проспала, по-детски привалившись головой к плечу брата. На парадном крыльце, высоко подняв празднично сияющую лампу, стояла Танюшка, сразу ловко спрятавшаяся за ахами и охами, за целованием плечиков и рук, так что и у нее не удалось выведать ничего, кроме расположения комнат. Я тебе, Николушка, четыре подушечки положила, ты завсегда на мякеньком лучше засыпал, а тебе, Лизонька, протопить в комнате велела хорошенько…
На “ты” была с ними – как своя. И то сказать – с самого рождения их пестовала, получше любой няньки. Да и в доме ничего без ее ведома не делалось. Куда уж своее. Николай не удержался все-таки – улучил момент, спросил, что и как, но Танюшка только руками замахала – спать, спать ложись, голубчик, уж вторые петухи пропели, поздно, а завтра маменька и папенька сами всё скажут.
Оба живы, значит. Как говорится, и на том спасибо.
Мать и отец встретить так и не вышли.
И к завтраку тоже.
Николай и Лиза, успевшие осмотреть дом (обоим он показался старым и безобразным), одуревали уже от скуки и беспокойства в скверно обставленной провинциальной гостиной. Прогулка могла бы скрасить им ожидание, но заоконный сад било крупной дождевой дрожью. Так и не распогодилось с вечера. И с третьего дня тоже. Николай провел пальцем по затуманенному стеклу – послушал, как замечательно взвизгнуло.Cesse immédiatement![8]– Лиза взвизгнула в той же тональности, что и стекло, взяла со столика онемелый том – очевидно, материн – и без сил уронила.
Bonjour, les enfants! Je vous remercie d’être venus. Entrez. Votre mère et moi, nous avons quelque chose à vous dire[9].
Николай и Лиза вскочили оба – отец, стоявший в дверях, был все тот же, прежний, не изменившийся ни на йоту, так же бегло прикоснулся ко лбу каждого усами, будто щекотнул, и пахло от него привычным, памятным с младенчества, тоже щекотным. Свежим. Только в глазах была странная растерянность, так что Лиза и Николай, спеша за отцовским мундиром к материнской спальне, оба разом решили для себя, что с папенькой все, слава богу, благополучно и, значит, это мать тяжело больна и, может быть, даже умирает.
И оба не почувствовали ничего. Совсем ничего. Даже докуки.
Мать приняла их в креслах – полулежа, бледная больше обычного, подурневшая. На плечах – Лиза сразу приметила – знаменитая прабабушкина шаль, черно-алая, тончайшая, сделанная из пуха, собранного с горла кашмирских коз и сплошь затканная слезами Аллаха. В 1800 году прадед отдал за шаль целое село ценой в двенадцать тысяч рублей – и гордился удачной сделкой, потому что за подлинные кашмирские шали просили и двадцать тысяч, и двадцать пять. Мать лишь единожды позволила Лизе ее примерить – в пятнадцать лет, и с того дня Лиза только и мечтала, чтобы получить шаль в приданое.
Не получила, хотя вступила в удачнейший брак с блестящим дипломатом, просчитанный не только родителями, но и ею самой. Дипломат был не очень молод, очень некрасив, очень богат и очень умен – все необходимые составляющие будущего женского счастья в едином сосуде. Так что Лиза дала согласие, несмотря на тихий, но едва выносимый мышиный запах, который распространял жених, – и не прогадала. Брак вышел легкий, бездетный, беззаботный. Супруг обожал Лизу, баловал сверх всякой меры, и единственное, о чем она сожалела, была так и не полученная шаль, которую Лиза, нарушив все мыслимые приличия, попросила сама. Мать отказала. Просто сказала – нет.
Теперь время наконец пришло.
Лиза представила, какой фурор произведет в Риме в этом черном и алом золоте, – это ее цвета были, не материны, ее черные глаза, ее темные выпуклые губы, надо будет только сшить подходящий туалет в восточном стиле и чтобы плечи и лопатки непременно открыты.
Да. Непременно чтобы лопатки открыты.
Николай дернул ее за руку, а потом выкрутил кожу на запястье, как в детстве – пребольно. Лиза ахнула – и мать повторила чуть громче.
Votre père et moi, nous voulons vous faire partager une joie immense. Il se trouve que très bientôt votre nouveau petit frère ou votre nouvelle petite sœur verra le jour[10].
Мать хотела добавить что-то еще, но сморщилась, словно сама понимала весь ужас и неприличие сказанного, – в ее-то возрасте, немыслимо, просто немыслимо, в свете никогда этого не поймут! – и ее вдруг вырвало какой-то омерзительной пеной и слизью.
Прямо на драгоценную кашмирскую шаль. Прямо на шаль.
Лиза ахнула еще раз, схватившись за виски.
Из ниоткуда, будто за креслами прятался, появился крепкий круглоголовый человек и, деловито поддергивая рукава сюртука, распорядился – потрудитесь нас оставить. Княгине необходим отдых.
И когда Лиза и Николай, ошеломленные такой дерзостью, переглянулись, прибавил отчетливо – вон!
Я сказал – всем немедленно вон!
Князь покорно опустил голову и как-то странно, боком, поспешил из комнат.
И тут с Лизой наконец сделалась истерика.
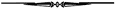
Через четыре дня они уехали – слава богу. Сперва Лиза, потом Николя. Надежда Александровна видела их за это время еще дважды – один раз мельком, из окна, другой раз в гостиной, куда зашла случайно, не зашла даже – забрела, еле передвигая неловкие мозглые ноги. Не дозвалась Тани. Очень хотелось пить. Все время. Но Мейзель запрещал, давил оранжевым йодистым пальцем на восковые бледные голени, показывал ямку – это отек, княгиня, видите? Вам нельзя много пить, это плохо для ребенка. Зато нужно много ходить. Много, очень много! Чтобы мышцы живота были крепкими.
Она старалась, ходила. Неприбранная, измученная бесконечной рвотой. Хваталась то за стенку, то за Танюшкино плечо. Проще всего было опираться на руку Мейзеля. Твердая. Теплая. Немного легче было идти.
Тогда, в гостиной, Лиза сидела в кресле, склонив над вышивкой прелестно убранную темную головку, и негромко втолковывала что-то Николя, который стоял у окна, дважды обвитый голубым папиросным дымом, и согласно кивал, дергая и накручивая на палец русый молодой ус. За какую-то секунду, чудовищно замедленную и увеличенную, Надежда Александровна успела разглядеть и покрой Лизиного платья, и ее вздернутую – как в “Войне и мире” – румяную верхнюю губу, и даже светлые волоски на докрасна загорелой шее сына. И, тихо пятясь, чтобы не услышать ненужного, и прикрывая за собой дверь, поразилась тому, что в ее гостиной делают эти красивые, взрослые и совершенно незнакомые ей люди.
Вот сад был ее – несомненно. А эти люди – чужие.
Quelle honte[11]. Гневное. Лизино. И еще – quelle abomination[12].
Все-таки услышала.
Стыд и мерзость. Стыд и мерзость. Стыд и мерзость.
Вот что все они чувствовали, когда смотрели на нее. И даже сама она – тоже. Прятала глаза, сутулилась, будто принесла в дом дурную болезнь. Будто она одна была во всем виновата.
С самых первых дней все пошло не так, как было со старшими детьми. И вообще – не так. Две первые беременности – ранние, молодые – Надежда Александровна едва заметила. Носила она легко и почти до родов появлялась в свете, продумывая туалеты так, что даже самые просторные платья поражали изяществом и простотой. Вкус у Борятинской всегда был отменный – частое, едва ли не неизбежное следствие жизни, с первых дней проведенной даже не в богатстве – в роскоши. Родившаяся в Петербурге, красивейшем городе Европы, выросшая во дворце родителей, проведшая раннюю юность в императорском дворце, Надежда Александровна умела и любила видеть прекрасное и старалась окружать себя лишь тем, что радует глаз. Не только мебель, серьги или платья, даже прислугу она выбирала, руководствуясь не здравым смыслом, а принципом художественной гармонии. Борятинская могла отказать от места опытному и превосходно рекомендованному лакею (нет, нет и нет, вы не видите разве? он же кривоносый!) и нанять в горничные свежую глазастую дуреху, которая не умела приседать и колотила драгоценный фарфор, но сама при этом была как фарфоровая статуэтка – круглая, ладная, вся светящаяся изнутри гладким белым светом. Ты посмотри лучше, какая красавица! А ресницы! Спичку, спичку можно положить! Борятинский смеялся – да лучше б рябая была, ей-богу! Я третьего дня от кофейника еле спасся – ведь в самые панталоны метила. Мои б орлы так стреляли. Чистый артиллерист!
Надежда Александровна тоже смеялась, но упрямо поступала по-своему. Она знала: через год-другой дуреха обтешется, научится под руководством Танюшки всем тонкостям профессионального услужения и станет незаметной, но очень важной деталью общей мозаики, которую Борятинская собирала с упорством Ломоносова. Бланж ложился рядом с киноварью, кресла цвета гри-бискр перемигивались с офитовыми колоннами – всё, всё шло в дело: орнаменты, оттенки, даже переплетение теней – так что гости, расположившись в гостиной Борятинских, чувствовали, что оказались в каком-то ином, лучшем месте, среди иных, лучших людей. И только Надежда Александровна знала, что дело не только в изумительных пропорциях залы, не только в жиразолевом шелке, которым были обтянуты стены (три, три месяца она искала цвет, передающий подлинные опаловые переливы), но и в ресницах горничной девушки, входившей в нужный момент с подносом, на котором сиял крошечный кофейник на спиртовке, украшенной синим живым огоньком. Ресницы у горничной тоже были синие, загнутые на концах, тяжелые от невидимой спички.
Мето́да, при всей абсурдности, прекрасно работала – дом Борятинских считался одним из лучших в Петербурге, хотя не был ни самым богатым, ни самым большим. И сама Борятинская – хрупкая, бледная, миловидная – слыла одной из первых красавиц и модниц большого света, не имея на то ни малейших телесных оснований. Это было не так уж просто в мире, где у женщин не было иной заботы, кроме умения вести себя в обществе и быть одетой к лицу.
И никто – да, пожалуй, и сама Борятинская – не догадывался, что в основе этой любви к гармонии лежала обыкновенная брезгливость. Надежда Александровна брезговала всем некрасивым, как брезговала грязью, – и это был не прелестный снобизм потомственной белоручки, которой ни разу в жизни не пришлось вычистить подол собственного платья или вынести еще теплую, курящуюся тихим смрадом ночную вазу. Нет, это было тяжелое, пугающее чувство, почти идиосинкразия, которая заставляет взрослых людей цепенеть и жмуриться при виде обыкновеннейших вещей – черных маслянистых тараканов или, скажем, фарфоровых кукол, голых, холодных, твердых и совершенно, совершенно неживых.
Грязь и уродство наводили на Надежду Александровну ужас.
Теперь, в сорок четыре года, грязью – желтой, омерзительной, липкой – стала она сама.
На исходе девятнадцатого века в большом свете не принято было рожать без конца.
Это считалось неприличным, мешало выполнять свой долг – долг светской женщины. Многочадие было уделом бедноты. Бесконечно плодиться и размножаться могли позволить себе только священники, простолюдины да императрица, у которой имелся свой собственный персональный долг – обеспечивать престол должным количеством наследников. У всех остальных находились дела поважнее. Иметь двоих, много троих детей, рожденных в молодости, считалось идеалом, и Борятинская прежде вполне ему соответствовала. Она прекрасно помнила, с какой свистящей язвительной насмешкой жалели в свете бедняжечку Мордвинову, имевшую тринадцать детей. Будто в бабушкины времена!
Замужние дамы шепотком передавали друг другу верные будуарные средства, способные легко переменить волю Господа на нужный лад. Князь сам прекрасно управлялся с этими таинствами – и Борятинская была ему за это искренне благодарна. Они были счастливы вместе и вместе, рука об руку, готовились вступить в покойную, достойную, долгую, как золотая осень, старость. Поздняя беременность перечеркивала всё – и разом. Она была непростительна, словно публичная оплошность. Светской женщине после сорока лет надлежало заниматься благотворительностью, а не любовью. При этом порядочный мужчина в любых годах мог позволить себе иметь любое количество детей – как законных, так и нет.
Sic.
Борятинская разрушила этот стройный и понятный мир. Сама разрушила.
Если бы не Мейзель, она бы определенно наложила на себя руки. Или рехнулась. Но он был рядом – приезжал ежедневно, утром и вечером, точный, круглый, крепкий. Иногда оставался обедать – нехотя, словно это он оказывал милость, а не ему. Вообще, неучтив был невероятно: перебивал, распоряжался, мог за столом завести бурный разговор о детских поносах – князь терпел, сколько мог, потом, швырнув салфетку, выходил, прыгающими руками искал по карманам папиросы. Но Надежда Александровна ничего не замечала – кроме того, что Мейзель, один-единственный, с веселым любопытством ждал ее невидимого пока ребенка, которому никто в целом свете не радовался.
Даже поначалу она сама.
Но прошли первые три месяца и еще один. И стало легче. В Петербург – по понятным причинам – решено было не возвращаться, и княгиня впервые в жизни, день за днем, прожила в деревне великолепную русскую осень – воронежскую, яркую, расписную. Тошнота незаметными усилиями Мейзеля совсем прошла, и Надежда Александровна, словно следуя властным правилам своего сада, начала наливаться сытой сонной спелостью. Она теперь отменно кушала и ежедневно целыми часами гуляла, запахивая на круглеющем животе красную, всю в золотых цветах, душегрею, подбитую зайчиками. Душегрею привез Мейзель, он же расхвалил портниху – мещаночку Арбузову (по-здешнему – Арбузиху), большую рукодельницу, так что Надежда Александровна, к которой вместе с аппетитом вернулась и любовь к прекрасному, уже продумывала себе новые наряды – сплошь в народном духе. Местные бабы одевались под стать осени – радостно, ярко. Планировалась и детская – непременно в первом этаже, огромная, вся в тафте и шелку, и дальнейшая перестройка дома да и всей усадьбы. Мейзель посмеивался, кивал, подбирал из спутанной травы то тяжелое яблоко, то облепленную муравьями лопнувшую грушу. Надкусывал громко, вкусно. Протягивал Борятинской – так же просто, как мать младенцу, и она так же просто брала, впивалась зубами, смешивая сок, мякоть, свою и чужую слюну. Это было больше, чем поцелуй, это была настоящая близость, та, что непоправимей любой измены, но они не думали об этом.
Они просто ждали ребенка. Оба.
А можно мне тёрну?
Будущей матери, княгиня, можно всё. У меня пациентки на сносях, бывало, мелу наедятся или, страшно сказать, тухлой селедки. Одной купчихе, не поверите, осетра целикового в тепле подвешивали, пока хвост не отвалится. Собаки – и те от вони сбегали, не могли. А она уминала, только нахваливала. Такого богатыря родила – я думал, в руках не удержу. Фунтов одиннадцать, не меньше. Так что если только пожелаете…
Надежда Александровна отмахивалась в веселом ужасе и губами собирала с ладони чуть подвяленный близкой зимой терпкий терн. По утрам и вечерам уже подмораживало, но днем все сияло, плавилось, пекло, ослепительно-горький воздух был весь заштрихован летящими паутинками, и небо было громадное, густо-синее, радостное. Никогда она не видела в Петербурге такого неба. Надежда Александровна запрокидывала голову, смеялась, жмурилась, пыталась по голосам пересчитать невидимых осенних журавлей, но сбивалась и смеялась снова.