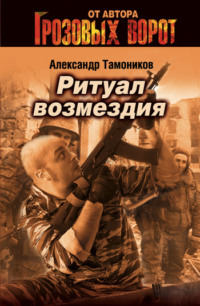Полная версия
Чекисты
– Обязательно передам, – кивнул я.
– Эх, вечная мечта человека о небе, – с грустью произнес второй секретарь. – Почему нас так тянет туда, Ермолай Платонович?
– Романтика больших высот и скоростей.
– А еще стремление оторваться от забот и грязи. От зла и предательства, – Белобородько замолчал и мельком бросил на меня взгляд – как я воспринял его эмоциональное заявление.
– Мне пора на «Дизель». – Я поднялся.
– Там что-то стряслось? – с обеспокоенностью за свое детище спросил второй секретарь.
– Проблемы. Возможно, серьезные.
– Проблемы, да. Взять вашего Граца. Он не слишком усердствует с арестами? На заводе так скоро народа не останется.
– Будем вдумчиво разбираться по каждому случаю.
– Уж сделайте одолжение, Ермолай Платонович…
Глава 8
«Пролетарский дизель» – это воистину гигантский проект. Один из флагманов индустриализации. Гордость нашей области, он грозил с лихвой перекрыть потребность в широком перечне важной для нашей страны промышленной продукции.
За поворотом открылся вид на завод. Его территория была обнесена бетонным забором с колючей проволокой, вдоль которого патрулировали бойцы ВОХР, ища подкопы, проломы, приглядывая, не тащат ли несуны народное достояние.
Вот и ворота, похожая на дот проходная, у которой собралась толпа. Чуть поменьше народа толпилось у киоска в ста метрах справа. Там торгуют сигаретами и водкой в разлив. Не видит руководство завода ничего плохого в том, чтобы рабочий человек закурил папироску, да опрокинул рюмашку после смены, да и пошел бы домой.
Моя черная «эмка» остановилась перед воротами. Я показал суровым вохровцам с револьверами в кобурах пропуск. Мой водитель Саша тоже продемонстрировал соответствующую бумагу.
– Проезжайте, – кивнул насупленный усатый боец в черной форме с петлицами.
Это был целый город. Машина закрутилась между длинными корпусами из стекла, кирпича и бетона. Она объезжала трактора с прицепами, грузовики, толпы рабочих.
Подъемный кран грузил на платформу здоровенный трансформатор. Это действо сопровождалось азартными криками:
– Да влево подавай, так-перетак! Ну куда ты тянешь?!
Я любил этот завод. Как люблю заводы вообще. В них ощущается неуклонная поступь цивилизации. Победа человеческого разума, покоряющего материальный мир. И вместе с тем что-то неземное есть в больших машинах.
Цеха. Пышущие огненным жаром печи. Перевыполнение планов. Энтузиазм и создание чего-то нового и важного. Азарт технического поиска. Это жизнь!
Здесь целый мир, по сути своей очень правильный. Тут из вчерашних крестьян и ремесленников воспитывают передовое будущее страны – квалифицированных рабочих, инженеров и управленцев. Здесь всегда протянут руку оступившимся и скажут спасибо передовикам. Но и строго спросят с виноватых. Здесь тянут вверх, к солнечному свету, забившихся в темные углы единоличников и прочий несознательный элемент. Люди ощущают себя частью коллектива, общей семьи. Идет задорная комсомольская, спортивная, культурная жизнь. Спортсмены бьют рекорды и ездят на соревнования. Самодеятельные артисты дают представления в роскошном заводском клубе. Агитаторы оказывают помощь деревне. Простые ребята осваивают начальную военную подготовку. Завод для многих прекрасных людей стал и домом, и самим смыслом жизни. А я заряжаюсь пышущей здесь оптимистичной, искренней, задорной энергией молодости.
Эх, почему я не стал инженером? Меня всю жизнь тянуло к этой профессии. Но не отпускали. То контрреволюция на дворе, то левые и правые уклоны. Кто будет бороться? Надо. Поэтому и с образованием не срослось. Ни тебе рабфака, ни высшего технического училища. Только сокращенный юридический курс да школы повышения квалификации – сначала ВЧК, потом ОГПУ и, наконец, НКВД. Мои университеты, черт возьми!
Еще на этапе строительства я курировал завод. Присматривал за ворами и расхитителями. Создавал препоны вредителям. Держал в поле зрения иностранных специалистов. Раскинул агентурную сеть, покрывшую комбинат густой паутиной, и был в курсе всего. Контролировал заключенных, труд которых использовался на тяжелых работах.
Ну а еще крутился волчком, обеспечивая строительство то техникой, то бетоном. Бился головой об стенку, выбивая вместе с местным руководством станки, чтобы уже готовые площадки не простаивали. Так что в неуклонном росте производства на «Пролетарском дизеле» есть и моя скромная заслуга…
Добрался я до сборочного цеха. Там что-то жестяно грохотало. Ползла лента конвейера – его налаживали американцы, которые аж у самого Форда начинали.
Пройдя через цех, я поднялся по шаткой металлической лестнице на галерею, где шли кабинеты и подсобки. А вот и бронзовая табличка «Начальник сборочного цеха Ломидзе Ш. Г.»
Дверь закрыта. Ничего, подождем. Хозяин кабинета больше чем на полчаса свой цех не оставляет. Не может жить без него…
Ломидзе появился через десять минут. Это был статный кавказец лет сорока, с черной шевелюрой и лихими усами. Правда, в родной Грузии за всю жизнь он побывал только раз. Но считал себя горцем.
Он шел по галерее, смотря перед собой и бормоча:
– Шакал, не человек, да! Просто враг, да!
– Шалва, ты никак от Барина? – хмыкнул я.
– Тяжелый человек, да, – кивнул Ломидзе, пожимая мне руку.
Он отпер дверь и пригласил меня в тесный, заваленный чертежами кабинет с маленьким столом, несколькими колченогими стульями и табуретами. Из окна открывался вид на весь цех – там что-то вспыхивало, стучало, жужжало.
– Откуда такое барство в советском руководителе? – никак не мог успокоиться Ломидзе. – Как чекист ответь!
За это самое барство директора завода Алымова дружно не любили и работяги, и инженеры, и администраторы. Он не умел найти общего языка с трудовым людом. Такой новый коммунистический сибарит, неприятный в общении, вспыльчивый. Больше всего народ раздражала его вездесущая и активная, как таракан, молодая жена Эсфирь Львовна. Она постоянно требовала его персональную машину – ей то за бархатными шторами, то к парикмахеру, то по магазинам. Она нигде не работала, потому что постоянно болела – правда чем, не могли сказать самые лучшие светила медицины в нашей области. Гоняла по своему особняку домработниц не хуже чем рабынь. Дошло до рассмотрения дела о личной нескромности директора на бюро обкома. Но давить его сильно не стали. Постановили, что такие ценные специалисты имеют право на соответствующие пряники, а уравниловка – это путь в безответственность.
– Считаешь, нам надо к нему присмотреться? – усмехнулся я.
– Присмотреться… – неожиданно зло зыркнул на меня Ломидзе. – Уже присмотрелись. С вашим следователем встречался. Грац такой. Фрукт, скажу я тебе. Все чего-то ищет, шуршит бумажками, как крыса канцелярская. И вот мой мастер Ветлугин Анатолий Ефимыч – где он? А с ним еще двое в «Зеленый дом» уехали.
«Зеленым домом» в народе прозвали здание УНКВД за зеленую окраску фасада.
– А у меня на них целая производственная линия держалась. И как дыры латать? Спьяну что-то сболтнули – допускаю, у них язык как метла. Но они не враги! А Лагин и Веригин? За халатность по тому взрыву котла в Сибирь их! И двух специалистов как не бывало. А достойной замены нет!
– Котел же взорвался.
– Дело нечистое, – поморщился Шалва. – Взорвали его. Умышленно. Уверен.
«А я даже предполагаю, кто взорвал», – подумалось мне с чувством превосходства, которое дает агентурная осведомленность.
– Еще Барина посадите! Меня заодно. Пусть завод вообще встанет. Так, да? И кто враг у нас получается, а? Ну скажи!
– Скажу, что ты слишком много говоришь.
– Так я тебе говорю! Ты свой! Ты коммунист!
– Заканчивай, понял!
Ломидзе понял, что наговорил предостаточно. Перевел дыхание.
– Ты как, Платоныч, по делам? Или просто – запахом цеха подышать?
– Да какие дела? Делишки. Хотел характеристики на твоих людей получить. Допуска обновляем, – я выложил несколько фамилий. В числе которых был и фигурант, якобы подорвавший котел, – Богдан Кирияк. А остальных – для массовки. Чтобы Ломидзе не понял, кем конкретно мы интересуемся. Не то чтобы я ему не доверяю… Я не доверяю вообще никому.
Ломидзе числился моим негласным сотрудником. Притом по-настоящему идейным – врагов революции ненавидел со всей кавказкой эмоциональностью. Именно с ним мы раскрутили того американца.
От Великой депрессии из Америки к нам сбежало много хороших инженеров. Они заключали контракты и работали на совесть. Мы их не трогали, за СССР не агитировали, но бдительно к ним присматривались. И вот один начинает активно подбивать клинья под людей неустойчивых, жадных до денег, обиженных советской властью, с испорченными биографиями. Умел американец влезть в душу. Сыпал деньгами. Обещал златые горы. Хороший вербовщик, умело создавал агентурную сеть. Двоих успел подбить на сотрудничество, притом таких, кто имел доступ к секретной документации.
Засыпался, как и все его коллеги, на недооценке противника. Не учел, что всех обиженных, с испорченными биографиями мы тоже пристально держим в поле зрения. А некоторые вообще являются наживками.
Меня тогда удивило – на черта американцам наш завод сдался? У них и разведслужб толком нет. Им только коммерция важна. А он, оказывается, на англичан трудился в поте лица. Островитянам что Российская империя, что СССР – как кость в горле. Конкуренты на мировой арене. Кроме того, их буржуи как огня боятся социалистической революции, которую им едва не устроили по примеру России в семнадцатом году их рабочие и докеры.
Арестовали мы этого американца. Приехала за ним машина из Москвы с конвоем. Больше я его не видел. А Шалва в этой истории зарекомендовал себя преданным, умным и наблюдательным источником информации…
Шалва дал емкие характеристики всем лицам, которые мне вообще ни на что не сдались, и перешел к Богдану Кирияку – тому, кто якобы взорвал котел, угробивший пятерых рабочих.
– Комсомолец, – сказал Шалва. – Активист. По-моему, еще и карьерист. Деятелен и говорлив. Ничего плохого не скажу.
– С кем общается?
– С половиной завода. По комсомольским делам. И ни с кем особо не дружит.
В дверь постучали. Зашел высокий мужчина, возрастом лет под пятьдесят, по-военному подтянутый, с аккуратной седой бородой. Кивнул нам. И на миг будто замер, кинув на меня взгляд. Потом положил на стол папку:
– Данные техзадания, Шалва Георгиевич. На изделие номер тринадцать.
И быстренько исчез.
А я сидел, огорошенный. И мысли метались в моей голове стаей вспугнутых птах.
– Новенький? – спросил я.
– Вепрев Константин Павлович. С «Теплоприбора» пришел. Там начальником цеха был. У нас сперва по технике безопасности работал, и вот уже два месяца у меня. Как инженер просто находка. Из старых специалистов – в хорошем смысле. Уважаю!
Это что же за синема получается?
Я был как пыльным мешком пришибленный. Бывают в жизни сюрпризы…
В растрепанных мыслях я дошел до заводоуправления. Там в тесном кабинете царил Наум Ложкин – оперативник из моего экономического отдела, курирующий завод.
Невысокий, кряжистый, по-деревенски основательный, он был из староверов. В семье в нем воспитали фанатичную дисциплину и беспрекословное подчинение старшим, дикую добросовестность и преданность работе. К его минусам относилась прямолинейность, что для опера не всегда полезно. Но в целом я считал, что завод прикрыт его могучей спиной.
Он был одет в военную форму – от кого таиться, его и так здесь все знают. Рылся в бумагах. При моем появлении вскочил и доложился.
– Не подпрыгивай. Лучше дуй в отдел кадров. На этих людей личные дела принеси, – я протянул ему список.
И через пятнадцать минут передо мной лежало личное дело нового заместителя начальника цеха Вепрева. Проверки. Фотография. Оформление допуска. Все на месте.
– Надежный человек. В прошлом году вступил в партию, что для старых специалистов не только редкость, но свидетельство их заслуг, – сказал оперативник.
Я присмотрелся к фотографии. Так что, мерещится мне или нет? Борода клинышком, залысины. На это можно не смотреть. Это дело преходящее. А вот форма носа, надбровные дуги. Главное – глаза.
Есть у меня такая способность – никогда не забывать внешность людей, не обращать внимания на ее изменения – принудительные или возрастные. Всегда зрил в корень.
Он или нет? Да ладно, не стоит себя обманывать. Это именно он. Вепрев? Да какой Вепрев. Это Великопольский. Даже имя-отчество не сменил. Чтобы легче было откликаться.
Насущные вопросы: зачем он здесь? Узнал ли меня? И что мне с ним делать?..
Глава 9
Это была хлипкая дождливая весна 1920 года. Ожесточенные бои на юге России. Противоборствующие силы увязли в позиционном противостоянии. С учетом того, что у беляков ослабли фланги, командование нашей армии решило нанести удар и вклиниться в глубину территории противника – больше для отвлечения внимания, чем для реальных стратегических успехов.
На эту операцию были собраны с бору по сосенке второстепенные силы. Похожие на бродячий цирк анархистские отряды, крестьянские тачанки с мрачными мужиками. Выделили даже бронетранспортер, а разведку осуществлял единственный в нашей части фронта аэроплан.
С ходу мы заняли провинциальный скучный городишко Любавино, главной достопримечательностью которого был паровозоремонтный завод. Жители были ошеломлены такой стремительной переменой их участи. Они были уверены, что фронт далеко. И вдруг – здрасте, с новой властью вас, господа!
Дралось наше сборное по сосенке воинство неважно, приказов часто не слышало и не понимало. И если бы не мой эскадрон красных казаков, полегли бы все. Но зато грабили и мародерствовали союзнички самоотверженно и с полной отдачей душевных сил.
Со всех сторон города доносились выстрелы. Женские крики. Проклятия. И ничего с этим поделать невозможно. У меня не было людей прекратить грабежи.
Передо мной аккуратный уютный каменный дом среднего достатка – такие принадлежат или врачам, или инженерам. Пятеро мародеров выносили оттуда имущество. Но хуже, что они вытянули во дворик огромную перину, от которой летели во все стороны перья, и под задорный хохот и вопли о том, что дождались буржуи рабочего тела, пытались разложить на ней хозяйку – молодую, ухоженную и красивую женщину в длинном бежевом платье. А один из мародеров цепко держал за плечи девочку лет пяти, застывшую от ужаса и не способную даже кричать.
Анархисты выглядели комично. Одеты кто во что горазд – в тужурки, обрезанные по колено шинели, солидные габардиновые пальто. Один перепоясан шерстяным пуховым платком. У другого вокруг шеи обвилась лисья горжетка. Как старьевщики, они вечно таскали с собой саквояжи, коробки и мешки. Из карманов свисали цепочки от часов и нити бус. Они походили на клоунов. Только на клоунов злых.
– Отставить! – что есть силы заорал я, спрыгивая с коня. – Вы женщин и детей с беляками не попутали?
Главарь шайки, в черном морском бушлате и кожаных штанах, глянул за меня с беззлобным недоумением:
– Проходи, товарищ, мимо. Не видишь – революционная братва гуляет. Щемит эксплуататора!
Их было пятеро. Один теребил карабин, у другого винтовка Мосина. Остальные – у кого револьвер, у кого маузер. Руки они держали поближе к оружию. Так что совет «проходи» был весьма к месту. Вот только не по-людски это. Мы дрались с белой армией за то, чтобы называться людьми, а не становиться скотами. Поэтому никуда я не уйду.
– Я командир особого эскадрона штаба армии. И я приказываю именем революции прекратить мародерство. Распоряжением командующего Юго-Западным фронтом за преступления против мирного населения – революционный трибунал!
– Т-ю-ю, – протянул главарь. – Братва, он балтийского матроса казнить хочет. Чтобы буржуям угодить! Да нам на твой штаб… – он витиевато выругался, обильно перемежая матерную ругань уголовными словечками.
Большинство таких «матросов» – это освобожденные из тюрем под честное слово служить Республике воры и грабители. И по укоренившейся привычке они мечтали только воровать и грабить. Рано или поздно их придется ставить к стенке или иными способами приводить в чувство.
– Прекратить! – повторил я уже без особой надежды.
– Мы свою кровь льем не за твой штаб. А за классовую справедливость! – завопил «матрос». – Короче, смерть буржуям и их пособникам!
И неожиданно резко вздернул вверх руку с маузером.
Не успел. Потому что я казацкий пластун, которого учили серьезному делу еще в Первую мировую войну, а он – обычный разбойник. Я начал движение раньше, смещаясь влево и вскидывая наган.
Он промахнулся, а моя пуля достала его. Он согнулся, держась за простреленный живот. Рухнул, выронив маузер, жалобно заскулил, как собачонка с отдавленным хвостом. Жив еще, но мне не до него. Оставалось еще четверо.
Двигаться и стрелять. Стрелять и двигаться. И держать в сознании три очень важные вещи – не дать поразить себя, невинных людей и моего драгоценного друга – коня Резвого.
Сердце молотит в груди. Кровь лавой катит по жилам. Но рука тверда. Движения отточены. Бросок. Перекат. Шинель разбухает от грязи и воды из лужи – все это затрудняет движения. Но в движении моя жизнь.
Мой выстрел. У держащего девочку анархиста возникает дырка во лбу. Потом пришла очередь воришки с лисьим воротником. Затем рухнул еще один.
Положил я почти всех. В барабане еще три патрона. Тело двигалось, а сознание, как посторонний наблюдатель, фиксировало ситуацию. И выходило, что звероподобный анархист с «мосинкой» через долю секунды влепит в меня пулю. И я не успевал.
Грянул винтовочный выстрел. Ну, вот и все…
И я ощутил, что жив. А мой противник считай что нет. Лежит, дергается в агонии.
Я поднялся из лужи, которая затормозила мое движение и едва не угробила. Огляделся в поисках неожиданного спасителя. И нисколько не удивился, увидев Фадея Селиверстова.
Он мой ангел-хранитель. Не сосчитать, сколько раз спасал мне жизнь с того момента, когда меня определили в его десятку разведчиков-пластунов на Германском фронте. Он обучал молодого солдата пластунским премудростям. С ним мы прошли Первую мировую. Вместе приняли решение идти к красным, потому что верили в свет грядущего освобожденного труда. И вот опять он прикрыл меня.
– Тебя на минуту не оставишь. – Он деловито дострелил скулящего «балтийского матроса», пояснив: – Все равно не жилец.
Я пытался унять сердцебиение. А Фадей церемонно поклонился спасенной женщине:
– Простите, барышня. Этот сброд получил свое. От настоящих революционных бойцов Красной армии вам не грозит ничего.
– Вам надо уезжать из города, гражданка, – переведя дыхание, сухо произнес я. – Есть где затаиться на время?
– Хутор за городом. Там проживают мои родственники.
– Вот и хорошо. Возьмите с собой только необходимое. Фадей вас проводит.
Женщина внимательно посмотрела на меня. Кивнула резко. И вдруг спросила:
– Кого благодарить? За кого в церкви свечу ставить?
– Ну, так Ремизовы мы, – смутился я. – Ермолай буду.
– А мы Великопольские…
Иногда наши дела возвращаются неожиданными последствиями. Через полгода я сидел в крепком амбаре со связанными за спиной руками. И знал, что мое время истекает. Завтра меня расстреляют. Или запорют насмерть, как принято в этих местах.
Пожил я мало, всего двадцать четыре года. Но содержательно. Бил германца. Потом бил белых и интервентов. Бил умело и удачно.
Во время рейда моего эскадрона по тылам беляков отправился налегке, без сопровождения, в станицу, чтобы встретиться с добровольным помощником из местных. Шел один, чтоб лишнего внимания не привлекать. Разведка – это не столько лихие налеты и грохот выстрелов, сколько тишина и разговоры. Вот и взяли меня в той станице белоказаки.
Больше суток я выслушивал от есаула и какого-то офицерика-пехотинца обычные их причитания – как они, аристократия с голубыми кровями, поставят зарвавшееся быдло в стойло на конюшне. И как будут жечь, карать, вешать.
Ночью я не спал. Все думал о своей недолгой, но яркой жизни. Страшно было, конечно. Но я понял – а ведь изменить бы ее не хотел. Все было правильно. И верную сторону выбрал. А что так все заканчивается – на то и война.
Когда стемнело, меня остался сторожить один казак – второй дрых где-то, залившись самогоном. А посреди ночи послышался шум. Зазвучали женский голос, бас часового, смех, прибаутки. Хлопок – судя по всему по шаловливой руке. Потом предложение:
– Кваска-то отведай, Авдей. Зря, что ли, несла?
Чмоканье поцелуя. И опять хохот.
Тишина. А через некоторое время храп.
Казак заснул. Эх, сейчас бы выломать дверь, но очень уж она толстая. Да и руки за спиной связаны крепко – казаки это умеют.
Но дверь отворилась сама.
В проеме, держа масляный фонарь, стоял худощавый высокий человек в справном офицерском кителе, широких галифе и высоких сапогах. Он осведомился:
– Ремизов Ермолай?
– Он самый, – буркнул я.
Эх, сбить бы сейчас этого хлыща с ног. Да в степь – авось не догонят. Или догонят? Ночь, есть шанс, хоть и маленький. Но только руки связаны.
– Вы город Любавино брали? – спросил нежданный гость.
– Было дело. А тебе-то что, кость белая?
– Дом там мой, – зло процедил офицер. Поставил фонарь на землю. И вытащил нож.
Сейчас он меня зарежет. Не так и намного сократит жизнь, однако эти часы на пороге смерти кажутся вечностью. Как же мне хотелось встретить рассвет! В этом что-то принципиальное для приговоренных – умирать на свету, под лучами солнца…
Офицер нагнулся. Сверкнул нож в свете фонаря. И с моих рук опали путы.
– Охранник спит. Глашка его особым отваром опоила, – пояснил неожиданный спаситель. – Справа у околицы лошади. Казаки перепились, так что можете увести одну, если лень пешком топать.
Я размял затекшие запястья – вязали меня крепко, так и без рук остаться можно. Но ничего. Я ощутил покалывание. Кровь заструилась по жилам, возвращая рукам чувствительность и подвижность.
– В Любавино я спас вашу жену? – я вдруг понял смысл происходящего.
– И дочку. Теперь они в безопасности. Для меня в жизни ничего нет важнее. Валентина рассказала о вас. И я дал слово ей: если где встречу, то помогу. Константин Павлович Великопольский к вашим услугам.
– Теперь квиты.
– Я слишком многим вам обязан. Так что рука у меня на вас никогда не поднимется… Если бы все большевики такие были, я бы, может, и сам красный бант нацепил.
– Так кто мешает? Таких, как я, у нас каждый первый.
– Есть и товарищ Троцкий с расстрельными командами.
– А что Троцкий?
– Эх, – Великопольский махнул рукой. – Если, не дай бог, красные победят, вы еще увидите, какое мурло нарисуется у ваших соратников…
Потом мы встречались с ним пару раз тоже при очень рисковых обстоятельствах. Он спас меня. Я спас его. Потянулась между нами какая-то неразрывная нить, которая скрепляет уважающих и ценящих друг друга людей. Тем более повязанных долгом крови.
Столько лет прошло. И вот свиделись. На радость или на беду – это вопрос…
Глава 10
Заснуть я ночью нормально не мог. История с Великопольским меня сильно взвинтила. Свалился как снег на голову этот классовый враг и ситуативный союзник.
Но на следующий день мне стало не до него. Чрезвычайное происшествие прогремело в Лазаревском районе.
Давненько в наших лесах кулаки не шалили. А было время, когда кулацкая буза и лесные засады являлись нормой. И продотряды вырезали полностью. И докатывались до нас отголоски Антоновского мятежа. Еще года три назад сельсоветы жгли. Теперь же я полагал, что изжили мы эту нечисть. Самых активных кулаков при коллективизации сослали. А в прошлом году, как приказ о массовых чистках пришел, дочистили их до донышка. Сейчас народ боится даже заикнуться, что ему колхозная жизнь тягостна. И вот опять!
Но обо всем по порядку. Днем на проселочной дороге взяли кассу леспромхоза. Это произошло в полусотне километров от областного центра. Лиходеи перегородили дорогу деревом. Из засады открыли огонь из обреза по мотоциклу с коляской. Инкассатора убили на месте и завладели его револьвером. А бухгалтершу недострелили.
– Езжайте, разберитесь, – велел начальник Управления, вызвав меня в свой кабинет.
– Так это дело милиции, – возразил я. – Уголовщина.
– Там политикой за версту несет…
В поселок городского типа Лазарево добрался я к вечеру. Застал там начальника областного уголовного розыска Гришу Афанасьева. Он был невысокий и сухой как щепка, в потертой кожаной куртке, на голове приблатненная, тоже кожаная, кепочка. По виду и замашкам – ну чисто блатной. Оно и неудивительно – беспризорная юность, лично по карманам и лабазам шарил. От тех времен остались у него глубокое знание уголовного элемента и искренняя ненависть к нему. Оперативник сильный.