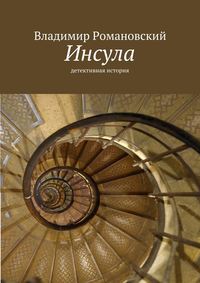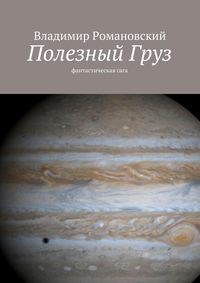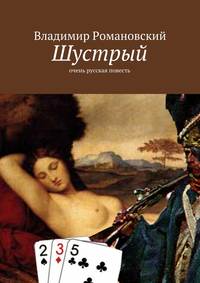Полная версия
Польское наследство. третья книга Русской Тетралогии
– То есть, мне не нужно с ним спорить, и он не будет мне мешать?
– Именно. Тебе нужно выслушивать его – все его выслушивают, даже Ярослав – соглашаться, кивать, и идти заниматься своим делом.
– Но он всучил мне какие-то наброски, расчеты…
– Это он умеет. Каждый день что-то набрасывает. Бумагу и парчу изводит без меры. Жена его, сдается мне, продает все это в тайне на вес.
Роберто неуверенно хихикнул.
– Он действительно построил несколько церквей и домов в Новгороде. Красиво. Если будешь в Новгороде, не поленись – на окраине, Евлампиева Церковь.
– Да ну! – покривился и заугрюмел тщеславный, ревнивый Роберто.
– Да. Это его наброски у тебя в калите?
– Да.
– Покажи. Всегда интересно, что он рисует. Воображение у Ротко необыкновенное, но, к сожалению, неприемлемое в обычной жизни. Так, посмотрим. Это что же?
– Это, – язвительно сказал Роберто, – его план будущей Софии в Киеве.
Ирина засмеялась.
– А почему две башни? И почему они плоские?
– Такая новая придумка, – прокомментировал саркастически Роберто. – Смотри, эта дыра на фасаде – розетка величиной с дом. Три главных двери вместо одной, сводчатые. Между двух башен – балюстрада зачем-то. А позади башен – крыша углом, над нефом и алтарем. Обрати внимание…
– Да?
– Видишь стены по бокам нефа?
– Вижу.
– А в стенах окна, громадные. Видишь?
– Да.
– Между окнами расстояние – никакое.
– Вижу. Красиво.
– Дело не в том, красиво или нет. Неумеха он, Ротко ваш. Даже если это просто шутка – все равно, шутка дилетантская.
– Отчего же так?
– Потому что материала в таких стенах недостаточно, чтобы поддержать крышу таких размеров. Упадут стены. Нужно сделать в два раза меньше окон, либо вдвое уменьшить сами окна. Ротко болтает что-то про особый древнеримский цемент, но никакой цемент такое не выдержит, а уж здешний известняк … Про кирпичи и вовсе речи нет…
В занималовку вбежала четырехлетняя княжна – младшая из уже родившихся дочерей, и в данный момент самая любимая, поскольку очень глупая – жалко ее. Верный своему решению давать детям сразу библейские имена, Ярослав, сверившись с супругой, назвал дочь Анной, но местные не приняли старую латинообразную форму и переименовали княжну в Аньку, что весьма понравилось родителям. Как-то увидев любимицу в трехлетнем возрасте, одетую в одни порты, размахивающую украденной у одной из прачек ребристой скуей, князь залюбовался и сказал, —
– Ну, прямо персидский воин какой-то, а не Анька. Анька-перс.
После этого скую отобрал, а то опасно.
Услышали и запомнили, и стала княжна прозываться – Анька-перс.
Теперь, забравшись на полированный стол занималовки, игнорируя Роберто, Анька-перс схватила рисунок с двубашенной церковью и сказала,
– Рофко фифофаф. Рофко фифует кфасиво. А ты, – неожиданно она показала пальцем на Роберто, – фифуеф похо, ибо ты ефть итафийское говно, а жена твоя фпит с офлицей буифановой.
Прошло несколько мгновений, и Ирина испугалась, что сейчас у нее от хохота случится выкидыш.
Почему-то у Аньки-перса и Ротко случилась взаимная дружеская тяга. Княжна таскалась за Ротко по детинцу, и несколько раз, сперва с позволения матери, а потом и без позволения, зодчий брал ее с собой в город. Располневший Ротко нагибался, кряхтя, поднимал княжну, сажал ее себе на плечи, и шел, что-то ей рассказывая. Собственные его дети, два мальчика-подростка и девочка, приятно проводили в Киеве время, предоставленные самим себе. Жена Минерва шастала по знакомым, интересовалась новостями, прогуливалась по городу в окружении модной молодежи, которая (молодежь) почему-то влюбилась вся, без памяти, в маленькую тридцатитрехлетнюю супругу зодчего. Сестра Ярослава Марьюшка, навещавшая в то время брата (якобы), заинтересовалась было Минервой, прикидывая, не подойдет ли она ей, как подруга и компаньонка, и дело кончилось бы плохо – по вечерам верная Эржбета, не любящая конкуренцию, задумчиво поглаживала черенки стрел в колчане – если бы сама Добронега вдруг не решила, что не так умна Минерва, как кажется, и сразу к ней охладела.
Затем Ротко, уставший от дел, решил некоторое время пожить в Венеции, и предложил княжеской чете свозить туда, в Венецию, Аньку-перса. Предложение показалось родителям совершеннейшей дикостью, но Анька-перс принялась вдруг с упорством невиданным ныть и требовать, чтобы ей было позволено посмотреть на «кахалы» в «Фенефии», ныла две недели к ряду и до того довела отца, что он чуть было не позволил двум небольшим городам на юго-востоке от Киева, бывшим владениям родственников Мстислава, самоопределиться народовластно. У четы было к тому времени уже девять детей. Подумав, родители в конце концов согласились. Полгода в Венеции, где ребенка заодно научат чему-нибудь, латыни, например – не так уж страшно.
– И напичкают сказками о преимуществах народовластия, – все-таки добавил неодобрительно Ярослав, сдергивая сапоги, готовясь к омовению. – Ингегерд, все-таки это легкомысленно…
– Я знаю, – отвечала Ингегерд, разоблачаясь – супруги мылись вместе, – но, видишь, какие она истерики закатывает. Не отпустим – на всю жизнь запомнит.
– Дело не в этом, – сказал Ярослав, водя льняным лоскутом, пропитанным галльским бальзамом, по спине жены. – Осторожно, не напрягай живот. Обопрись о мою руку. Так. Большое пузо в этот раз – наверное, мальчик. Так вот, дело в том, что я, по правде сказать, сам бы хотел съездить. С тобой.
– Нельзя, – сказала Ингегерд.
– В том-то и дело. В данный момент просто не на кого оставить все. Вернешься – десять заговоров, посадники переругаются.
– То есть, – сказала Ингегерд, массируя мужу ступни, – ты хочешь, чтобы Анька за нас туда съездила?
– В каком-то смысле.
– Дуре четыре года.
– Скоро пять.
– Ее украдут по дороге.
– Дадим ей хороших провожатых.
– Например?
– Хелье, – сказал Ярослав.
– Что ж, – сказала Ингегерд. – Этому негодяю я верю. Не подведет. Не щиплись. Оставь мой арсель в покое, тебе говорят!
Супруги захихикали.
Наутро вызвали Хелье.
– Ну, чего вам? – грубо спросил сигтунец.
Ему объяснили.
– Ага, значит так, – сказал он. – Со всем моим дражайшим почтением, вы тут оба, по-моему, совершенно охвоились и заволосели. Ездить в Консталь, сопровождать главного киевского сердцееда, дабы подложить под него Зоэ и тем напакостить Михаилу, и таким образом решить все дипломатические неувязки с Византией – это по мне, наверное. Не перебивайте! Таскаться в качестве спьена к Конраду – пусть. Но быть нянькой вашим хорлингам я отказываюсь. Я не нянька, листья шуршащие, а хорлинги у меня свои есть. И это при том, что я детей вообще ненавижу, и поубивал бы всех в хвиту! Поняли, хорла?
Ярослав покивал понимающе.
– Он поругался с женой, – сообщил он Ингегерд, и та кивнула.
– Это не ваше дело, с кем я поругался! – парировал Хелье. – Что-нибудь еще нужно вам от меня, кесари?
– Нет.
– Ну и идите в пень. Ежели действительно понадоблюсь – зовите, всегда рад.
Через неделю ехать все-таки пришлось, а только полномочия посланца отличались от тех, какими его собирались ранее наделить. С западного хувудвага в Киев прилетел гонец и передал таинственную грамоту от Ротко Ярославу. Ярослав прочел и обмер.
Аньку-перса похитили. Ротко, стоя в каком-то захолустном городишке на польском пограничье, рвал на себе остатки сальных волос.
Оказавшийся в Киеве Гостемил, состоятельный землевладелец, не нуждающийся в средствах, согласился составить Хелье компанию.
– Ради Хелье, – сказал он князю. – Не ради рода олегова.
– Понимаю, – кивнул Ярослав. – Род олегов перед тобою в вечном долгу, Гостемил.
– Еще бы, – с достоинством согласился Гостемил.
Поспешили. Прибыв в городок, допросили Ротко и всех жителей, которые попались под руку. По наитию, Хелье, оставив Гостемила ждать известий, отправился к живущему неподалеку землевладельцу – и тот поведал ему, что прибыла к нему непонятным образом грамота на бересте, а что в ней написано – неизвестно. Читать землевладелец не умел.
Хелье, приноровившийся к тому времени сносно читать по-славянски, разобрал грамоту. Писано было, что ежели хочет землевладелец получить дочь свою в целости, то пусть придет на место важное во время тайное и принесет с собою мошну значительную, золотом заправленную.
– Какую дочь? – удивился землевладелец. – У меня четверо сыновей, и ни одной дочери.
Хелье поблагодарил его и снова присоединился к Гостемилу. Показав грамоту местному священнику, они напали на след – священник покопался в архивах и нашел похожие каракули. Жикреня-старший, живет в четвертом доме от опушки.
Гостемил и Хелье пешком направились к опушке, отсчитали четыре дома – обветшалых, кривых.
– Главное – неожиданность, – философски заметил Хелье, указывая на дверь.
Гостемил понял. Дверь была заперта на четыре массивных дубовых засова, но Гостемил просто выдрал ее из общей конструкции вместе с третью стены, и Хелье с обнаженным свердом вошел в помещение.
Похитителей оказалось пятеро, и двух, кинувшихся убивать непрошеного гостя, пришлось уложить, проколов им – одному бедро, другому плечо, и грозно крикнуть, дабы остальные трое не порезали ненароком Аньку.
Оставшиеся стоять тати дрожали всем телом.
– Это вам за труды, – сказал Хелье, кидая кошель с серебром на пол.
– Может, взять их все-таки с собой, к тиуну повести? – предположил Гостемил.
– Морока.
– Все-таки.
– За привезенных князь больше не заплатит, цена одна. Чего людей зря мучить. А так – может они еще кого-нибудь похитят, так опять меня пошлют, а я нынче человек семейный, заработки нужны.
Гостемил пожал плечами.
Плачущую Аньку-перса доставили в поселение, где Хелье, поманив к себе возрадовавшегося Ротко, непрерывно целующего спасенную, сказал ему, что в Киеве ему, Ротко, лучше не показываться в ближайшие десять лет, и в Новгороде тоже. Езжай, Ротко, смотреть на кахалы в Фефеции. Ротко нашел совет весьма резонным.
После отъезда Хелье и Гостемила со спасенной, пристыженный, нервничающий зодчий наорал на прислугу, а затем и на детей. Минерва ждала, пока он выговорится. К ее неудовольствию какой-то крепыш из местных, с простецким лицом, полез к Ротко с расспросами, и Ротко выдал ему, прежде чем Минерва успела крикнуть «Заткнись!», что если бы не Хелье, пропала бы княжья дочка совсем, вот ведь беда какая была бы. Крепыш осведомился с интересом, кто такой Хелье. Минерва, разбирающаяся в людях гораздо лучше мужа, вгляделась в лицо спрашивающего и решила, что простецкое оно лишь на первый взгляд – но было поздно.
– Хелье – приближенный князя! – разглагольствовал Ротко. – Бесстрашный, верный, мужественный, незаменимый! Гроза врагов князя и княгини, сокрушитель Неустрашимых!
Минерва, быстро приблизившись, пнула его своей маленькой тощей ногой, и Ротко наконец-то прикусил язык.
Кивнув ему и улыбнувшись любезно Минерве, простак направился к тому самому домику, в который давеча врывались Хелье и Гостемил. Расспросив горе-похитителей, Рагнар решил их не убивать – они ничего толком не знали. Им сказали, что будет проезжать обоз, а в нем дочь важной персоны. Вот и все.
Через две недели после этого Рагнар встретился с Марией в Гнезно. Он был обязан ей многим – в сущности, своим возвышением, лидирующей ролью в Содружестве. Любовниками они не состояли – умудренная прошлым опытом, Мария не допускала смешения политики и любви.
– Скажи, Мария, – Рагнар улыбался открытой, искренней улыбкой, – какие люди в прошлом противостояли Содружеству? До нынешнего воссоединения?
– Много было, – сказала Мария, глядя Рагнару в глаза. – Очень много.
– Ну, основные фигуры назови.
– Ну, как же. Хайнрих Второй нас не любил.
– Так. А еще?
– Орден всегда против, хотя до прямого вмешательства они не доходят.
– Император и Орден. А из правителей попроще?
– Олов Норвежский. С ним пришлось повозиться.
– А из простых людей?
Мария повела бровью.
– А такое имя – Хелье – тебе ничего не говорит? – спросил Рагнар невинно.
И увидел как она бледнеет.
– Говорит, – сказала она.
Рагнар присел на ховлебенк.
– Твердый человек? – спросил он.
– Твердый? Да.
– Я понятия не имею, кто это такой. Я просто слышал имя.
– Он нам не враг, – сказала Мария.
– Это странно.
– Почему?
– Потому что не вяжется с его кличкой.
– Что за кличка?
– «Сокрушитель Неустрашимых».
– Первый раз слышу.
– Княжна, а нельзя ли этого Хелье … ну, скажем, заставить нам служить?
– Нет.
– Нет?
– Уговорить может и получится, хотя вряд ли, да и не следует. Заставить Хелье сделать что-то – совершенно невозможно.
Рагнар кивнул понимающе.
Аньку-перса доставили в детинец. Она думала, что ее будут «пофоть», но ее только обнимали, целовали, орошали слезами и толкались беременным пузом.
Гостемил отбыл к себе в Муром, не повидавшись с Лучинкой. Лучинки не оказалось дома.
Все это было в начале марта, а в тот год именно в это время выдалась теплая неделя – ранняя весна. Лучинка нашла себе подругу – познакомились на торге, зашли в крог, поели. Подруга оказалась из Вышгорода, замужняя. Поговорили о том, о сем, о трудностях жизни. Лучинка похвасталась, какой у нее замечательный супруг. Подруга слушала, кивала, а потом сказала, что где-то потеряла кошель. Лучинка заверила ее, что это не беда, денег у нее с собой достаточно. Расплатились, наняли возницу и отправились в отстроившийся, похорошевший Вышгород. Зашли к подруге домой – муж ее, рыбак, отсутствовал. Посидели. Лучинка пыталась рассказывать подруге о театре, который она с мужем и сыном посетила в Константинополе («Говорят непонятно, но муж нарочно переиначивал на славянский, для меня, а сын у меня знает по-гречески, интересно было, и так они руками размахивают, совсем не так, как наши скоморохи»), а подруга заскучала вдруг. Лучинка спохватилась – время было позднее, стемнело.
– Мне нужно к сыну, он там у меня один, – сказала она.
Подруга ее не удерживала.
Лучинка вышла из дома подруги и пошла по улице к тому месту, где видела давеча возниц. Погода резко переменилась, дул с Днепра леденящий ветер. Кутаясь, Лучинка добрела до нужного места – возниц там не оказалось. В перспективе проулка, ведущего к реке, качалась мачта кнорра – может, нанять кнорр? Она пошла по проулку, и у следующего угла ее остановили трое с факелом.
– Куда путь держим, болярыня? – спросили насмешливо.
У двоих в руках поблескивали ножи.
Она решила, что сейчас ее будут насиловать, но они не стали. Отобрали суму и кошель, сдернули богатую поневу и серьги, велели ей сесть на землю и снять сапожки. Она послушалась. Разбойники, хмыкая, все забрав, куда-то ушли. Лучинка встала и пошла дальше – к парусу. В лодке сидел хозяин – суровый, с седой бородой.
– Добрый человек, не довезешь ли ты меня до Киева? – спросила Лучинка. – Я заплачу, когда приедем. А то меня здесь ограбили.
– Иди, иди, скога, – сказал добрый человек.
– Нет, правда, у меня дома есть деньги. Много денег.
– Хочешь ехать – покажи деньги. Нет денег – не повезу.
Вот и весь сказ.
Лучинка прикинула – шестнадцать аржей, босиком, на леденящем ветру, да по темной тропе, да через переправу, да опять по темной тропе – а может, там разбойники. Что же делать?
Тогда она вернулась к дому подруги и постучалась. А потом еще постучалась. Подруга открыла дверь.
– Меня ограбили, – сказала ей Лучинка. – Нет ли у тебя денег каких-нибудь, заплатить лодочнику, чтобы до Киева довез?
– Сейчас нет, – сказала подруга. – Через неделю, может, будут. А сейчас – ничего нет.
Лучинка еще помялась, и спросила, —
– Может, пустишь переночевать?
– Нет, не могу. Муж вернулся. Уж извини. Ну, спокойной ночи.
И закрыла дверь.
Нестор там один – это не дело совсем.
Нужно либо идти, либо добыть денег, чтобы заплатить доброму человеку в лодке.
Лучинка огляделась. Неподалеку виднелся какой-то отсвет – поздно открытый крог. Лучинка направилась к крогу. Босая, без поневы, только рубахой прикрыты колени, она не рассчитывала, что ее пустят внутрь, но ей и не нужно было. Встав напротив калитки, она приняла профессиональную позу и стала кивать и улыбаться всем мужчинам, какие время от времени выходили из крога. Один из них, увидев ее, некоторое время постоял у калитки, а затем вернулся в крог – очевидно, сообщить знакомым, что есть дешевая хорла, стоит, ждет на улице.
Рука легла Лучинке на плечо – и Лучинка вздрогнула всем телом.
– И сколько ж ты нынче берешь за услуги? – спросил Хелье.
– Хелье!
Она не знала, что и сказать. Теперь он ее бросит. Выгонит. Что она наделала!
– Ты синяя вся, дура, – сказал Хелье. – Ети твою мать, почему ты босая? Где понева? Пойдем, пойдем, скорее. У меня там лодка.
– Ты меня прости, я не нарочно.
– За что мне тебя прощать?
– Что я вот…
– А что случилось-то?
– Меня ограбили, а я боялась, что Нестор там один, а ты в отъезде.
– Ограбили? Били тебя?
– Нет.
– Руками трогали?
– Почти нет. Ножом грозили.
Хелье на ходу обнял жену за плечи.
– Бедная моя, – сказал он. Нет, так нельзя. Постой.
Он нагнулся и стянул один сапог.
– Надевай.
– Что ты…
– Надевай сейчас же! Муж твой тебе велит!
Она испугалась и сунула ногу в сапог.
– Велико, – сказала она. – Но не очень.
– Ноженька простонародная, – заметил Хелье. – Теперь второй. Быстро.
– Идти неудобно. Но смешно.
– А смешно – так смейся.
Она засмеялась, не веря счастью. Не выгонит! Он ее любит! Какой он у нее хороший!
Хозяин лодки усмехнулся криво и стал возиться с парусом. Хелье расстегнул пряжку, снял сленгкаппу, завернул в нее Лучинку, сел, а Лучинку пристроил к себе на колени и стал тереть ей спину, плечи, предплечья, арсель, бедра.
– Ледышка, – сказал он.
У нее стучали зубы. Он потер ей щеки, потом поцеловал в губы, потом еще.
– Ужас, как замерзла, – заметил он.
– Хелье, любимый, – сказала она. – А как ты меня нн … ннашел?
– Да так … Подожди. Эй, мореход, долго мы будем здесь торчать?
– Сейчас, сейчас, болярин. Вот, парус … вот…
Лодка пошла наконец к Киеву.
– Приезжаю – нет тебя, Нестор насупленный. Говорит – на торг ушла. Я пошел на торг. Порасспрашивал. Зашел в крог – а там хозяйка говорит, что видела тебя и еще кикимору какую-то, а кикимора из Вышгорода. А уж темнеет. Нанял я вот этого морехода, и поехали мы в Вышгород. Походил по улицам, прохожих расспрашивал, потом вижу – крог. Думаю, может, подружки в кроге сидят, а ты, может, выпила, а ты, когда выпьешь – известно что случается. Кинулся я к крогу – а ты там стоишь, у калитки.
– Я больше никогда не буду … честное слово…
– Что? А, ты об этом … Так ведь ты думала, что у тебя выхода нет. Что ж тебе – скочуриться по дороге в Киев, босиком, без поневы? … А у подруги нельзя было денег попросить?
– Она…
– Понял. Ты, Лучик, умная у меня, а в людях не разбираешься совершенно, вот что. Надо бы нам убраться из Киева все-таки. Как ты дрожишь, что ж тебе не согреться-то никак, а, Лучик? Эх-ма…
У пристани торчал одинокий возница, и хотя до дому было всего-ничего, пять кварталов, Хелье усадил Лучинку в повозку, сел рядом, и велел вознице спешить.
Войдя в дом, Хелье крикнул, —
– Нестор! Нестор, растяпа!
Нестор выскочил в гостиную.
– Топи в бане печь, быстро!
– А где ты была? – спросил Нестор укоризненно.
– Потом, а то ухи оборву! Баню, быстро! – прикрикнул на него Хелье.
Нестор опрометью кинулся в недавно собранную баню за домом. Через час Лучинка лежала на полке, а Хелье обхаживал ее веником со всех сторон. После этого, завернутую в три простыни, он на руках принес ее в спальню, выгнал Нестора спать, и лег рядом с женой. Она целовала его благодарно и светилась счастьем, что у нее такой муж.
К утру ее бил озноб, и тело было горячее, на щеках играл нездоровый румянец, а кожа вокруг глаз побелела. Хелье послал Нестора в детинец за княжеским лекарем. Пришел лекарь, принес какие-то травы, долго осматривал Лучинку, и сказал, что такое бывает, случается.
Оставив Нестора присматривать за больной, Хелье побежал – на торг, к знахарям, и они тоже дали ему какие-то травы. Затем он вспомнил старорощинские придумки и сам набрал разных трав. Дома он изготовил по нескольким разным предписаниям травяные отвары. По совету соседа он сбегал снова на торг и купил кувшин свира, и свиром, подогрев его над огнем, растер Лучинку с ног до головы. Ей полегчало. Снова оставив ее на попечение Нестора, Хелье опрометью бросился в церковь. Молился он страстно, кусая губы, сдавливая себе виски, то стоя на коленях, то ложась на живот.
Вернувшись домой, он увидел, что Нестор плачет, и вспомнил, что никогда до этого не видел сына плачущим.
– Что ты, что ты, Нестор, – растерявшись, говорил Хелье, обнимая сына, гладя его по голове, целуя в щеки и в нос. – Не плачь, парень. Мать твоя женщина крепкая.
На следующий день Лучинка совсем ослабла и только шевелила иногда рукой или головой, и пыталась улыбаться. Хелье выскакивал из дома два раза – один раз на торг за едой для Нестора и снадобьями для Лучинки, и один раз в церковь.
Прошел еще день, и еще один. Иногда Лучинке становилось лучше, но к ночи снова начинался жар. Через неделю она начала кашлять – громко, с хрипом, часто. Хелье, придерживая ей затылок, кормил ее куриным отваром, улыбался, подмигивал, выходил из комнаты, бледнел, сжимал зубы. Кашель не прекращался.
– Лучик, что же ты, Лучик, – шептал Хелье ночью, боясь дотронуться до жены – у нее болело все тело, кожу саднило.
Потом она стала кашлять кровью.
Иногда Хелье удавалось с помощью снадобий, отвара и растираний приостановить кашель, и тогда он звал Нестора, и Нестор приходил и говорил глупости, и смотрел сердито, а Лучинка ему улыбалась.
Как-то ночью кашель прекратился. Лучинка лежала, глядя широко открытыми глазами в потолок. На улице была весна, орали соловьи.
– Потушить свечу? – спросил Хелье.
– Не надо, пусть…
– Лучик, тебе лучше?
– Да.
К утру Лучинка умерла.
Нестор еще спал. Тщательно заперев спальню, Хелье твердым шагом вышел из дому и направился к церкви. Утренняя служба еще не началась. Он разыскал священника и объяснил ему в чем дело.
– Нет, – сказал священник, глядя на Хелье суровыми греческими глазами.
– Что – нет?
– Не могу. Отпевать хорлу – не буду.
– Она моя жена.
– Не буду. Как ни грустно.
Илларион жил неподалеку от строящейся Софии. Хелье направился к нему. Ему долго не открывали. Когда открыли, он отодвинул прислужника и вошел в дом.
– Где хозяин? – спросил он грозно, с неожиданно резким шведским акцентом.
– Спит.
– Буди.
– Не велено.
– Убью.
Сказано было таким холодным тоном, что прислужник понял – убьет. И пошел будить хозяина.
Самый скандальный священник Киева вышел, заспанный, в гостиную и, посмотрев на Хелье, понял, что дело не шуточное.
– Что случилось?
Хелье объяснил. Глаза Иллариона засверкали, щеки побелели от злости. Он быстро облачился в рясу, нахлобучил шапку, и сделал Хелье знак следовать за ним.
Служба шла полным ходом – в приходе Хелье начинали раньше, чем в остальных церквах. Не обращая внимания на молящихся, Илларион быстрым шагом пересек помещение и вплотную подошел к священнику.
– Отец Никодемус, нам срочно нужно поговорить.
– Ты в своем уме, сын мой? Служба!
– Если ты сейчас с нами не выйдешь, следующую службу ты будешь служить не здесь. Патриарх будет уведомлен, не сомневайся.
– А что случилось?
– Сейчас объясню.
Они вышли – в закуток, втроем.
– Отец Никодемус, у этого человека умерла жена. Ее нужно отпеть и похоронить.
– Я не могу позволить, чтобы в святой земле хоронили хорлу. И отпевать не буду.
– Меня не интересуют твои предрассудки, Никодемус. И твои представления о приличиях тоже не интересуют. Ты все сделаешь так, как я тебя прошу.
– Мой долг служителя церкви…
– Прежде долга служителя церкви есть долг христианина.
– Не смей мне указывать, мальчишка! Я вот разберусь! Я сам напишу патриарху!
– Хелье, – Илларион обернулся. – Я встану вот тут, чуть сбоку. А ты дай этому человеку в морду.
– В церкви? Священнику?! – закричал Никодемус.
– Грех беру на себя, – сказал Илларион. – И заранее даю тебе отпущение, если придется дать в морду два или три раза.
Хелье покачал головой.
– Хорошо, – сказал Илларион. – Тогда просто подержи его, я сам дам ему в морду.
Он схватил Никодемуса за грудки и сдавил ему грудь и шею.
– А может, я просто буду его душить, вот так, – сказал он. – До тех пор, пока в нем не проснется приличествующее его сану милосердие.