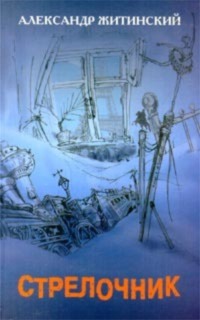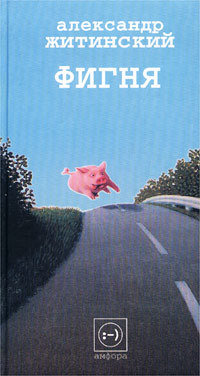Полная версия
Дитя эпохи
Отец уехал в командировку. Мы сидели рядышком и строили планы. Ее родители были на даче. Вечером я позвонил маме и решительно заявил, что домой сегодня не приду. Мама только ахнула в трубку. Конечно, если бы дома был отец, я никогда бы не решился на такой дерзкий шаг.
Я остался у моей милой и любимой, чтобы начать с нею поиски истины, о которых уже говорил. Учитывая нашу теоретическую подготовку, это было смешное и трогательное занятие.
Утром я впервые в жизни проснулся в незнакомой постели. Рядом спала моя жена. Она была очень хороша во сне – волосы разметались по подушке, лицо словно светилось.
Но разглядывать ее не было времени, потому что проснулся я от того, что в замке поворачивался ключ. Я вскочил с кровати и одним движеньем натянул трусы, дико озираясь. Жена мгновенно проснулась и прошептала:
– Это папа! Я думала, он не приедет…
– Думала, думала! – прошипел я. – Лучше скажи – куда мне деваться?
Она вдруг уронила руки и засмеялась совершенно безответственно. Мне же было не до смеха. Ее отец уже шаркал ногами в прихожей. Я вылетел на балкон и прижался лопатками к кирпичной стене.
Сейчас я представляю, каким идиотом я выглядел в тот момент на балконе. Вид снизу: молодой человек в синих сатиновых трусах, прижавшийся спиной к стене, будто балансирующий на карнизе. На лице сумасшедшее выражение. Кстати, оно возникло в первую же секунду, когда в голове промелькнула мысль: «Ботинки!» Конечно, мои ботинки сорок второго размера все еще торчали посреди прихожей. Они наверняка не догадались выпрыгнуть в окно. Равно как и брюки.
– Ну, выходи, выходи! Простудишься, – раздался голос ее отца из комнаты.
Я вышел и вытянулся перед ним, потупившись. Голый человек совершенно беспомощен перед одетым. Жена спряталась с головой под одеялом. У меня мелькнула мысль, что сейчас нам не разрешат жениться – и все! Хотя теперь-то на этом стоило бы настаивать.
Мы выслушали небольшую лекцию о нашем моральном облике. До свадьбы было девятнадцать дней. Жена заплакала под одеялом. Ей было стыдно. Мне разрешили надеть брюки. Ко мне вернулось самосознание.
После свадьбы мы почему-то не поехали на юг, а отправились в деревню. Мы спали на сеновале, а днем бродили по лесу. Вокруг звенел и жужжал июль. Солнце каталось по небу слева направо. Мы падали в траву, как скошенные цветы, и касались друг друга лепестками. Задумчивые божьи коровки взлетали с наших ладоней, как с аэродромов. «Божья коровка, улети на небо, там твои детки, кушают конфетки». На облаке сидел бородатый Бог и укоризненно покачивал головой. Впрочем, он одобрял нас. Браки заключаются на небесах, как я выяснил позже. Вероятно, Богу весело и забавно было смотреть на детей в высокой траве.
Через месяц жена сказала, что у нас будет дочка.
Я не оговорился насчет дочки. Она всегда знала и знает все наперед. Когда я прошу объяснить мне научно источники ее знания – она только беспомощно улыбается. Видимо, у нее завязались дружеские отношения с Господом Богом еще там, в деревне, посредством божьих коровок.
Типичный представитель
Я думаю, что пора заканчивать рассказ о детстве и юности. К двадцати годам человек накапливает почти все, необходимое для выживания. Дальше он начинает понемногу терять. О некоторых потерях я уже говорил.
В сущности, достаточно иметь очень немногое. Одну мать, одного отца, одного брата, одного друга, одну любовь, одну жену, одно дело, одну страну, один язык.
Обо всем этом я и рассказал.
И множество обстоятельств жизни, из которых получаются взгляды и сомнения.
Меня берет сомнение – кому нужна моя биография? Не злоупотребил ли я вниманием? Я не космонавт, не олимпийский чемпион, не народный артист, не академик и не Герой Социалистического Труда. Я вообще не герой. Героического крайне мало во мне.
У каждого хватает своих забот. У многих жизнь складывается так, что им не достает даже того малого, что есть у меня. Так зачем, спрашивается, я лезу со своей биографией, если точно такая же есть у вас, вашей жены и друзей? Не лучше ли было сочинить что-либо необыкновенное и потешить публику исключительным и неповторимым?
Этак каждый начнет писать свои биографии!
Я отвечу – и прекрасно! Пускай каждый напишет о себе правду и даст почитать другому. Мне кажется, что это будет способствовать взаимопониманию. Кроме того, пишущий автобиографию убедится, что ничего исключительного в нем нет, что все мы похожи в главных чертах и каждый является типичным представителем своего поколения и социальной группы.
Как убедился в этом я.
Все мы в школе писали сочинения о типичных представителях. Могло создаться мнение, что типичный представитель – это нечто вроде унифицированного блока телевизора. Он построен из стандартных деталей по стандартной схеме. Между тем, каждый типичный представитель у классиков имел свой дом, свою бабушку и маму, свои приключения и находки. Что же делало его типичным представителем?
Образ мыслей.
Удивительное дело – мысли у всех разные, а образ мыслей один. Я долго сопротивлялся тому, чтобы признать себя типичным представителем. Мне казалось, что во мне есть что-то неординарное, и мысли иной раз приходили в голову дерзкие и решительные. Я смотрел передачи, читал книги про тружеников наших полей и заводов и думал, что мое лицо не такое. Вот они и есть типичные представители, а я нетипичный, особый, ищущий и размышляющий.
Мне казалось, что я все понимаю. А иногда казалось, что я ничего не понимаю. Я не понимал, почему мы сами себя хвалим, почему черное то и дело называют белым и почему мой образ мыслей – как бы это выразиться поточней? – мало соответствует общепринятому образу мыслей советского человека. Последнее меня огорчало. Я уже готов был поверить в то, что мои глаза устроены как-то иначе. Они устроены негативно и видят белое черным, в то время как нормальные люди видят правильно. Белое – белым, а черное – тоже белым.
В таких условиях я не мог себя считать типичным представителем.
Чтобы не выделяться, я начал прикидываться дурачком. Стал валять ваньку, как говорится. Оказалось – это удобно. С дурачка какой спрос? Он даже если что и ляпнет невпопад, и назовет черное черным – так это по дурости. Над ним можно посмеяться.
Мне не нравилась моя двойственность, потому что в душе я считал себя человеком серьезным, даже печальным, и сердце у меня болело по поводу глупостей и лжи.
Я склонен был винить себя. Мне очень хотелось пристроиться и шагать в ногу, с песнями, с большой и широкой гордостью за себя и других людей.
Но присмотревшись повнимательнее, я увидел, что напрасно приписываю себе оригинальность. Оказалось, что большинство людей видят то же, что вижу я. И вовсе не прикидываются при этом дурачками. Они просто делают свое дело, а сердце болит у них не меньше моего.
Написав автобиографию, я окончательно убедился в том, что являюсь типичным представителем. Ничего не было в моей жизни такого, чего бы не было ни у кого. Различия характеров не имеют значения. Все или почти все размышляют о жизни и приходят к невеселым выводам.
Я же пришел все-таки к одному веселому выводу. Нас много, типичных представителей. Мы сумели, оставаясь типичными представителями, не озлобиться, не потерять веры в людей и не позволить себе стать циниками.
И это самая громкая фраза, какую я могу себе позволить.
Часть 2. Глагол «инженер»
Без пяти минут
В один прекрасный день я осознал, что заканчиваю институт.
Это было в начале сентября, когда нас собрали на кафедре, в лаборатории измерительной техники, и объявили, что начинается преддипломная практика.
Все обставили очень торжественно. Принесли откуда-то доску и водрузили ее на звуковой генератор. Профессору сделали возвышение. Преподаватели стояли неровным строем, заложив руки за спину. Они испытующе смотрели на нас. А мы победоносно смотрели на них, потому что знали, что теперь поделать с нами ничего невозможно. Они просто обязаны нас выпустить с дипломами.
Профессор вскарабкался на возвышение и сказал:
– Немного вас осталось, друзья мои…
– Вашими заботами, Юрий Тимофеевич, – пробормотал Сметанин, который сидел рядом со мной. Сметанина пытались выгнать дважды, но он каким-то чудом удержался. Вместе с ним удержались еще семнадцать человек из первоначальных двадцати пяти. Институт у нас, надо сказать, крепкий.
– Но ничего. Мал золотник, да дорог, – продолжал профессор. – Я поздравляю вас с началом шестого, последнего, дипломного курса. Вы уже без пяти минут инженеры…
Я посмотрел на часы. Было десять минут первого. Следовательно, в двенадцать пятнадцать мы должны были превратиться в инженеров. Я стал ждать.
Профессор проговорил еще минут пять, и я почувствовал, что действительно что-то во мне произошло. Мне показалось, что нас собираются вывести за ворота и бросить на произвол судьбы. И книжечка диплома являлась маленьким фиговым листком, чтобы им мы могли прикрыть свою наготу.
Прошу понять меня правильно. Не фиго'вым, а фи'говым. Это дерево такое в Греции.
Мне стало страшно. До сих пор нас вели из класса в класс, с курса на курс, и создалось впечатление, что вся жизнь разграфлена на классы до самой пенсии, и остается только в нужный момент сдать экзамен, посидеть пару ночей – и привет! Ты уже на следующей ступеньке.
Профессор в течение двадцати минут разрушил это представление.
Он сказал, что кончилось наше безмятежное счастье. Теперь оно будет трудным, мятежным и беспокойным. Если вообще будет, в чем профессор был как-то не очень уверен.
Кончилось тем, что он предложил нам выбрать темы дипломных работ, а заодно и руководителей. Каждый доцент, аспирант или ассистент выходил к доске, писал свою фамилию, а рядом тему. Если он находил нужным, он пояснял, что это за тема.
Первым вышел к доске Михаил Михайлович, доцент, который нам читал квантовую электронику. Он, как всегда, был в кожаном пиджаке и с усиками, которые он отпустил летом. Ходили слухи, что он невероятно талантлив, поэтому позволяет себе такие молодежные штучки. Он написал на доске десять слов, из которых понятными мне были только три: «измерение», «параметров» и «концентрация».
– Ну, это просто… – сказал он и написал еще одно название: «Теплообмен в слоистых структурах».
– А вот здесь нужна голова, – сказал он.
Голова в нашей группе была одна. Она принадлежала Славке Крылову, и все об этом прекрасно знали. Поэтому мы повернули головы, которые на самом деле таковыми не являлись, к голове Славки.
– Спасай, – прошептал Сметанин. – Мих-Миху нужна голова.
Славка почесал эту голову и безнадежно махнул рукой. Мы облегченно вздохнули.
Было только маленькое опасение, что кому-нибудь потребуется еще одна голова, которой группа не располагала. Нет, конечно, все чего-то там соображали, но настоящая светлая голова была только у Крылова. И он один это отрицал, проявляя повышенную скромность.
Постепенно доска заполнилась названиями и фамилиями. Началось что-то вроде небольшого торга. Девочки уже менялись темами и руководителями. Охотнее всего они пошли бы к Мих-Миху в силу его элегантности, но Мих-Мих презирал умственные способности женщин, о чем неоднократно заявлял на лекциях.
Я всматривался в лица руководителей, пытаясь найти то единственное, которое не подведет. Все лица были достаточно симпатичны. Все темы были достаточно непонятны. Я решил пустить дело на самотек.
И вдруг профессор Юрий Тимофеевич, который все еще дремал на своем возвышении, проснулся, поискал кого-то глазами и остановил взгляд на мне.
– Верлухин! Подойдите-ка сюда… Я чуть было не забыл.
Я подошел к профессору, испытывая легкое недоумение. Во-первых, было лестно и тревожно, что профессор помнит мою фамилию. Во-вторых, было непонятно, зачем я ему понадобился. Группа замерла в предвкушении.
– Не хотите ли писать дипломную работу по моей теме? – спросил профессор.
Тишина стала жуткой. Что тут ответить? Вообще, имеется ли в подобной ситуации хоть какой-нибудь выбор? Неужели профессор полагал, что я могу отказаться?
– Хочу, – пролепетал я, испытывая тягостное желание припасть к руке профессора.
– Ну вот и прекрасно, – сказал Юрий Тимофеевич, снова погружаясь в дремоту.
– А… Какая… Тема? – выдавил я совершенно бестактно.
– Что? – встрепенулся профессор. Он недовольно посмотрел на меня, поерзал на возвышении и сказал:
– Тема… Ну тема как тема!… Не помню, какая тема! – рассердился он. – Приходите завтра, поговорим.
Я мгновенно растворился в группе, съежился, спрятался и затих. Мысли стучали во мне, как колесики в будильнике. Я не знал, как расценивать только что случившееся со мной. Требовалось мыслить твердо и логично. И я стал мыслить.
Почему именно я? Я не отличник, не именной стипендиат, не обладаю оригинальным умом, и получил у профессора на экзамене устойчивую «четверку», заработанную усидчивостью и терпением. Таким образом, творческие причины отпадали.
Мои родители не работают в торговле и сфере обслуживания. Они не занимаются распределением жилплощади, не оформляют туристические путевки за границу и не устанавливают телефоны. Отец у меня военный, а мать домохозяйка. Следовательно, профессора нельзя было обвинить и в корыстных интересах тоже.
Может быть, у него есть дочь, которой пора замуж? Но тогда я тоже не представляю интереса по причине всего вышеизложенного. Кроме того, я женат. Я женился после второго курса, у меня уже дочка. Правда, профессор может всего этого не знать.
Так что же, он меня за красивые глаза выбрал?
– Как пить дать, оставит в аспирантуре… Как пить дать! – убежденно прошептал Сметанин. – Везет же олухам!
– Сам ты олух! – сказал я.
Раздача слонов и материализация духов на этом закончилась. Все разошлись во главе с профессором, который даже на меня не посмотрел. Группа отчужденно молчала. Я почувствовал, что меня отгородили прочной стенкой. Я был приближен к начальству по непонятным причинам, меня возвысили и навсегда лишили доверия коллектива.
Я побрел домой, чтобы рассказать обо всем жене.
«В пять минут, в пять минут можно сделать очень много…» – пел я про себя старую бодрую песенку из кинофильма «Карнавальная ночь».
Грузинские фамилии
На следующий день я пришел на кафедру и справился, где будет мое рабочее место.
Зоя Давыдовна, секретарь кафедры, повела меня по коридору. Мы прошли мимо всех лабораторий и остановились у двери с номером 347. Дверь была серая, неопрятного вида.
– Юрий Тимофеевич обещал быть к двенадцати, – сказала Зоя Давыдовна и ушла.
Я вошел в комнату. Справа стояли два пустых стола, а слева, перегораживая комнату пополам, громоздилось что-то черное, непонятное, с множеством круглых ручек. Оно было похоже на мебельную стенку производства ГДР, на которую мои родители стояли в очереди. Вся передняя панель стенки была густо усеяна рядами ручек с указателями. Внизу была узкая горизонтальная панель с кучей проводов. Я подошел к стенке и покрутил одну из ручек. Указатель защелкал, перепрыгивая с деления на деление.
– Не трожь! – сказала стенка человеческим голосом.
Я отскочил от стенки к столу и сделал вид, что раскладываю на нем бумаги.
– Выставь потенциометр на прежнее деление, – продолжала стенка ровным голосом.
Теперь я уже знал, что крутил ручку потенциометра. Но какую? Их было штук триста, и я не успел запомнить, какую я трогал. Я снова приблизился к стенке и начал шарить глазами по указателям.
– Ну, чего ты там? – лениво поинтересовалась стенка.
Я схватился за первую попавшуюся ручку и повернул ее против часовой стрелки. Снова раздался треск указателя.
– Ну ты, брат, даешь! – сказал тот же голос, потом за стенкой послышалось шевеление, и из-за нее вышел худой мужчина в черном свитере. Он был мрачен. Подойдя к стенке, он, почти не глядя, нашел сдвинутые мною ручки и восстановил первоначальное положение.
– Чемогуров, – сказал он, протягивая руку. – А это электроинтегратор, – представил он стенку. – Ты его больше не трогай.
– Петя… – сказал я. – Верлухин. Я буду здесь диплом писать.
– У кого? – спросил Чемогуров.
– У Юрия Тимофеевича.
Чемогуров оценивающе посмотрел на меня. Он рассмотрел мое лицо, волосы, пиджак, брюки и ботинки. Мне стало не по себе.
– Годидзе, – сказал он.
– Чего? – не понял я.
– Грузинская фамилия, – мрачно пояснил Чемогуров. – Годидзе.
– При чем тут грузинская фамилия?
– Скоро поймешь, – сказал он и стал разминать своими длинными пальцами папиросу.
Чемогурову было лет под сорок. Он был небрит и нестрижен. Под глазами фиолетовые мешки. Свитер висел на нем, как на распялке. Было видно, что Чемогуров холост, любит выпить и пофилософствовать.
Он дунул в папиросу и закурил. Потом, еще раз взглянув на меня, ушел за электроинтегратор.
Я выбрал себе стол, застелил его листом миллиметровки, который оторвал от рулона, и прикнопил. На стол я выложил из портфеля большую толстую тетрадь, стаканчик для карандашей, стирательную резинку, три разноцветных шариковых ручки, пачку белой бумаги и угольник. Все это я разложил в идеальном порядке. Я люблю аккуратность.
После этого я сел за стол и стал ждать. Была половина двенадцатого.
За интегратором что-то тихонько запищало, потом затюкало и зашипело. Чемогуров пробормотал три слова. Первые два я не расслышал, а последнее было «мать».
Тут распахнулась дверь, и в комнату быстрым шагом вошел Мих-Мих, за которым почти бежал Славка Крылов. Мих-Мих поздоровался со мной, окинул беглым взглядом столы и воскликнул:
– Ага! Так я и предполагал. Стол еще не занят… Располагайтесь! – приказал он Славке.
Славка молча взял с моего стола лист бумаги, подошел к своему столу, написал на листе «Занято» и положил лист на стол.
– Расположился, – сказал он.
– Вот и прекрасно, – сказал Мих-Мих. – Женя, ты не возражаешь? – крикнул он в сторону интегратора.
Чемогуров снова появился, посмотрел на Славку и пожал плечами.
– Что мне, жалко? – сказал он. – А ты, Мишка, большая скотина, – продолжал он, обращаясь к Мих-Миху.
Наш доцент сразу подобрался. Он кинул взгляд на нас, и глаза его стали непроницаемыми. Мы со Славкой сделали вид, что мы глухие от рождения.
– Ты же мне обещал заказать вэтэ семнадцатые. Я без них тут кувыркаюсь, – сказал Чемогуров.
– Ты не горячись, – сказал доцент и, обняв Чемогурова за плечи, увел его за интегратор.
– А я не горячусь, – сказал Чемогуров. – Но ты свинья.
Мих-Мих что-то ему зашептал, сначала сердитым голосом, а потом умоляющим.
– А иди ты! – проворчал Чемогуров.
Мих-Мих показался из-за стенки с наигранно-бодрой улыбкой на лице. Они с Крыловым уселись за его стол и принялись обсуждать тему диплома. При этом они то и дело хватали чистые листы из моей пачки и писали на них какие-то формулы. Мне стало жалко своей бумаги, потому что многие листы они тут же комкали и кидали в корзину. Это было обидно.
Постепенно они увлеклись и стали кричать друг на друга, пользуясь разными терминами.
– Дэ фи по дэ икс равно нулю! – кричал Мих-Мих.
– Пускай! – кричал Крылов. – А частное решение? Поток идет сюда.
– Сомневаюсь. Надо проверить.
– Да это же и так видно! – кричал Крылов.
– Вам видно, а мне не видно… Стоп! – воскликнул Мих-Мих. – Мне пора на лекцию. К следующему разу прочитайте вот это.
И он написал на листке список литературы. Потом доцент поправил галстук и ушел. Славка еще немного побегал по комнате, переваривая мысли, сел к подоконнику и застыл, уставившись на улицу.
– Нужно делать железо, – внятно произнес Чемогуров за стенкой.
Славка встрепенулся, засунул листок с литературой в карман и убежал в библиотеку. На его столе остался ворох исписанной им и доцентом бумаги. Я вздохнул, сложил листки в стопку и придвинул их на край стола.
Потом я на цыпочках подкрался к интегратору и заглянул за него. Там был закуток, заставленный приборами от пола до потолка, опутанный проводами и погруженный в синеватый канифольный дым. Чемогуров настраивал какую-то схему. На экране осциллографа стоял зеленый прямоугольный импульс. Чемогуров недовольно смотрел на импульс и дотрагивался щупом до ножки транзистора, отчего импульс подпрыгивал.
Стена над столом была облеплена цветными проспектами с изображением цифровых вольтметров, счетных машин, лазеров и прочих штук. Проспекты были наклеены любовно, точно зарубежные красавицы.
– Вот зараза! – сказал Чемогуров и погрузил жало паяльника в канифоль. Брызнула струйка дыма, канифоль зашипела, и Чемогуров прикоснулся паяльником к ножке транзистора. Импульс на экране провалился куда-то, потом всплыл в увеличенном виде.
– Ага! – сказал Чемогуров и откинулся на спинку стула. Тут он заметил меня. – А-а… Ты еще здесь? – протянул он. – Тоже теоретик? – спросил Чемогуров сурово.
– Почему тоже? Почему теоретик? – слегка обиделся я.
– Ну, этот парнишка у Майкла будет теорией заниматься. Верно?
Я сообразил, что Майкл – это Михаил Михайлович. На всякий случай я пожал плечами.
– А ты будешь теоретизировать у шефа, – объяснил Чемогуров.
– Я еще темы не знаю, – сказал я.
– Зато я знаю, – отрезал Чемогуров и снова склонился над импульсом.
Я не успел расспросить его про тему, как в коридоре послышались голоса и щелкнул фиксатор двери. Я вышел из закутка и увидел церемонию, происходящую в дверях. В коридоре перед дверью интеллигентно толкались три человека: Юрий Тимофеевич и два неизвестных. Они пропускали друг друга вперед. Это было удивительно красиво. Жесты их были предупредительны и настойчивы. Юрий Тимофеевич загребал незнакомцев обеими руками, а те в свою очередь пытались пропихнуть его в дверь. Жесты сопровождались соответствующими восклицаниями. Я подумал, что если они таким образом входят в каждую дверь, то уже потеряли много сил и времени.
Наконец им удалось войти. Они протиснулись все сразу, облегченно вздохнули и рассмеялись.
– Разрешите вам представить нашего молодого сотрудника, ответственного исполнителя темы Петра Николаевича Верлухина, – сказал профессор, делая в мою сторону жест раскрытой ладонью.
За интегратором у Чемогурова что-то со стуком упало на пол. А у меня внутри что-то оборвалось, когда смысл сказанных профессором слов дошел до моего сознания.
– Харахадзе, – сказал первый незнакомец, протягивая руку.
– Меглишвили, – сказал второй, делая то же самое.
Тут я их разглядел. Несомненно, это были грузины. Тот, что назвал себя Харахадзе, был высок, сед и красив той красотой, которая сводит с ума некоторых женщин. Меглишвили был покороче и потолще. Глаза у него располагались так близко к переносице, что между ними оставалось расстояние миллиметров в пять. Оба грузина смотрели на меня чуть покровительственно.
– Прошу садиться, – сказал Юрий Тимофеевич, указывая той же ладонью на стулья.
Мы сели. Харахадзе закинул ногу на ногу и достал из кармана пачку американских сигарет. Он церемонно протянул пачку профессору, но тот сделал протестующий жест. Харахадзе перевел пачку ближе ко мне. Я вытянул сигарету и поблагодарил легким кивком. Щелкнула импортная зажигалка. Мы закурили.
– Как я вам уже говорил, Петр Николаевич, мы решили сделать вас ответственным исполнителем новой темы, – начал профессор.
Я важно кивнул, сообразив, что мое дело состоит именно в этом.
– Наши тбилисские товарищи предложили нам договор на научно-исследовательскую работу. Научное руководство темой я взял на себя, а вам предстоит провести непосредственно расчеты…
За стенкой опять что-то звякнуло, и послышались сдавленные звуки. Чемогуров веселился от души.
– Зураб Ираклиевич, я прошу вас вкратце рассказать о сути вашей работы… Так сказать, из первых рук, – с улыбкой сказал профессор.
Харахадзе затянулся, поискал, куда стряхнуть пепел, но не нашел. Я подсунул ему листок бумаги из своей пачки. Он задумчиво стряхнул пепел и сказал:
– Ми рэжим металл…
После этого он сделал глубокую паузу, во время которой я успел правильно понять фразу.
– Ми рэжим металл, – повторил он, внезапно возбуждаясь. – Вольфрам, титан, ванадий… Ми рэжим лазером…
По-видимому, ему очень нравилось слово «режем». У него даже глаза засверкали. Из дальнейших объяснений я понял, что они «рэжут» и сваривают тонкие листы вольфрама, титана и прочих металлов для электронных приборов, которые они конструируют и изготовляют на своем опытном производстве. Точность требуется феноменальная, потому что приборы маленькие. Их интересуют тепловые процессы, поскольку при сварке лазерным лучом иногда отваливаются припаянные лепестки, выводы и еще что-то. А иногда даже лопается стекло. Короче говоря, мне нужно произвести теоретический расчет тепловых режимов при сварке, чтобы они могли определить, на каком расстоянии от спаев можно «рэзать».