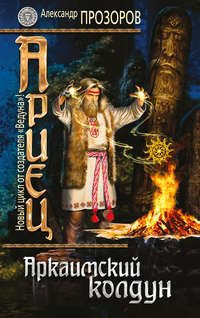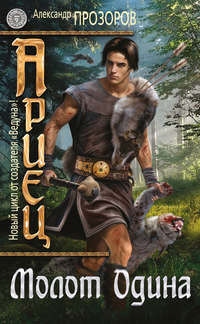Полная версия
Ведьма войны
И началось…
* * *Стадо старого Горбача было большим, многим другим вожакам на зависть. Горбач был мудр, опытен, осторожен, и потому при встречах с другими стадами товлынгов самки гораздо чаще прибивались к его роду, нежели от него уходили к другим. Три десятка жен ходило за ним по бескрайним кустарникам земли! И еще полтора десятка молодых самцов. Совсем молодых, ибо повзрослевших детей Горбач прогонял, дабы на самок не заглядывались.
Многие из изгнанников потом, конечно, пропадали. Горбач даже знал как – ибо в годы своей молодости тоже был изгнан, тоже скитался в одиночестве и не раз видел, как мохнатые твари большой толпой набрасывались на его сородичей, забрасывая камнями, избивая палками, пытаясь поранить, причиняя боль…
Твари вроде как были мелкими и слабыми, самые высокие оказывались вдвое ниже ростом, даже стоя на задних ногах, – однако злоба и настойчивость брали свое. Обезумев от боли, не зная, куда скрыться, молодые товлынги начинали метаться, пытались то убежать, то затоптать врага – пока не лишались глаз под потоком камней, не попадали ногами в ямы или не напарывались на спрятанный на пути кол.
Горбача эти твари тоже пытались убить, но товлынг вовремя смог постичь самое главное из смертей сородичей: нельзя бояться боли; нельзя бежать там, где не видишь дороги; и нужно беречь глаза. Когда мохнатые твари пытались его осаждать, Горбач не убегал, а отворачивался, подставляя под удары толстый зад и неспешно, величаво отступал на открытое место. Если же видел между собой и врагом открытое место – то сразу кидался вперед, сбивал бивнем и затаптывал. Иногда даже делал это первым, не дожидаясь, пока полетят камни.
Когда твари понимали, что сбить добычу на бег, загнать в неудобное место или заманить на спрятанный кол не получается – они обычно отставали, искали кого поглупее, менее опытного. А после того как число затоптанных перевалило за десятки – стали, похоже, узнавать Горбача и сторониться.
Годы текли, товлынг рос и крепчал. Бивни его стали такими могучими и грозными, что любое дерево в зарослях Горбач мог перешибить одним ударом. На спине накопился горб размером с крупного детеныша, шерсть из сочно-рыжей стала темно-красной с крупными седыми прядями, да и сам товлынг превышал ростом мохнатых тварей уже не вдвое, а почти в три раза.
Однажды во время скитаний он встретил стадо своих сородичей. Аромат самок дразнил товлынга и манил, будя незнакомые желания. Горбач, как бывало уже много раз, поддался желанию, пошел на запах. Вожак, как бывало уже много раз, двинулся ему навстречу, чтобы прогнать, – и Горбач отвернул, не доводя до драки. Однако вскоре он обнаружил, что одна из самок повернула за ним следом.
Так началась новая жизнь Горбача. Жизнь вожака. Он умел искать сытные пастбища, он умел чувствовать приближение опасности, он не боялся тварей и умел их убивать. Он знал, как защитить своих самок и детей, – и другие товлынги словно чувствовали это, все чаще и чаще переходя в его семью.
Нет, конечно, и у Горбача случались неудачи, и от его стада мохнатым тварям тоже удавалось отбивать самок или малышей, чтобы потом замучить и сожрать, – однако это случалось намного реже, нежели у других вожаков.
Горбач умел быть осторожным и потому сразу остановился, учуяв запах паленой шерсти и прогорклого жира. Твари знались с огнем и нередко ходили с подпалинами, они жрали мясо, пачкаясь жиром, который протухал прямо на их животах. Это был тот самый запах – запах смерти, и многоопытный товлынг поднял голову, осматривая окрестности. И очень скоро заметил две головы, таящиеся среди кустов. А в стороне увидел еще одну тварь, что кралась совсем близко, всего в паре бросков.
Но как ни велик был соблазн затоптать опасного врага, Горбач не метнулся к нему через заросли – ведь там, на его пути, мог притаиться остро отточенный кол. Наоборот, он отступил, попятился, отходя на прогалину, на открытое место, готовый немедленно вступиться за крайних самок, – твари всегда стремились отбить самых дальних.
И вдруг – самый сильный, невыносимо гнусный запах гнили и жженых волос потянулся слева. И там же мелькнули головы, шкуры – чтобы тут же исчезнуть, затаиться.
Горбач решительно направился туда. Если не спешить, смотреть, куда идешь, напороться на кол невозможно. Даже если не заметишь острия – все едино шкуры оно не порвет, толкнет только, и все.
Однако стоило углубиться в кустарник – навстречу сразу с нескольких сторон полетели камни. И хотя Горбач не боялся боли, да и удары были на удивление слабыми, товлынг сразу вспомнил о главной опасности – нужно беречь глаза. Камни должны лететь в зад, а не в голову. Посему самец попятился, вышел обратно на прогалину, развернулся.
Из зарослей опять пахнуло – с одной стороны, потом с другой. Шкуры тварей проглядывали впереди, сразу в двух местах, их головы мелькали слева, что-то потрескивало вдалеке. Все это было странно, необычно. Раньше твари никогда так себя не вели. Раньше они крались, кидались на кого-то из крайних товлынгов, а если удавалось – то на малыша; закидывали камнями, били, кололи, отгоняли, заставляли бежать прочь от боли и опасности, но главное – от стада. И если Горбач не успевал, если несчастная убегала слишком далеко или сворачивала в заросли – добыча доставалась тварям. Ведь вожак не может оставлять свою семью. Побежишь спасать одного – за это время отобьют двух-трех других.
Однако в этот раз твари вели себя иначе. Неправильно. Непривычно. И их было слишком много. А все странное тревожило осторожного товлынга. Когда вокруг происходит что-то необычное – Горбач не знал, как правильно себя вести. И самое мудрое в таком случае – это просто уйти. Продолжить путь через вкусный, сытный кустарник там, где мир снова станет обычным. Таким, как всегда.
Горбач вскинул хобот и громко затрубил, подзывая к себе семью. А затем повел их по прогалине на север как можно быстрее, следя лишь за тем, чтобы не отставали самые младшие.
* * *Егорка, атаманов сын, беспокойства матери почти не доставлял. Иногда, бывало, крепило, не без этого, иногда плакать во сне начинал. Но Настя быстро нашла палочку-выручалочку. Стоило позвать Митаюки – как та быстро веселила малыша, массировала животик, играла. Либо заваривала для Насти отвары, после которых Егор спал крепко и долго, до утра. Да и мама при этом, понятно, тоже хорошо отдыхала.
– Прямо не знаю, что бы без тебя делала, – признала Настя, когда недавняя полонянка, дикарка из леса, с помощью обычной соломинки избавила ее сына от боли в животике и вернула хорошее настроение. – Не знаю, как и отблагодарить!
– Мы же здесь все одна семья большая, – улыбнулась в ответ юная шаманка. – Помогать должны друг другу, поддерживать всячески.
– Но все же… Может, тебе чего хочется, а я не знаю.
– Да все хорошо, не беспокойся! – Чародейка передала малыша маме. И после короткой заминки поинтересовалась: – Скажи, Настя, а это ты полонянкам об Устинье рассказала?
– Ну вот, и ты туда же! – покачала головой атаманова жена, относя дитятку к колыбели. – Ничего я им не сказывала! Скорее, это они меня донимают. Знать хотят, не делилась ли Устинья удовольствием от сего богомерзкого сожительства? А по мне, так токмо грязь это и мерзость! Я помню, она из-за сего чуть руки на себя не наложила. Вон, токмо-токмо в себя приходить начала.
– А полонянки бают, ты сказывала им, со слов Устиньи, что любовь людоедов сих хоть и страшна, но сильна очень и незабываема. Такую страсть в их объятиях испытываешь, что с мужиком обычным и не повторить. Ну и достоинство у них тоже… Несравнимо…
– Навет сие, Митаюки! – отмахнулась Настя. – Не от меня о сем проведали, иной кто-то сболтнул.
– Значит, все-таки хвасталась? – поймала атаманову жену на слове юная шаманка. – Что наслаждение неописуемое, что на простого воина теперича ни за что не обменяет?
– Нет, не говорила… – Старания Митаюки, напускающей на Настю волны любопытства, сделали свое, и молодая мама слухом наконец-то заинтересовалась: – А что, правда такое… изрядное… отличие?
– Яркое… Сочное… Незабываемое… – старательно вложила в голову атаманской жены чародейка. – Да разве нам понять? То ее спрашивать надобно.
– Яркое… Незабываемое… – невольно повторила Настя. – А чего это Устинью на дворе ныне не видно? Раньше всегда либо на берегу, либо во дворе встречалась, а последние дни чего-то и не упомню.
– Я ее к себе в светелку спрятала, – ответила Митаюки. – Матвей ныне на охоте, вот и приютила. Подруги мы или нет? Дуры эти малые, из полона, совсем расспросами ее замучили. Хотят в подробностях об удовольствиях великих услышать, что женщина токмо от менква познать способна.
Это было правдой только наполовину. Полонянки сир-тя не могли донимать казачку вопросами. Просто потому, что языка в большинстве не знали. А кто и знал – того шаманка решительно отгоняла. Однако и просто косые взгляды, старательно укрываемые усмешки, а порой и откровенные жесты, которые делали девки издалека, когда надеялись, что их не заметят, – все это постоянно донимало Устинью. И на люди она теперь и вправду старалась не показываться.
Митаюки утешала казачку как могла, обнимала, утирала слезы, убаюкивала в объятиях:
– Плюнь, забудь! На меня вон посмотри. Меня тоже поначалу кто только не насиловал… Но Матвей, любовь моя, меня в жены взял, и ныне уважаема я всеми, и не припоминает никто. У тебя же Маюни есть, каковой знает все, однако же все едино любит без памяти. За ним как за каменной стеной будешь. Коли не желаешь дурочек видеть сих, так он тебя заберет, да и увезет туда, где о вас даже духи небесные, и то ничего знать не будут. И пойми ты, подруженька моя. Девки ведь эти не смеются над тобой. Они тебе завидуют! Ибо испытать того же, что тебе довелось, никому более не дано. Вот и бесятся!
А еще шаманка отпаивала Устинью отварами. Зверобой, лимонник, корень жизни. Травки все бодрящие, любые эмоции усиливающие, нервозность повышающие. Где дикарке иноземной понять, что за вкус у отвара в ковше и как он на нее подействует? К травам же эмоции нужные добавляла. Тоски и полной безысходности, отчаяния и стыда. Хотя этого добра у казачки и у самой хватало. Внимательной Митаюки оставалось только эмоции девы ловить, усиливать, как можно, да обратно в сознание направлять. Когда человека обнимаешь, к себе прижимаешь, по голове гладишь – чувствами его играть самое милое дело…
Как ни отсиживалась Устинья в комнате башни – однако же выходить из нее приходилось. Отворачиваясь, пряча лицо, глядя себе под ноги – и все равно слыша, чувствуя усмешки. Еду и питье Митаюки последние два дня носила подруге в ее «келью» – но сходить по нужде вместо Устиньи при всем желании не могла.
Вот и в этот раз Устинья, занятая вычесыванием уже растрепанных крапивных волокон, крепилась, сколько могла. Лишь когда стало уж вовсе невмоготу, отложила работу, повязалась платком, спрятав лицо как можно глубже меж выступающими краями, спустилась вниз. Опустив голову, быстрым шагом скользнула вдоль стены, выбежала из ворот, быстрым шагом устремилась на прикрытый плетнем мысок, присела там.
Место это было проветриваемое, в прилив окатывалось волнами, а потому и запах до крепости не долетал, и убирать ничего не требовалось – море само все убирало.
Почти сразу вслед за Устиньей сюда же пришла атаманова жена Настя, устроилась неподалеку, повернувшись спиной, однако поздоровалась:
– Доброго тебе дня, Устинья! Что-то давно я тебя не видела.
– И тебе здоровья, Настя, – ответила та.
Они замолчали. Все же не лучшее место для дружеской болтовни. И в этой тишине в памяти внезапно встретившей подругу Насти сразу всплыли все те россказни, что последние дни окружали имя Устиньи. Всплыли и прочно засели, разжигая тщательно выпестованное любопытство. Вопрос-то и без того всем всегда интересный… А когда его по пять раз на дню то тут, то там поминают – трудно из головы выгнать.
И, уже вставая, молодая женщина не удержалась, повернула голову к подруге и спросила:
– Устинья… Только между нами, я никому не скажу… Нечто и вправду менквы в любви любого мужика превосходят?
Девушку словно окатило кипятком, тут же бросило в холод и снова в жар.
– Да будь ты проклята!!! – вскочила Устинья и бросилась бежать.
Молодую женщину кольнула совесть. Настя поняла, что своим безобидным вопросом задела подругу. Однако нагнать ее по понятным причинам атаманова жена не могла и пошла извиняться только через пару минут. Заглянула в башню, громко позвала:
– Устинья, ты здесь?!
– Нет ее, отлучилась, – выглянула вниз Митаюки.
– А чего, не вернулась? Вроде как раньше меня ушла.
– Откуда? – Чародейка отложила ленты вычесанного волокна, стала спускаться вниз.
– Там, на мысу встретились, – махнула рукой Настя. – Одни были. Ну, я любопытства и не сдержала. Не услышал бы ведь никто! Чего ей, трудно сказать было? Ну, сказала бы «нет!», коли слухи пустые. Или «мерзость». Я ведь подробностей не испрашивала!
– Я поищу, Настенька, не беспокойся. – Митаюки мимоходом обняла атаманову жену, вместо дружеского поцелуя коснувшись щеки щекой, торопливо пошла к воротам, а снаружи сорвалась на бег, устремившись к отмели с маленькими, отбитыми у колдунов лодками, которыми казаки почти не пользовались. Снасти проверить рыболовные, что на реке и нескольких отмелях стояли, ватажникам и одной хватало. А челнов, лодок и однодревок казаки у сир-тя уже с десяток навоевать успели.
Молодая шаманка прошла вдоль ряда посудин и быстро нашла просвет между двумя берестяными челноками. От лежащей здесь недавно лодки еще оставался след – широкая вмятина, смазанная в сторону воды. Туда, куда ее сталкивали.
– Вот дура! – раздраженно сплюнула ведьма. – С Маюни нужно было уплывать, с Маюни!!! Уговорить шаманенка бросить острог, забрать долю его и в Пустозерье переселиться! Одна-то зачем?! Теперь пропадешь. Ни тебе удовольствия, ни мне пользы… – Юная чародейка вздохнула и повернула к острогу, разочарованно махнув рукой: – Обидно-то как… Шесть дней стараний прахом пошло…
* * *Товлынгов казаки гнали очень осторожно, стараясь слишком уж не пугать, дабы не разбежались или не умчались неведомо куда. Приносили подстилки и туники, разворачивали. Когда стадо приходило в движение – затаивались на несколько часов, чтобы потом дать себя заметить снова. И при том – держались всегда с восточной стороны. Высокий, как скала, и седовласый, подобно ледяному торосу, вожак трижды отводил свое стадо от опасности, а когда неприятные запахи перестали-таки его беспокоить – повернул на запад, прокладывая новую просеку точно в направлении далекого пока еще острога.
Казаки на время затаились, дабы не спугнуть, после чего Маюни и семеро казаков остались присматривать за зверьми, а остальные, во главе с Силантием и Матвеем, собрали снаряжение, обогнули мохнатых слонов через заросли далеко стороной и вышли к месту самой первой стоянки, в полупереходе от берега. Зарядили пищали, кулеврины – и стали ждать.
Оголодавшие за время бегства товлынги на новом месте стали отъедаться куда жаднее, чем ранее, проходя за день не версту, а целых две, а то и более. За четыре дня они дошли почти до самой засады, и тут вожак то ли ощутил неладное, то ли ему не понравился запах близкого моря – но стадо стало все сильнее и сильнее забирать влево, к югу.
Пришлось охотникам бросать все и с двумя только кулевринами пробираться наперерез. Пушки весили по пять пудов каждая, быстро не побегаешь. Да еще через густые кустарники.
– Ладно, стой! – задыхаясь, дал отмашку Матвей Серьга, когда до стада оставалось всего с полверсты. – Мы так, бегая, токмо ноги переломаем. Отсель будем стрелять. Снимай стволы, складывай слеги!
– А не далеко? – с недоверием спросил Силантий.
– В муху не попаду. Да токмо товлынги сии не мухи. Одна башка с лошадиную задницу.
Казаки споро разобрали волокуши. Две жердины положили поперек, чтобы поднять кулеврину на нужную для выстрела высоту. Две сверху – вдоль, чтобы упирались в землю. А то ведь у кулеврины отдача такая, что и четверых с ног собьет. Силантий запалил фитиль, Матвей зацепил ствол опорным гаком[1] за торцы слег:
– Поднимай!
Казаки, взявшись за концы поперечных жердин, вскинули оружие на высоту человеческого роста. Отсюда, среди качающихся макушек густого ивняка, уже хорошо различались пасущиеся вдалеке огромные животные. Серьга встал за стволом. Прищурившись, нацелился по кулеврине в лоб жующего ветви товлынга, а затем, прикинув расстояние, точно так же, на глазок, из опыта, опустил казенник, придавая нужное возвышение.
– Поджигай!
Силантий тут же ткнул фитилем в запальное отверстие. Оглушительно жахнул выстрел, над кустарниками растеклось белое облако. Отдача зарыла торцы жердин на половину локтя в мшистый галечный грунт, заставила казаков покачнуться – но, в общем, самодельный лафет испытание сдюжил.
– Силантий! Помогай… – Горячий дымящийся ствол Матвей скинул на землю сам, вдвоем с сотоварищем они подняли на его место второй, заряженный, и Серьга опять припал к прицелу, вылавливая кончиком кулеврины голову другого товлынга. Облизнул от старательности губы, кивнул: – Пали!
Новый выстрел снова плюнул дымом, у казаков заложило уши – а Матвей уже стоял на коленях перед первой пушкой, торопливо пробанивая ствол от тлеющих остатков заряда, засыпал туда новую порцию огненного зелья, пробил пыжом до упора, закатил ядро, закрепил вторым пыжом, добавил порох в запальное отверстие.
– Силантий, помогай!
Вдвоем они закинули пушку на слеги, Матвей рванул ее к себе, надежно цепляя гаком за край, навел в цель…
– Поджигай!
Третий выстрел… Четвертый… Пятый… Облако над кустарником становилось все гуще и гуще. И хотя теперь, из-за перезарядки, между выстрелами проходило довольно много времени, развеять дым полностью ветер не успевал. Однако многоопытный Серьга каким-то шестым чувством все же угадывал цель и наводил на нее свое тяжеленное оружие:
– Есть, пали!
Силантий подскочил, ткнул фитилем в запальник – и оглушительный выстрел слился с не менее громким треском. Обе слеги, принимающие отдачу, переломились: одна пополам, а вторая и вовсе расщепилась вдоль, превратившись в верхней части в настоящие лохмотья.
– Кажется, отстрелялись, – сделал вывод десятник. – Что же, на все божья воля. Пошли посмотрим, какую меру добычи всевышний нам ныне определил?
* * *Услышав гром, Горбач ничуть не испугался. Гроз в своей жизни он повидал несчитано, и еще ни разу ничего опасного при сем не случалось. Странным было лишь то, что небо загрохотало при ясной погоде. Обычно гром сопровождался дождем, причем проливным. Посему могучий вожак поднял голову и тут же услышал упругий до болезненности звук снова. А еще он заметил появившееся среди кустов белое облако… Но было оно настолько далеко, что беспокоиться не стоило. Что бы это ни было – его семье оно навредить не способно.
Тут Горбача отвлекло куда более важное событие: Рыжана, самая первая его подруга, вдруг упала и перестала шевелиться. А потом рядом с нею рухнула возмужавшая Травница. Вожак приблизился и с удивлением увидел у обеих на голове кровавые пятна. Это было странно, ибо товлынги иногда слабели и умирали – увы, с этим приходилось мириться. Но они никогда не истекали кровью. Кровью истекают от ран!
Внезапно жалобно заскулила Зеленуха, качнулась, сделала несколько шагов в сторону и свалилась в кустарник. И тоже – на ее голове появилось кровавое пятно. Это было странно, непонятно. Такого мудрый Горбач еще никогда не видел.
Послышался грохот – и с ног повалилась еще одна из его подруг.
У Горбача зародилось подозрение, что грохот и смерть как-то связаны, но… Но размышлять над этим было некогда. Если где-то случается что-то опасное – это место нужно скорее покидать, а не тратить время на долгие думы. Вожак тревожно затрубил и повернул по просеке прочь. Над кустарником прокатился новый оглушительный гром – и еще одна самка, резко остановившись, закачалась, припала на передние ноги, потом на задние, свалилась на бок.
Горбач перешел на мерный бег. Прочь, прочь из этого места! Виноват во всем, похоже, гром… Но все равно – прочь! Ибо нигде более ничего похожего не происходит.
* * *Продравшись через кустарник к проеденной волосатыми слонами просеке, казаки покачали головой от восхищения:
– Ну, ты даешь, Матвей! Глаз-алмаз. Шесть выстрелов, шесть туш! Да еще через дым!
– Ух ты! А самый большой, однако, ушел, – не удержался от попрека Ухтымка.
– Старый он, – скривился Серьга. – Мясо жесткое.
Оправдывался он так или вправду специально по вожаку стрелять не стал, никто не понял. Во всяком случае, на лице казака не дрогнул ни один мускул.
– Так, хватит стоять! – спохватился Силантий. – Не для того мясо добывали, чтобы оно тут затухло. Давайте быстро свежевать, резать и к стругам таскать. На шесть туш нашего запаса соли не хватит, так что еще сегодня до ночи все на леднике быть должно! Шевелись, шевелись, служивые! Не простаиваем!
* * *Пушечный выстрел расслышали даже в остроге. Скучающий в дозоре на прибрежной башне Василий Бескарманный сразу повернул голову на звук, подобрался, подтянул прислоненную к зубцу рогатину. А когда хлопнул второй выстрел, смог различить даже далекий дымок. Перебежав башню, он заложил пальцы в рот и залихватски свистнул, крикнул во двор:
– Эй, бабоньки, атамана кличьте! Неладное что-то на берегу.
Впрочем, разбойничий посвист был слышен во всех уголках острова, и воевода Иван Егоров в сопровождении неизменного немца сам поднялся из подклети, увидел призывный взмах караульного, быстро взметнулся наверх, отрывисто потребовал:
– Сказывай!
– Вон, пелена у горизонта над кустами, видите?
– Вроде как туман какой-то стелется… – пожал плечами Ганс Штраубе.
И тут, как по заказу, над кустарником появился очередной плотный белесый клуб, а спустя некоторое время докатился и гром пушечного выстрела.
– Святая Бригитта, неужели еще ватага какая сюда забрела? – перекрестился рукоятью стилета немец.
– Или охотники наши зверя бьют, – куда более спокойно поправил его атаман.
– Из пушек? На каждой перезарядке? – С берега докатился еще один выстрел, и Штраубе вскинул палец: – О, слыхал? Как от татарской кавалерии отбиваются!
– Проверить в любом случае не помешает, – кивнул Егоров. – Собирай всех свободных казаков и туда отправляйся.
– Слушаю, атаман! – Немец с грохотом скатился вниз по ступеням.
– Ганс!!! – спохватившись, крикнул ему вслед воевода, но сотник его уже не услышал. Атаман подумал и махнул рукой: – Ладно, сам припасы наверх подниму. Там лишние клинки будут нужнее.
Вскоре два струга, полные вооруженных людей, отвалили от острова. А атаман, готовясь к возможной обороне, прошелся по башням и поднял наверх, к караульным, бочонки с зельем и жребием к кулевринам и по паре пищалей. Караульных на это отвлекать не полагалось. Караульный за подступами к стенам наблюдать обязан, а не оружие тягать.
Теперь, когда в остроге имелись в достатке и порох, и пули, за укрепление воевода особо не волновался. Тем крепости и хороши, что их даже несколько человек способны супротив тысяч оборонить. Куда больше Ивана Егорова беспокоило возможное появление других охотников за колдовским золотом. Ни ему самому, ни его ватажникам делиться добычей очень не хотелось.
В неизвестности, с готовыми к бою пищалями и кулевринами острог провел несколько тревожных часов – а потом к берегу стали подваливать тяжело груженные струги, кровавые от свежего парного мяса.
– Открывай подклети, хозяева! – закричали усталые, но веселые казаки, спрыгивая на пляж и выволакивая свои корабли. – Корзины для добра тащи да бочонки с солью выкатывай!
На острове закипела работа, в которую пришлось включиться всем, и мужчинам и женщинам. Разобрав все корзины, мешки и ведра, что были в крепости, люди нагружали их крупными кусками присыпанного солью мяса, тащили их в ворота и вниз, выгружали там на оплывшие за лето куски льда, после чего тут же спешили обратно, чтобы снова нагрузиться и пуститься в обратный путь. Работа была нудной и тяжелой, но никто не роптал. Все знали, что этим мясом они будут питаться все долгие холодные месяцы и чем больше запасут – тем сытнее доведется зимовать.
В первый струг загрузили все бочонки с солью, что имелись в запасе – и он отплыл обратно в залив, второй отправился следом уже налегке. Тем временем к берегу приткнулся третий – и к нему тоже выстроилась череда баб с лукошками и ведрами. Мужики-то в большинстве на берег ушли, там разделкой и погрузкой занимались.
Потом был четвертый струг, и пятый, и шестой. Ночь выдалась ясной, лунной, и потому работа продолжалась и на острове, и на берегу. Только на рассвете, уже после третьей ходки, струги наконец вернулись домой, торжественно выгрузив один за другим двенадцать свежих бивней, а сверх того – шесть огромных мохнатых шкур, каждой из которых можно было накрыть любой струг целиком, да еще и края до воды свешиваться будут.