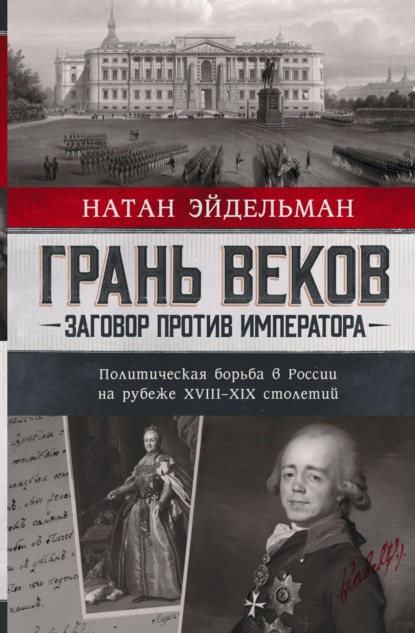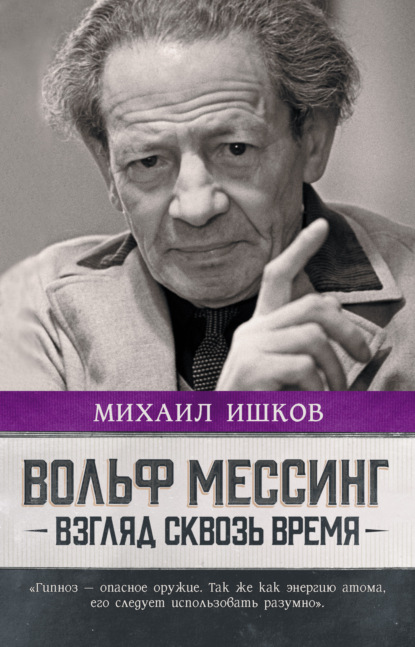Полная версия
Клятва. История сестер, выживших в Освенциме
Я осознала, насколько это сложно – воспроизводить на письме устную речь рассказчика. Как заставить читателя услышать ее голос, словно говорит она сама? Простой расшифровкой тут не обойдешься – нужно найти способ передать дух Рены в том виде, в каком он предстал передо мной через ритмику ее речи и жестов, неуловимые нотки в голосе.
Самые важные и самые мучительные воспоминания зачастую и самые краткие: не проходит и полминуты, как повествование заканчивается и начинаются слезы. Подобно полному энтузиазма археологу, я бережно копалась в этих воспоминаниях. Мои раскопки порой заставляли меня обращаться к нацистским записям, где я нашла точные даты многих из пережитых Реной событий. Я провела несколько недель, роясь в архивах университета Уэйк-Форест и изучая «Хронику Аушвица» Дануты Чех в поисках голых фактов и подтверждающих историю Рены официальных данных. А когда находила… Эти моменты леденили душу. Меня обволакивала тишина. Я сидела в библиотечной кабинке, уставившись в нацистские документы, и чувствовала, словно мир вокруг замер. Вновь и вновь я была вынуждена отметать все сомнения и смотреть в лицо тому факту, что моей Рене – этой живой, энергичной женщине, которая поименно знает всех покупателей в местном магазине и здоровается на улице с незнакомыми людьми, – судя по точности пересказываемых ею деталей, пришлось 3 года и 41 день наблюдать систематическое истребление женщин и детей. Как ей удалось пройти через все это и сберечь душу?
Найденные детали помогли мне составить хронологию ее заключения. У Рены не было календаря, а бывшие узники в своих рассказах обычно описывают лишь последние пару месяцев пребывания в лагере – от силы год. Мне не встретилось больше историй, подобных истории Рены. Поэтому найти способ вставить ее воспоминания в исторический контекст было чрезвычайно важно – не только ради документальных подтверждений ее рассказа, но и чтобы восстановить хронологию событий, тот календарь, которого сама Рена была лишена.
Но в архивных записях найдешь не все. Туда не занесены примеры гуманизма, который проявляли как евреи, так и неевреи, как немцы, так и поляки, и который Рена не просто наблюдала со стороны, но и испытала на себе. Ее рассказ замышлялся как автобиография в дар своим детям, но он перерос в завет человечеству, в свидетельство о мужестве тех, кто помог ей выжить. Она хотела бы поблагодарить каждого из этих людей поименно и без исключения.
* * *В ту нашу первую встречу январским солнечным днем мы расположились на диване у камина, и я потихоньку нажала на кнопку диктофона.
– У меня есть масса книг о Холокосте, – вскочила Рена. – Хочешь посмотреть?
Она нервничала.
– Давай сначала поговорим. – Чтобы успокоить ее, я произносила слова низким ровным голосом, каким говорила бы с ребенком, проснувшимся среди ночи от кошмарного сна. Она настороженно глянула на меня, расправила невидимую складку на брюках, поправила салфетку на кофейном столике. Потом еще раз ее поправила. Я чувствовала себя дантистом, которому предстоит удалять зуб без наркоза.
Она широко распахнула глаза и спросила:
– С чего мне лучше начать?
Тылич
Папа считал, что дело женщины – рожать детей, вести кошерную кухню и уметь молиться, но мама настаивала, что мы должны учить иврит. «Не хочу, чтобы мои девочки на свадьбе выглядели так же глупо, как я, не сумевшая в храме прочесть молитву из книги».
Она подняла такой гвалт, что старейшины в синагоге – лишь бы она успокоилась – решили сделать исключение и позволили мне после уроков в обычной школе ходить в хедер, еврейскую школу для мальчиков. Мать платила учителю меламеду – яйцами, маслом и молоком, чтобы я могла сидеть в сторонке от мальчиков и заниматься ивритом, а потом, придя домой, пересказывать урок Данке.
* * *– Ой вэй! Что же я делаю? – восклицает вдруг Рена, рывком возвращая нас обеих в настоящее. – Я начала с середины, а начало пропустила! – Она качает головой. – Я решила, что ты и так все знаешь.
– Все в порядке. – Я с улыбкой похлопываю ее по коленке. Комната купается в розовом свете, делая теплоту между нами осязаемой, и Рена вновь принимается рассказывать – на этот раз медленно – свою историю, возвращаясь к самому рождению…
* * *Я родилась в 1920 году, когда маме было под сорок, а отцу – под пятьдесят. В нашей семье было двое старших детей и двое появившихся значительно позже. Самая первая дочь – Гертруда – на 16 лет старше меня. Потом родилась Зося, она на два года младше Гертруды. Последней увидела свет Данка – мне в ту пору было всего два годика.
Папа держал себя с нами очень строго, но боже мой, как же он любил нашу малышку! Он баюкал ее на руках, качал взад-вперед, напевая молитвы. У него был чудеснейший голос, и его молитвы наполняли наш дом благодатью.
Мы с мамой заглянули в Данкину колыбель – такая маленькая, такая хрупкая, в жизни ничего подобного не видела. Я просто влюбилась в ее ножки, в ее крохотные ручки. Ей и пары месяцев не исполнилось, как у нее случился круп[8]. Ужас! Она кашляла днями и ночами напролет, а потом кашель вдруг стих. Наступила жуткая тишина. Мать разрыдалась. Никогда не видела ее настолько убитой горем.
Она накрыла Данке головку белой простыней и одеяльцем. В доме повисло скорбное молчание. Мы потеряли нашу малютку. Я хотела осушить мамины слезы и молилась Богу в небесах, чтобы он вернул ее девочку.
А потом из-под одеяла раздался вой. Сначала всех охватил ужас – к нам в дом пришло привидение, гайст, призрак, нечто неведомое. Но вой не прекращался. Мама ринулась к Данке, отбросила одеяло, и вот вам пожалуйста – краснощекая малышка дышит и сердится, что ее укрыли с головой.
Наша малютка жива!
Папа, ясное дело, схватил ее и стал молиться. Она была благословением, ответом Бога. И с того самого дня я стала считаться «большой» – хотя всего на два года старше, – а Данка «маленькой». Она всегда была более хрупкой, и мама хлопотала над ней, потому что Данка вернулась с порога, ведущего в иной мир.
– Присмотри за маленькой, – говорила мама. – Береги ребенка.
А я и без того очень любила этим заниматься.
Мне было пять лет, когда Анджей Гарбера наехал тележкой на куличики, которые вылепили мы с Данкой. Разумеется, все наши тяжкие труды пошли насмарку, а Анджею – ведь он мальчишка – было наплевать, и он, вместо того чтобы нас пожалеть, стал смеяться над нашей бедой. У мальчишки же нет других забот, кроме как мучить девчонок. Когда мы шли в школу, он кидался в нас снежками, но я защищала сестру и отстреливалась. Я бросала снежки очень метко. «Только попробуй обидеть мою сестру, Анджей!» – грозилась я. Но в один прекрасный день он вдруг перестал кидаться снежками и вообще перестал нас задирать, а вместо этого вдруг сказал «привет».
Я ответила на приветствие, и это стало началом нашей с Анджеем истории…
Мы, конечно, были ортодоксы, и родители не позволяли нам водиться с мальчишками, но Франя – а она из гоев, как и Анджей, – была одной из моих лучших подруг. Она часто приходила ко мне поиграть, и ее родители разрешали ей отмечать вместе с нами праздник урожая суккот. Мы строили во дворе шалаш, украшали его корзиночками с каштанами или яблоками, разноцветными бумажными кольцами, а к веткам крыши подвешивали орехи. На Рождество мама отпускала нас к Фране помочь им наряжать елку. Как видишь, в Тыличе никто никого не презирал. Мы все ладили друг с другом. Это не составляло труда. У нас было больше общего, чем различий. Мы все поляки, все живем в одном и том же местечке, все ходим на один и тот же рынок. Никаких предрассудков. Мы жили в экуменическом обществе – не раздираемом противоречиями, а находящем общий язык между всеми.
Единственное, что действительно нас выделяло на фоне гоев нашей деревни, – это прически. У папы были шикарные пейсы и длинная борода, а мама носила парик. Это традиция у ортодоксов. Когда Зося выходила замуж, она умоляла папу позволить ей оставить хотя бы чуть-чуть волос. Она рыдала, когда ее брили, и спрашивала, зачем замужним женщинам нужна бритая голова. «Это их обет не быть привлекательными для других мужчин, – ответила мать, – так они подтверждают верность мужу».
Раз в несколько недель мама снимала парик, и я брила ей над тазом голову, как было у нас заведено. Папиной машинкой для стрижки я аккуратно проходилась по ее черепу, стараясь не задеть острыми зубчиками нежную кожу. Мама закрывала глаза, словно погружаясь в медитацию, а я, пользуясь случаем, изучала безмятежное выражение ее лица. Затем я обтирала ей голову. Голова была чистой, кожа – мягкой, как у младенца, и блестела.
Она оставалась сидеть с закрытыми глазами еще пару секунд, а потом звала папу, чтобы я побрила голову и ему. Когда они менялись местами, их взгляды на мгновение встречались, и они обменивались нежными улыбками.
Я мечтала о том дне, когда дам торжественный обет мужу – побрею голову. Это был обряд инициации, которого мы все боялись, но к которому стремились. Я, как и Зося, волновалась, что стану уродливой. Лишиться волос – вещь не очень приятная, но выйти замуж – этого мы все страстно желали, хотели жить в браке, как мама и папа.
Когда отец проходил мимо мамы, он всякий раз касался ее. Его рука опускалась между ее лопаток и скользила вниз до середины спины, а иногда – когда он думал, что мы не видим, – он отвешивал ей сзади легкий шлепок.

Данка, Дина Дрангер и Рена в Крынице с медведем
Рынок – центр нашего мира. Дальше, вниз по уклону, располагалось все наше село. На главной улице стояли кошерная мясная лавка и обычная мясная лавка, а также сырная лавка и ратуша. И возле этого центра жили Гарберы, прямо дверь в дверь с Эрной и Фелой Дрангер. Эрна и Фела были наши с Данкой лучшие подруги-еврейки, а Франя – моя лучшая подруга из гоев. Мы часто проводили вечера у сестер Дрангер вместе с их кузиной Диной – с ней очень дружила Данка. Мы играли в домино или просто сидели в гостиной и говорили обо всем на свете, делились своими мечтами. Но одну свою мечту я держала в тайне ото всех.
Как-то раз холодным зимним вечером мы с Данкой вышли, чтобы идти домой, и сразу наткнулись на Анджея.
– Я ждал вас, чтобы проводить. На склоне очень скользко… упадете еще, ушибетесь…
Я нашла это странным, но, с другой стороны, Анджей – славный парень, а на улице в самом деле скользко, – в общем, мы согласились. И с того вечера это стало обычаем: Анджей ждал нас у дома сестер Дрангер и провожал – даже когда потеплело. В один из весенних вечеров мы неторопливо шли вместе домой, и он вдруг без всякой причины взял меня за руку и замедлил шаг. Данка шла далеко впереди.
– На дороге сейчас не скользко, – сказала я.
– Да, не скользко, – ответил он, но руку не отпустил.
Мы услышали звук капель, падающих в каменный колодец, и подошли к обочине. Он снова сбавил шаг, словно что-то разглядывая, а потом произнес тихим шепотом:
– Рена?
– Что? – Я подняла на него взгляд, и тут – прямо у деревенского колодца – он сорвал поцелуй с моих губ. О продолжении прогулки не могло быть и речи, и я опрометью бросилась домой.
Мама с зажженным фонарем, дрожащим в ее руках, ждала меня на крыльце.
– Рена? – Я до сих пор слышу этот голос. – Рена!
– Иду, мама! – откликаюсь я.
– Где ты была? Уже поздно. Иди в дом.
– Я учила уроки у Эрны с Фелой, – отвечаю я, вытирая ноги.
– Учила уроки, да? – Она убирает волосы с моего лица и смотрит мне в глаза. Интересно, поняла ли она, что я что-то утаиваю? – Иди ложись спать.
– Да, мама. – Я чмокаю ее в щеку. От нее пахнет халой и ванилью.
Любуясь на себя перед зеркалом, я провожу расческой по волосам раз, наверное, сто, воображая, как Анджей наклоняется ко мне для поцелуя. Я вновь и вновь вспоминаю, как его губы коснулись моих. Сердце готово выскочить из груди.
– Меня поцеловали, – делюсь я сокровеннейшей тайной со своим отражением.
Мы вспыхиваем – мое отражение и я.
Натянув ночную рубашку, я забираюсь под прохладные, чистые хлопковые простыни и жду, когда мама придет подоткнуть одеяло.
– Рена, ты вся горишь. Что стряслось?
– Ничего, мама. Просто очень хороший вечер, – улыбаюсь я в темноте.
– Спокойной ночи, – целует она меня.
Мне немного грустно, что мою тайну нельзя рассказать никому. Я хожу в общую школу вместе с гоями, нас учат преподаватели-католики, хоть сами мы и ортодоксальные евреи. Мы с Анджеем играли с самого детства, но он все равно не еврей. Ничего из его поцелуя не выйдет, и я это знаю.
* * *– Я это знала. – Рена умолкает. Глаза стали влажными, в уголках губ играет робкая улыбка, словно она по-прежнему та девочка, которая в спальне у зеркала вспоминает свой первый поцелуй.
Пару недель спустя во время ее рассказа на стенке бьют дедовские часы, и она вдруг резко вздрагивает. Она смотрит на меня блуждающим взглядом и шепчет: «В Аушвице не было часов».
Так она и ведет свой рассказ. Прошлое переплетается в нем с настоящим, и нити сплетены так туго, что порой трудно различить «тогда» и «сейчас». Ее взгляд устремляется вдаль, и она забывает, что я сижу рядом. По мере того как меняется ее голос, глаголы переходят из прошедшего времени в настоящее и наоборот, балансируя между миром слова «был» и миром слова «есть», словно там нет никакой ощутимой границы. А может, ее и в самом деле нет.
Порой ее возвращает в нашу комнату лишь мое присутствие, бусы ее воспоминаний тонки и хрупки, словно их выпускает в воздух невидимый стеклодув.
В тот первый день Рена ведет свой рассказ шесть часов кряду. Когда солнце уже садится за горы, Джон сверху кричит: «Эй, дамы, хотите чаю?» Я без сил, мне просто необходим перерыв. Но Рена полна энергии и готова, кажется, говорить хоть всю ночь. Воодушевленная нашим первым сеансом, она весело болтает, пока Джон подает нам чай. На ужин мы едим pierogi и kielbasa – это станет нашей традицией. После десерта Рена достает, наконец, все, что она хотела мне показать: коллекцию своих блокнотов, исписанных по-польски, исторические книги о Холокосте, польскую брошюру о Марше Смерти из музея Аушвица. Рена с мужем рассказывают истории из их совместной жизни, пока Джон не замечает, что я зеваю.
«Мамочка, нашей очаровательной леди нужен отдых!» Рена вскакивает на ноги с извинениями. Диван, на котором мы просидели весь день, раскладывается, превращаясь в кровать. И они укладывают меня, почти как родители. Тихо горит огонь. У меня устали глаза, но мысли продолжают свой бег. Перед глазами стоят жуткие снимки из «Аушвицкого альбома»[9] Петера Хеллмана. Всякий раз, разглядывая эту фотохронику, я слышу голос Рены. «Это все происходит сейчас, – убеждает меня мой внутренний голос. – И Рена – вот же она!» И только за полночь я, наконец, проваливаюсь в глубокий сон без сновидений.
На следующее утро, когда солнце снова приветливо освещает розовые занавески, а передо мной дымится чашка кофе, Рена признается:
– Всю ночь не могла уснуть. Все думала об Анджее.
Я щелкаю кнопкой диктофона, сжимая в ладонях фарфоровую чашку как напоминание: не отвлекайся! Если Рена начала говорить – это поток воспоминаний, нельзя ничего пропустить.
– Раньше, после войны, еще в Голландии, мне каждую ночь снился один и тот же сон…
Данка в опасности. Иногда они приказывают ей прыгать в яму, а иногда сами сталкивают. А я всякий раз стою там и смотрю.
«Данка!» – кричу я, пробегая мимо них, и еле успеваю схватить ее за руку, когда она уже сорвалась вниз. Судьба Данки теперь полностью зависит от остатков моих сил, и я, стоя у края бездны, смотрю, не отрываясь, в зияющую внизу пустоту. Как же нам удалось вырыть такую глубокую яму, что в ней даже дна нет?
«Рена, помоги!» Удары наших сердец заглушают ее голос.
«Рена, не отпускай мою руку!»
«Не отпущу!» – обещаю я. Мои руки дрожат. С каждой новой судорогой, с каждым новым спазмом у меня все меньше шансов сдержать свое слово. Мое тело напряжено. Это уже не сон, это явь! «Держись, Данка!» Ногти трясущейся руки впиваются в ее плоть, изо всех сил цепляющуюся за жизнь.
Позади нас появляется Анджей. Своей мощной хваткой он сжимает наши руки и играючи вытаскивает Данку из ямы. При виде его я испытываю такое облегчение, что лишаюсь дара речи. Он улыбается мне и прямо на глазах пропадает. «Анджей!» – зову я. Нет ответа.
Он исчез.
«Если ты умрешь раньше, – слышу я голос Данки, – никто не будет рыдать горше меня. А если раньше умру я, даже если в мире никого больше не останется, кто стал бы по мне скорбеть, я знаю, ты все равно придешь оплакивать мою могилу».
Задыхаясь, словно загнанный в ловушку дикий зверь, я просыпаюсь. Душу леденит ночной кошмар, я не сознаю ни того, кто я, ни где я, пытаясь выбраться из простыней, опутавших мои руки и ноги. Я ищу на прикроватном столике свечу, чтобы ее зажечь, но комната остается погруженной во тьму.
Имя стерто из моей памяти. Я снова номер.
Комната вокруг нас – яркий контраст той тьме, которую вызвал к жизни сон Рены. Мой кофе остыл, я молчу, не в силах подобрать слова. Я дотрагиваюсь до сине-серой чернильной точки, въевшейся в ее кожу у шрама под локтем, где раньше был номер.
– Это нижняя часть единицы, – шепчет она. Так выглядит выцветший черный цвет…
* * *…Анджей был на три года взрослее меня, и в старших классах он учился в Крынице – этот городок, побольше нашего, находился километрах в семи, – так что в те годы виделись мы лишь изредка. Мы снова встретились на рынке, когда мне уже исполнилось 13. Я ужасно обрадовалась, и мы болтали обо всем подряд: о любимых книгах, школьных предметах. Я постоянно помнила, что нужно следить за дистанцией между нами, как наставляла мама, но совсем забыла про время. Уже почти стемнело, когда нас увидел шедший в храм член общины. Дело в том, что мне возбранялось говорить с мальчиком-гоем – да и вообще с любым мальчиком – наедине, без старшей спутницы. До чего же стыдно, когда один из старейшин синагоги делает тебе замечание прямо при Анджее и грозится все рассказать отцу! Анджей сник – наш невинный момент счастья вдребезги разбила грубая реальность.
Я побежала вниз по улице навстречу отцовскому гневу.
Мама плакала, а папа строго наказал мне больше никогда не иметь никаких дел с Анджеем Гарберой. После этого я стала избегать встреч. Столкнувшись с ним на рынке, я не открывала рта, но мы обменивались взглядами, и эти взгляды были красноречивее любых слов. Так продолжалось два года, пока однажды вечером Анджей не возник у дверей дома Эрны и не попросил разрешения проводить меня по дороге нашего детства. Я убедилась, что поблизости нет никого из синагоги, и выскользнула к нему.
– Я уезжаю в Краков учиться на военного, – сказал он.
Я кивнула, но открыть рот не смела – ведь я обещала родителям.
– Я придумаю, как нам переписываться, чтобы твои родители не узнали.
Я повернула голову, чтобы он не смог меня поцеловать, хотя мне так хотелось ощутить его губы на своей щеке! Когда я вновь повернулась к нему, его уже след простыл.
Через пару недель я встретила на рынке его сестру Ханю, и она тайком сунула мне письмо из Кракова. Несколько дней я набиралась смелости и, наконец, написала ответ – с тех пор Ханя или мать Анджея отправляли ему мои письма, так чтобы никто в деревне не знал о нашей переписке.

Анджей Гарбера
Два лета я провела в Крынице в ученицах у портнихи и там встречалась с несколькими мальчиками-евреями. Мы ходили в кино, на вечеринки, но никто из них не пленил мое сердце. Приближалось семнадцатилетие, и я начала задумываться о будущем. За кого мне выйти замуж? Словно прочтя мои мысли, Анджей написал:
Дорогая Рена!
Я получил офицерские нашивки и больше не живу в казарме. Мне теперь положена квартира в городе. Я вложил в конверт деньги, их хватит на поезд до Кракова. Ты выйдешь за меня? С еврейской верой ты можешь делать все, что захочешь. Можешь воспитывать в ней детей. Я куплю тебе серебряный подсвечник, чтобы ты могла в пятницу вечером зажигать свечи, как твоя мать. Если твоим родителям это кажется неприемлемым, я могу сделать обрезание и принять иудаизм. Я люблю тебя с нашей самой первой детской встречи. Если ты тоже меня любишь, почему мы не можем быть счастливы? Если ты приедешь и выйдешь за меня, я стану самым счастливым человеком во всей Польше.[10]
Предложение Анджея во всех отношениях казалось сбывшейся мечтой. Мне так хотелось выйти замуж, иметь семью, но брак с ним был невозможен. И мне пришлось, скрепя сердце, написать ему в ответ:
Дорогой Анджей!
Моим родителям не нужно, чтобы ты обращался в иудаизм, – этого недостаточно. Надо родиться евреем. Я думала, ты понимаешь строгость правил нашей веры и нашего народа. Прости, если я дала тебе ложные надежды. Для меня выйти за нееврея – все равно что убить родителей. Они будут оплакивать меня, словно я умерла, и перестанут считать меня дочерью. Мы не можем быть вместе. Несмотря на все мои чувства к тебе, я не вынесу разрыва с родными. Возвращаю тебе деньги. Мне очень жаль, но я не могу выйти за тебя.
С любовью, Рена
Разумеется, письмо Анджея я с родителями даже не обсуждала. Узнав, что я переписывалась с Анджеем, они были бы убиты горем, – не говоря уже о его предложении. Чтобы получить одобрение родителей, мой будущий муж должен быть евреем, причем желательно из ортодоксов, и я ни за что не совершила бы поступка, который разбил бы им сердце.
* * *В Тыличе радио было только у одной семьи. Днем в той семье открывали окно, и все собирались под ним, чтобы узнать международные новости и послушать странные и страстные речи Адольфа Гитлера, где он угрожал полякам, евреям и всем остальным неарийцам. Шел 1938 год, и папу с мамой встревожили вести о неожиданной аннексии Словакии: у них обоих братья жили по ту сторону границы, в Бардеёве[11]. Меня, впрочем, куда больше волновало тайное предложение Анджея. Потом Германия и Россия заключили пакт, и вся Польша задрожала от страха. Нашу землю делили слишком много раз, так что мы очень серьезно отнеслись к угрозе со стороны Сталина и Гитлера, и Польша призвала свою молодежь в армию на защиту страны. В нашей деревне многие парни служили – Толек, Алекс, Анджей. Они были частью тех, кто нас защищал, и мы гордились ими.
1 сентября 1939 года Германия вторглась в Польшу, и нашей простодушной жизни настал конец. Анджей избежал плена. Он вместе с другими парнями тайком добрался до дома и присоединился к подполью. На нашей оккупированной родине Тылич из сонного приграничного городка превратился в стратегически важный объект. Повсюду были немецкие пограничники со служебными собаками и винтовками, и у нас тоже вступили в силу Нюрнбергские законы[12]. Человека из синагоги по имени Йозеф назначили главой новой организации Юденрат, что означает «Еврейский совет», и приказали ему составить список всех молодых евреев Тылича. В первую же неделю нацистской оккупации нам велели носить, не снимая, нарукавные повязки с вышитой на них синей звездой Давида. Мы больше не могли покупать продукты у неевреев, нанимать неевреев на работу и пересекать словацкую границу (в Словакии торговлю с неевреями пока не запретили). Нам объявили, что любого, кто нарушит немецкий закон – будь он хоть еврей, хоть нет, – казнят как изменника и предателя. Мы с Данкой и другими молодыми евреями и еврейками должны были убирать армейские квартиры, чистить обувь, драить полы и выполнять другие поручения немцев.
Многие годы к нам на шаббат с утра приходила одна бедная полька – разжечь огонь и разогреть еду, которую мама приготовила накануне. По новым правилам ей запрещалось входить в наш дом или выполнять для нас любую работу. Она плакала, прощаясь, и мы – как и остальные евреи в Тыличе, – дабы не нарушить законы ортодоксальной веры, были вынуждены в шаббат есть холодную еду и сидеть в нетопленом доме. Папе и другим евреям-фермерам, которые не могли теперь нанять подручных, приходилось работать гораздо больше обычного, чтобы убрать урожай. Мы с Данкой тоже трудились от зари допоздна, разрываясь между повинностью у немцев и своей фермой.
К счастью, закон не запрещал обмен товаров на услуги, поэтому мы стали менять Зосино шитье на масло, сыр и муку. Некоторые из фермеров-гоев продолжали вести бизнес с папой, поскольку мы были соседями, а тыличская община всегда отличалась сплоченностью. Люди боялись немецких законов, но относились к ним без уважения и искали в них лазейки.
Многие из ушедших в армию местных ребят вернулись домой, однако Зосиного мужа среди них не оказалось. Мы не получали от Натана никаких вестей. Позже, уже в октябре, по почте пришла открытка с русской маркой. Зося протянула ее маме и стала ждать со сложенными у лица руками, словно читая молитву на шаббат.