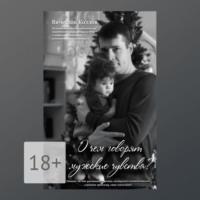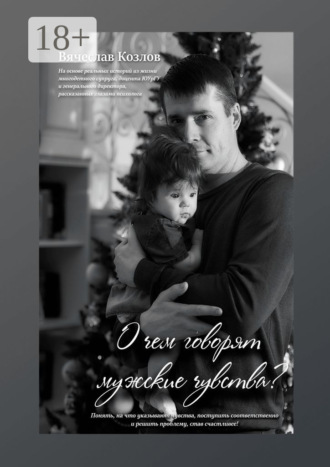
Полная версия
О чем говорят мужские чувства
Чувства меньшей интенсивности (раздражение, досада, возмущение) будут характеризоваться тем, что нам в большей мере удастся держать в фокусе внимания не личность другого человека, а его поступки и действия, мы скорее будет отстаивать свое, чем пытаться захватить чужое. Т.е. мы будем более конструктивны.
Полезно, когда мы реагируем тут же, быстро и открыто, предлагая супостату убраться на свою территорию или вернуть взятое. Прямо предъявляя свои чувства и свое видение происходящего. Это дает возможность оперативно исправить ситуацию и минимизировать последствия.
Вредно, когда мы пытаемся «сгладить», проигнорировать ситуацию. Говорим сами себе: «Ничего же страшного не происходит, никто же не умрет», «Это же друг/родственник/начальник, можно и потерпеть», «Мне же не жалко» или что-то подобное. В этом случае ситуация не меняется или ухудшается, а внутреннее напряжение начинает расти. Если его не выразить, то на его сдерживание уходит много внутренних сил. Это сказывается на наших отношениях с другими людьми, на нашем настроении. Постепенно, накаляясь, мы начинаем плохо спать, пропадает аппетит, становимся вспыльчивыми и раздражительными. В запущенном варианте начинает ухудшаться здоровье и общее состояние.
В итоге мы все равно рано или поздно взрываемся. Но это уже не злость, которая может быть выражена конструктивно, а ярость и ненависть, которые застилают глаза. Это состояние аффекта, в котором мы можем сделать то, о чем пожалеем, и то, за что нам потом будет стыдно. Причем не редко чувства выражаются не тому адресату.
Важно. Злость говорит нам о том, что надо действовать, причем немедленно, сейчас и в этих обстоятельствах!
Да, правда в том, что мы можем и не достичь желаемого результата. Но ценность имеет сам факт того, что мы решились и сделали шаг, заявили о своих правах и потребностях. Мы никогда не видим всей картины целиком, так как чаще фокусируемся на конкретных задачах и понятных нам взаимосвязях. Бывает то, что видит и понимает наш ум, заставляет нас сдерживаться. Но внутри нас есть место, из которого мы воспринимаем реальность полнее и объемнее, улавливая то, что мы никогда не сможем осознать. Именно оттуда, на языке чувств, нам подсказывают, что именно полезно сделать в данной конкретной ситуации. И сделав шаг, не достигнув желаемого или даже потерпев жестокое поражение, через некоторое время мы с удивлением обнаруживаем, что приобрели что-то значимое и важное, о чем могли даже не предполагать. Помимо возможности решения очевидной задачи, мы начинаем получать дивиденды в других гранях нашей жизни. В будущем встречаемся с неожиданными плодами нашего шага. Злость, пусть даже безуспешно проявленная в отношениях с одним человеком, начинает благотворно трансформировать отношения с другими, удивительно влиять на какие-то далекие обстоятельства. И умом этого не охватить, он для этого не приспособлен.
Хотя чаще злость благотворно может трансформировать отношения именно с тем человеком, который внес вклад в появление у нас этого чувства. Его возникновение служит четким индикатором нарушения наших границ. И даже если мы умом всячески пытаемся это проигнорировать, то на уровне чувств нас подталкивают действовать и проявляться вполне определенным способом.
Сдерживать злость не стоит, ее полезно выразить, причем максимально экологичным и эффективным образом.
На что указывает чувство злости? На нашу внутреннюю готовность активно противостоять нарушению наших границ, готовность настойчиво преодолевать всевозможные препятствия на пути к удовлетворению наших желаний и потребностей, а также на необходимость сделать это.
Практические выводы
Если мы начинаем чувствовать злость, то надо реагировать. Не откладывать это до лучших времен. Не искать оправдания, чтобы ничего не делать. Быстро, уверенно и настойчиво отстаивать свои границы и права. Понятно для нарушителя. Чтобы у него была возможность осознать причины и что-то понять для себя.
Если бы это было иначе, то мы бы испытывали другие чувства. Если бы внутри нас реально не было сил и ресурсов на то, чтобы справиться с ситуацией, то мы бы чувствовали страх. Если бы то, на что претендует нарушитель, не было бы для нас значимым, то мы бы чувствовали равнодушие. А раз мы чувствуем злость, то для нас точно происходит что-то значимое и у нас, вне всякого сомнения, есть необходимые ресурсы, чтобы изменить ситуацию.
Вопросы, ответы на которые помогут «не наломать дров»:
1. Что именно меня злит? Полезно точно определить нарушителя, против которого направлена злость. И понять, где и как именно нарушены мои права и границы. Помнить, что появление категоричных мыслей и фраз «всегда», «никогда», «во всем» и т. п. свидетельствуют, что я уже в аффекте, меня «понесло». Я теряю связь с реальностью. Поэтому выдыхаем и убавляем накал.
2. Что именно я хочу исправить? Мне надо не просто сказать, что я недоволен, но и обозначить, чем именно. Предложить вариант решения. А может даже несколько вариантов. Т.е. я должен сначала решить, чего я хочу получить в результате. Просчитать несколько вариантов сценариев.
3. До какой «точки» я готов дойти? Определить для самого себя тот порог, который я не буду переступать. Ту черту, за которой цена, заплаченная за полученный результат, будет уже чрезмерной.
Лучше подумать над этими вопросами в спокойном состоянии, с «холодной головой». Потому что в состоянии гнева или ярости мы можем наломать дров. А имея ответы на вышеупомянутые вопросы, мы можем спокойно дать волю своей злости. Она будет конструктивна и поможет доходчиво отстоять свои права и границы.
А чувство злости в итоге трансформируется в собранность, уверенность, готовность действовать и отстаивать свои границы, интересы.
Если бы я отдавал себе отчет в том, что, изначально, просьба дать в долг вызывала у меня некоторый дискомфорт, то я должен был бы к этому прислушаться. А я предпочел спрятаться от него за мыслью: «Ну, мы же друзья, не может же он меня кинуть». Сейчас уже не вспомнить точно, чувствовал ли я тогда какой-то дискомфорт или нет. При этом готов допустить, что он был, а я его проигнорировал. Напрасно.
С течением времени, поймав себя на усиливающемся раздражении от того, что срок возврата отодвигается, надо было действовать быстрее и активнее. Не успокаивать себя несколько лет мыслями: «Все нормально», «Просто у друга сложный период», «У меня же не горит». Допустить разные сценарии и просчитать разные варианты. Открыто предъявить ему свое раздражение, свои сомнения и мысли по этому поводу, посмотреть на его реакцию.
Осознать, что раздражение уже выросло до негодования и злости. Договорившись о встрече, не удерживать насильно фокус внимания на мысли: «Мы же друзья». Прислушавшись к собственным чувствам подумать о том, а что я буду делать и до какой «точки» я готов дойти на встрече, если вскроется иная правда наших отношений. Тогда бы я в большей степени сохранял устойчивость и уравновешенность. Ведь желание кидаться предметами и заниматься членовредительством явный признак аффективного состояния.
Чтобы дом не сгорел, кто-то запасается огнетушителями, а кто-то учится обращаться со спичками. Я за то, чтобы готовиться со всех сторон. Хотя вариант профилактики выглядит чуть более привлекательным.
Одним из неожиданных результатов той ситуации оказался возврат долгов от других людей. Я поделился со знакомыми тем, что произошло между мной и Колей. Рассказал о мыслях и чувствах, которые пережил, а также о том, что категорически настроен «дожать» ситуацию. Видимо, они поделились еще с кем-то, слухи распространились и те, кто еще был чего-то должен, решили не портить со мной отношения. Это подтвердило мою мысль о том, что чувства надо проявлять и неважно как мы оцениваем ситуацию. Что-то внутри нас видит все гораздо глубже и масштабнее, уверенно рассчитывая на получение результата, который нашему уму может показаться удивительным.
Глава 3. Чувства терпения и смирения
История «Постановка задачи Стасу»
Оперативное совещание у генерального директора. Это когда те, у кого в проектах все хорошо, могут вздремнуть. А те, у кого шероховатости, немного потеют от волнения и тревоги. Те же, кто потихоньку заваливает проект, лихорадочно соображают, как спасти ситуацию.
Докладывает Стас. В его проекте много непонятного. Он рассказывает о положении дел. И в какой – то момент начинает сыпать цифрами. Цифр и чисел много. Они, то приобретают последовательность числа Пи с десятого знака после запятой, то вдруг напоминаю номер ИНН. А иногда все выигрышные в номера лотерее «6 из 36» за последние 30 лет этой передачи, расположенные в случайном порядке. Из любопытства просыпаются даже те, кто мог бы с чистой совестью дремать.
Останавливаю его. Говорю, что терпеть это безобразие незачем и что на слух это все воспринять невозможно. Давай то же самое на листе бумаги. И с комментариями. Так, чтобы можно было глазами информацию воспринимать. Обещает сделать к следующему совещанию.
На следующей оперативке доходит очередь до Стаса. Начинает доклад. Сходу сверяемся по наличию информации в письменном виде. Неожиданно для всех он достает немного мятый лист бумаги, где от руки что-то написано. Какие-то столбики цифр и пометок к ним. Каракули, естественно, не читаемые. Несмотря на умение писать многие руководители, и я в том числе, настолько привыкают стучать по клавишам, что навык письма от руки постепенно утрачивается. Оказывается, именно таким дедовским образом в его светлой голове виделось решение поставленной задачи. И что самое невероятное, формально задача была выполнена! Хотел письменный вариант, на, пожалуйста!
Никто не дремлет. Все с интересом наблюдают за развитием сюжета. От усталости не вижу очевидного, сдерживаюсь, терплю и делаю еще одну попытку постановки задачи. Прошу отдельно занести в протокол, специально для находчивого Стаса, что информация должна быть предоставлена на листе в печатном варианте, шрифт 14, межстрочный интервал полуторный. В этот момент я еще не понимал, что в глазах сотрудников мои акции падают в цене. Терпеть подобное можно до определенного предела, но дальше не надо, а я терпел.
С самого начала следующего совещания все с нетерпением ждут, когда очередь дойдет до самого популярного докладчика. Как-никак, похоже, могут родиться новые стандарты корпоративной культуры в компании. Доходит. Встает. Демонстрирует лист бумаги, на котором стройными рядами отпечатаны цифры в строчку и в столбик. И даже присутствуют комментарии к этим цифрам. При этом есть одно «но». Лист один! Информация для обсуждения нужна сразу нескольким присутствующим, а лист один! И формально задача снова была выполнена! Ну не было в протоколе упоминания о том, что копий должно быть по числу участников. Не было!
Говоря про то, что я не заметил очевидного, я имел в виду, что ситуация с самого начала попахивала откровенным идиотизмом, которым не обязательно было заниматься. Поэтому с подобным подходом к делу надо было кончать на месте. Резко и жестко. Уже не ради того, чтобы человек что-то понял или осознал. Тут уже надо было смириться с тем, что этого не произойдет. А исключительно ради того, чтобы поняли и осознали остальные. Думаю, вы догадываетесь, как НЕ сложилась карьера данного сотрудника в моей компании.
А для себя я сделал очевидный управленческий вывод. Иногда, если надо что-то объяснять, то объяснять уже ничего не надо! А если иногда надо что-то терпеть, то и терпеть тоже ни к чему.
Смириться с фактом того, что сотрудник такой, какой есть и его не исправить и не перевоспитать. Отпустить человека с миром. И в спину перекрестить лопатой.
Терпение, смирение.
На что указывают чувства терпения и смирения?
Это два очень и очень разных чувства. Давайте определим то, о чем они нам говорят.
Чувство терпения – говорит о том, что нам сейчас приходится сдерживать, игнорировать и подавлять свои реакции на то, с чем мы не согласны и проявляться так, как мы не хотим. У нас рождается внутренняя реакция, так как мы считаем и переживаем, что происходящее влияет на нашу жизнь тем образом, который нам не нравится, который мы не принимаем. При этом мы уверены, что проявлять свое действительное отношение и делать то, что на самом деле хочется сделать, не полезно, а может быть даже вредно. Поэтому сдерживаемся или поступаем каким-то чуждым нам образом. От этого возникает сильнейшее внутреннее напряжение, с которым приходится бороться.
Чувство смирения – говорит о том, что мы покоряемся воле других людей и обстоятельствам и жизненной ситуации в целом. Это не значит, что мы полностью согласны с происходящим, но это значит мы признаем, что не всесильны и есть вещи, на которые повлиять не можем.
Что мы терпим? Нелюбимую работу, начальников идиотов, ворчливых жен, подчиненных раздолбаев, друзей, не отдающих денег, взятых в долг, плохие дороги, громких соседей и много-много чего еще. Мы это делаем по трем причинам.
1. Мы надеемся, что люди или обстоятельства изменятся и станут лучше, понятливее, добрее, профессиональнее, самостоятельнее, инициативнее и пр. Ждем этого в надежде, что дождемся, и тогда отношения станут гармоничнее, качество жизни выше. Чем сильнее наша надежда дождаться изменений, тем больше готовность терпеть.
2. Мы ждем какого-то результата в будущем, получив который дальше терпеть ничего не надо будет. Вот получу премию, переведусь на новую должность, вырастут дети, закончу университет, разведусь, женюсь, куплю машину, продам машину и т. д. Ожидаем, что получение какого-то конкретного результата изменит нашу жизнь в корне.
3. Мы идиоты. Да, да. Вы уж извините меня, но это не редкость. Это когда мы надеемся на изменение того, что измениться не может. Это когда мы рассчитываем на получение результата, который никогда не случится. Причина этому – привычка впустую терпеть и многочисленные иллюзии, которыми мы эту привычку от себя прикрываем, чтобы не признаваться самим себе в собственной глупости.
Фактически, ситуация, когда нам приходится терпеть, это проявление насилия над самим собой. Если она хронически затягивается и превращается в образ жизни, то это чревато негативными последствиями. Попытка справиться с нарастающим напряжением приведет к тому, что мы сначала будем сдерживать внутренние реакции, будем пытаться сохранить устойчивость, спокойствие, возможно даже наденем маску безразличия и равнодушия. Но рано или поздно напряжение вырвется из-под контроля. Тогда мы начнем срываться на тех, на ком посчитаем это возможным сделать. Это будет не по адресу и начнет разрушать наши с ними отношения. Или наш срыв будет направлен внутрь. Тогда будет проявлена аутоагрессия, которая выразится в саморазрушительном поведении или возникновении какого—либо недомогания аутоиммунной природы.
Нередко язва желудка, аллергии, энурез, псориаз, нейродермит, заикания и появление нервных тиков, навязчивых движений и др. являются следствием невыраженного внутреннего напряжения, которое возникло в результате того, что человек сдерживался и не позволял себе его проявлять. Именно на это указывает нам чувство терпения.
Оптимальным вариантом будет трансформация терпения в смирение.
На что указывают эти чувства:
Чувство терпения указывает на то, что пора трансформировать свои отношения с другими людьми или свою жизненную ситуацию, обретая свободу выражения.
Чувство смирения указывает на необходимость признания факта встречи с тем, что изменить мы не в силах и важно перенаправить силы туда, где мы реально что-то можем создать или изменить.
Практические выводы
Если мы обнаружили, что наше терпение приобрело уже хронический характер и ситуация особо не меняется, конца и края этому не видно, то важно сделать несколько вещей:
1. Свериться, не придаем ли мы желаемому результату, ради которого терпим что-либо, излишней значимости для своей жизни. Ведь часто бывает так, что из чего-то маловажного возникает сверхцель, которой мы придаем чрезмерное значение. Мы идем на неадекватные жертвы и платим завышенную цену за результат, который не имеет для нас и для того, что мы делаем, какой-то значимой ценности и мало определяет нашу жизнь. Свериться можно очень просто. Достаточно задать себе вопрос: «Что будет или чего не будет, если то, ради чего я все это терплю, не случится?»
2. Прислушаться к себе и задаться вопросом: «А почему мы обесцениваем важность собственных живых и естественных реакций на происходящее?». Если они родились, то уж точно не на пустом месте. В каждой нашей реакции, в каждом импульсе, который родился внутри, есть смысл и значимость. Да, чаще мы плохо в этом разбираемся и совсем этого не понимаем. Но почему мы заочно это все обесцениваем, считаем ненужным и вредным? Может быть, позволить себе их проявить?
3. Подумать над вопросом: «Почему мы думаем, что наши реакции нанесут вред или затруднят получение желаемого?». Чаще, тревога о возможных последствиях наших действий не обоснована. Мы просто не видим всей сложной системы взаимосвязей и отношений. Наш поверхностный ум не может удержать это все в фокусе внимания, слишком запутано для него. И из другого, более глубокого и мудрого места в нашем внутреннем мире мы получаем подсказку, но игнорируем ее, так как не можем ее прочесть. А разум накладывает свое вето на то, что не способен осмыслить.
Я не буду утверждать, что проявлять терпение не стоит в принципе, что это всегда вредит. При этом для меня является фактом, что зачастую мы делаем это зря, а иногда даже во вред себе и делу, которым мы занимаемся. Ведь проявив чувства и эмоции, мы можем увидеть, на самом ли деле ситуация не готова меняться. Может быть, она именно этого и ждет? И тогда бурное и прямое выражение накопившихся чувств, эмоций и переживаний поможет нам трансформировать терпение в смирение.
Смирение, в основе которого лежит готовность покориться ситуации со всеми ее противоречиями, парадоксами и конфликтами, позволит нам, без лишних сомнений, принять максимально адекватные и конструктивные решения, которые уже давно напрашивались. Смирившись, мы не обязательно успокаиваемся и совсем не впадаем в анабиоз. Мы лишь прекращаем ненужную борьбу и перенаправляем свою энергию на более полезные вещи, активно воплощаем ее необходимых действиях и поступках.
В моей истории я осознал, что напрасно трачу время и силы. Пустыми были надежды, что руководитель начнет проявлять себя более профессионально. При очередном промахе Стаса я смирился с фактом невозможности что-то изменить и прямо сказал ему, что я по всему этому поводу думаю. Это было твердо, коротко и лаконично. Были обозначены его ключевые дефициты как управленца и обозначено несоответствие занимаемой должности. Без лишнего напряжения и накала я проговорил ему, что не готов с ним дальше продолжать сотрудничество. Играть в «последний шанс» я тоже не намерен, так как признал тщетность этого. Он был уволен.
Мои иллюзии – это моя ответственность. Человек не должен соответствовать моим ожиданиям от него. При этом осознав свой просчет, я не стал прятаться от этой правды за попытками воссоздать какие-то другие иллюзии и воздушные замки. Ситуация требовала от меня ряда конкретных действий, которые я со спокойным и легким сердцем реализовал.
Глава 4. Чувства вины и стыда
История «Вечно должен и навсегда обязан»
Мама меня выпорола. Это было очень обидно. С математикой в школе всегда было все хорошо. И вот 5 класс, весна, время школьных олимпиад. Сделал задания в школе на «5», прошел на районную олимпиаду. Там все выполнил на «5», впереди городская. На ней получил «4».
Итог. Оценка «4» на городской олимпиаде по математике. Видимо хуже некуда. За это надо наказать. Ладно бы денег спер или разбил чего-нибудь. Ну, в крайнем случае, соседскую дверь поджег. Так нет ведь, получил «хорошо» по математике на городском уровне. Позорище! Тупица! Не справился! Не оправдал!
Моя мама преподаватель истории. Она всю свою профессиональную жизнь работала в школе. Ее ценят и уважают как педагога. После выхода на пенсию она продолжает работать в школе. Теперь она руководитель музейного методического объединения, руководит школьными музеями района. Мы любим друг друга, при этом у нас специфические отношения.
Я рос в семье, в которой понятия «должен», «надо», «обязан» были частью генетического кода ее членов. Именно эти понятия лежат в основе появления массы «нельзя», «запрещено», «табу». Малейшее отступление от выбранного курса или заступ за границу дозволенного выражались в вердикте «виновен».
Сложно научиться жить своей жизнью, если тебе постоянно говорят о том, как и что надо делать, а чего делать нельзя ни в коем случае. Постоянное, еще плохо осознаваемое, внутреннее напряжение. Вечный внутренний конфликт. Регулярное столкновение внутренних «хочу» с внешними «надо» и «нельзя». И никуда не деться от хронических чувств вины и стыда за свое поведение и собственное несоответствие высоким и никому не нужным идеалам, особенно тогда, когда хочется сделать то, чего не одобряется.
В юности я еще обсуждал с мамой то, что наполняло мою жизнь. Еще хотел открываться и делиться. Но чем больше я встречался с обесцениванием и оценкой, тем меньше было желание продолжать это делать в том же духе. Чем чаще она позволяла себе судить и осуждать меня, тем больше я закрывался и отстранялся. Чем мощнее были лавина советов и камнепад требований, тем толще становились бетонные стены моего внутреннего бункера, в котором я прятался. Только это и позволяло как-то самосохраниться и не потерять себя. Но фоном, всегда готовое дать о себе знать, с желанием заполнить все внутреннее пространство, в ожидании повода, чтобы ворваться в мою жизнь, присутствовало оно – хроническое чувство вины.
Во взрослой жизни, я с удивлением обнаружил, что обвиняющий и осуждающий голос в моей голове звучит знакомо. Мама? Да, вина и стыд разговаривали со мной ее голосом.
Надо ли говорить, что до определенного момента мои желания, мечты, порывы, потребности и импульсы зачастую вдребезги разбивались о внутренние же холодные и монолитные стены. Мой огромный внутренний мир сузился до тюремного дворика с хилым полисадничком. А за порядком и распорядком следили два надзирателя Стыд и Вина. Они круглосуточно контролировали, чтобы узник четко следовал инструкциям с грифами «должен», «надо», «обязан». Они обновляли и подкрашивали знаки «Нельзя!», «Запрещено!», «Категорически воспрещается!». В случае отступления от инструкций или нарушения порядка, они придумывали наказание: одиночная камера, исправительные работы, лишение прогулок и пр. А если проступок был существенным: не справился с задачей, но остался жив; сделал что-то, что доставило удовольствие, хотя другим это не понравилось; не оправдал ожиданий других, да еще и был счастлив и пр., то случалась казнь. К этому мероприятию надзиратели подходили с огоньком – я же творческий человек. Вариантов психологического самоуничтожения было придумано и испробовано огромное количество, так как дело это увлекательное, требующее самоотдачи и погружения в процесс.
Слава богу, что еще в студенчестве до меня дошло, что так жить нельзя. Но потребовалось большое количество времени и сил, нужно было сделать колоссальную внутреннюю работу, чтобы распахнуть двери тюрьмы и уволить надзирателей. При этом сколько бы времени не прошло они всегда рады вернуться на работу.
Вина и стыд.
На что нам указывает чувство вины?
Если оно лишь иногда присутствует, то ничего страшного. Опасно, когда оно возникает часто или даже стало хроническим. Совсем плохо, когда оно стало доминировать и прижилось на постоянной основе.
Давайте сразу разведем понятия «чувство вины» и «чувство стыда». Их иногда используют как синонимы. Рабочая версия такова:
Чувство вины – «я поступаю плохо». Осуждаются поступки и действия.
Чувство стыда – «я плохой». Осуждается личность человека, его качества и особенности.
Сразу обозначу свою позицию. Чувство вины очень вредная штука. Оно нам не помогает, зачастую лишает нас энергии и мешает действовать. Есть переживание своей ответственности за сделанное или несделанное, которое помогает нам включиться и исправить ситуацию. А есть переживание вины, которое часто заставляет нас вообще бездействовать или толкает на еще большие глупости.
Итак, сейчас о чувстве вины, хотя понятно, что по образу и подобию можно будет размышлять и о чувстве стыда.
Теперь подробнее о том, как зарождается это прекрасное и пагубное чувство.
Есть наше представление о том, как надо/правильно/стоит себя вести и как себя категорически вести нельзя/запрещено/не надо. У нас есть представление о том, какие поступки «хорошие», а какие «плохие». Откуда у нас взялось это представление? Из детства. Нас так воспитали. Все это не врожденное. Оно сформировалось под влиянием нашего окружения. В первую очередь родителей или взрослых, которые нас растили и воспитывали. Потом след оставили учителя, воспитатели, тренеры, другие значимые взрослые. И еще свои «5 копеек» вставил социум, в широком смысле этого слова, СМИ, книги и пр.