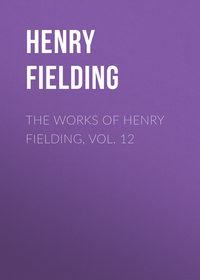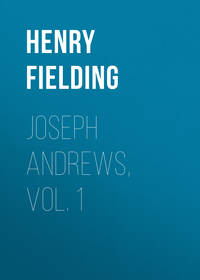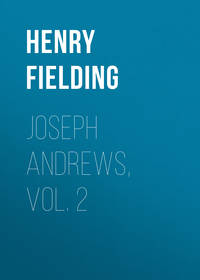полная версия
полная версияИстория приключений Джозефа Эндруса и его друга Абраама Адамса
– Полагаю, сэр, – сказал книгопродавец, – ваши проповеди иного рода?
– Да, сэр, – ответил Адамс, – почти каждая их страница, скажу с благодарностью господу, заключает в себе обратное, – или я лгал бы против собственного мнения, которое всегда состояло в том, что добрый и праведный турок или язычник угоднее взору создателя, чем злой и порочный христианин, хотя бы вера его была столь же безупречно ортодоксальна, как у самого святого Павла.
– Желаю вам успеха, – говорит книгопродавец, – но прошу меня уволить, потому что у меня сейчас так много товара на руках… и, право, я боюсь, среди торговцев вы не легко найдете охотника на издание книги, которая будет, несомненно, осуждена духовенством.
– Боже нас избави, – говорит Адамс, – от распространения книг, которые духовенство может осудить; но если вы под духовенством разумеете небольшую кучку лиц, отколовшихся от всех и мечтающих узаконить какие-то свои излюбленные схемы, принося им в жертву свободу человечества и самую сущность религии, – то, право, не во власти этих людей опорочить всякое неугодное им произведение; свидетельством тому превосходная книга, называющаяся «Простой Отчет о Природе и Цели Причастия»; книга, написанная (если позволительно мне так выразиться) пером ангела [64] и стремящаяся восстановить истинный смысл христианства и этого священного таинства, ибо что же может в большей степени служить благородным целям религии, нежели частые радостные собрания членов общины, где они в присутствии друг друга и в служении верховному существу дают обещание быть добрыми, дружественными и доброжелательными друг к другу? И вот на эту превосходную книгу ополчился кое-кто, но безуспешно.
При этих его словах Барнабас принялся звонить изо всей силы, и когда на звонок явился слуга, он велел ему подать немедленно счет: ибо он сидит здесь, как он понимает, «в обществе самого сатаны; и если останется здесь еще на несколько минут, то услышит, чего доброго, восславление Алкорана, Левиафана или Вулстона [65]». Адамс тогда спросил своего собеседника: раз его так взволновало упоминание книги, на которую он, Адамс, сослался, никак не думая, что может этим кого-нибудь оскорбить, – не будет ли тот любезен изложить свои возражения против нее, и он тогда попробует на них ответить.

– Мне? Излагать возражения?! – сказал Барнабас. – Я не прочел ни полслова ни в одной такой вредной книге; поверьте, я их в жизни своей никогда и не видел.
Адамс хотел было сказать слово, но тут в гостинице поднялся безобразный шум, в котором слились одновременно звучавшие голоса миссис Тау-Вауз, мистера Тау-Вауза и Бетти; однако голос миссис Тау-Вауз, как виолончель в оркестре, был ясно и отчетливо различим среди прочих и произносил следующие слова:
– Ах ты чертов негодяй, и этим ты мне платишь за все мои заботы о тебе и о твоей семье? Это награда моей добродетели? Так-то ты обходишься с женой, которая принесла тебе состояние и предпочла стольким женихам не в пример лучше тебя! Замарать мою постель, мою собственную постель с моей же служанкой! Да я ее измолочу, мерзавку, я ей вырву ее гнусные глазища! Жалкий пес, на кого позарился – на подлую девку! Будь она благородная, как я, тут еще можно было б извинить; но нищая, наглая, грязная служанка! Вон из моего Дома, шлюха!
И к этому она добавила еще другое наименование, которым мы лучше не будем оскорблять бумагу. Это было двусложное слово, начинающееся на букву «с» и означающее в точности то
же, как если бы сказано было: «собака-самка», – каковым термином мы и будем пользоваться в этом случае, чтоб никого не задеть, – хотя на самом деле и хозяйка и служанка применяли вышеупомянутое слово «с…» – слово, крайне ненавистное женщинам низшего сословия. Бетти до этой минуты все сносила терпеливо и отвечала только жалобными воплями, но последнее наименование задело ее за живое.
– Я такая же женщина, как и вы, – заорала она, – а вовсе не собака-самка; а что я пошалила немного, так не я первая, и если я грешна, как все на свете, – голосила она, рыдая, – так это не причина, чтоб вы не звали меня моим именем; иная и выше меня, а ведет себя ни-ниже!
– Ах ты, дрянь! – кричит миссис Тау-Вауз. – У тебя еще хватает бесстыдства мне отвечать? Точно я не поймала тебя на месте, подлая ты…
И тут она опять повторила страшное слово, отвратительное для женского слуха.
– Я не стерплю, чтоб меня так звали, – сказала Бетти. – Если я поступила дурно, я сама за это отвечу на том свете; но я не сотворила ничего противоестественного, и я сию же минуту ухожу из вашего дома, потому что ни одной хозяйке в Англии я не позволю называть меня собакой-самкой.
Тут миссис Тау-Вауз вооружилась вертелом, но в исполнении страшного намерения ей помешал мистер Адамс, перехватив ее оружие такой сильной рукой, какою не зазорно было б обладать и Геркулесу. Мистер Тау-Вауз, видя, что пойман, как говорится у наших юристов, с поличным и сказать ему в свою защиту нечего, благоразумно удалился; Бетти же отдалась под покровительство конюха, который, хоть и едва ли был обрадован случившимся, все же представлялся ей более кротким зверем, чем ее хозяйка.
Миссис Тау-Вауз, охлажденная вмешательством мистера Адамса и исчезновением врага, начала понемногу успокаиваться и наконец вернулась к своей обычной ясности духа, в каковой мы и оставим ее, чтобы открыть перед читателем ступени, приведшие к одной из тех катастроф, которые хоть и являются в наши дни довольно обыденными и, может быть, даже довольно забавными, однако же нередко оказываются роковыми для покоя и благополучия многих семей и составляют предмет не одной трагедии как в жизни, так и на сцене.
Глава XVIII
История горничной Бетти и объяснение причин, коими вызвана была бурная сцена в предыдущей главе
Бетти, виновница всего этого переполоха, обладала многими хорошими качествами. Она была не чужда доброты, великодушия и сострадания, но, к несчастью, ее организм составляли те горячие ингредиенты, которые чистота придворного быта или женского монастыря могла бы, конечно, обуздать, но на которые должно было оказать обратное действие щекотливое положение гостиничной служанки, ежедневно подвергающейся ухаживанию поклонников всех мастей: опасному вниманию изящных господ офицеров, коим иногда приходится простаивать в гостинице год и больше, а пуще всего домогательствам лакеев, конюхов и кучеров, причем все эти искатели пускают в ход против нее целую артиллерию поцелуев, лести, подкупа и все прочие виды оружия, какие только можно найти в арсенале любви.
Бетти, которой не было еще двадцати двух лет, прожила в таком положении три года, довольно успешно лавируя среди опасностей. Первым, кто покорил ее сердце, был некий прапорщик пехоты; он, нужно сознаться, сумел зажечь в ней пламя, для охлаждения которого потребовались заботы врача.
Пока она пылала к нему, другие пылали к ней. Офицеры армии, молодые джентльмены, проезжавшие по западному краю, безобидные сквайры и кое-кто из более важных особ были воспламенены ее чарами.
Вполне оправившись наконец от последствий своей первой несчастной страсти, она, казалось, дала обет хранить нерушимое целомудрие. Долго была она глуха ко всем воздыханиям своих поклонников, пока в один прекрасный день, на ярмарке в соседнем городке, красноречие конюха Джона, подкрепленное новой соломенной шляпкой и пинтой вина, не одержало над нею вторую победу.
В этом случае, однако, она не чувствовала того пламени, которое в ней зажигала ее прежняя любовь, и не испытала тех злых последствий, каких благоразумные молодые женщины справедливо опасаются от чрезмерной уступчивости к домогательствам своих обожателей. Объяснить это можно отчасти и тем, что она не всегда была верна Джону и наряду с ним оделяла своими милостями также Тома Уипвела – кучера почтовой кареты, а время от времени и какого-нибудь красивого молодого путешественника.
Мистер Тау-Вауз с некоторых пор стал поглядывать томно-ласковыми глазами на эту молодую девицу. Он пользовался каждой возможностью шепнуть ей нежное слово, схватить ее за руку, а иной раз и поцеловать ее в губки, потому что страсть его к миссис Тау-Вауз значительно охладела; совсем как бывает с водою: прегради ее обычное русло в одном месте, и она, естественно, ищет пробиться в другом. Миссис Тау-Вауз, как думают, стала замечать охлаждение мужа, и это, вероятно, не слишком-то много прибавило к природной кротости ее нрава, ибо она хоть и верна была супругу, как солнцу солнечные часы, но еще сильнее, чем те, жаждала, чтобы лучи падали на нее, так как более была приспособлена чувствовать их тепло.
Когда появился в гостинице Джозеф, Бетти с первого же часа возымела к нему чрезвычайную склонность, которая проявлялась все более откровенно по мере того, как больному становилось лучше, – пока, наконец, в тот роковой вечер, когда ее послали согреть ему постель, страсть не возросла в ней до такой степени и не восторжествовала так полно над скромностью и над рассудком, что после многих бесплодных намеков и хитрых подсказок девица отшвырнула грелку и, пылко обняв Джозефа, клятвенно объявила его самым красивым мужчиной, какого она видела в жизни.
Джозеф в великом смущении отпрянул от нее и сказал, что ему прискорбно видеть, как молодая женщина отбрасывает всякую мысль о скромности, но Бетти зашла слишком далеко для отступления и повела себя далее настолько непристойно, что Джозеф был вынужден, вопреки своему мягкому нраву, применить к ней некоторое насилие: схватив в охапку, он выбросил ее из комнаты и запер дверь.
Как должен радоваться мужчина, что его целомудрие всегда в его собственной власти; что если он обладает достаточной силой духа, то и телесная сила его всегда может оказать ему защиту и его нельзя, как бедную слабую женщину, обесчестить против его воли!
Бетти пришла в бешенство от своей неудачи. Ярость и сладкое желание, как две веревки, дергали ее сердце в разные стороны: то ей хотелось вонзить в Джозефа нож, то стиснуть его в объятиях и осыпать поцелуями; но последнее желание преобладало. Затем она стала подумывать, не выместить ли его отказ на себе самой. Но когда она предалась этим помышлениям, смерть, по счастью, представилась ей в столь многих образах сразу – включая омут, яд, веревку и так далее, – что рассеянный ум ее не мог остановиться ни на одном. В этом смятении духа ей вдруг пришло на память, что она еще не постелила постель своему хозяину; вот она и направилась прямо в его спальню, где он случайно был занят в это время у своей конторки. Увидав его, она хотела было тотчас удалиться, но он ее подозвал и, взяв за руку, стиснул ее пальчики так нежно и в то же время стал шептать ей на ухо так много приятных слов, а потом так донял ее поцелуями, что побежденная красавица, чьи страсти были уже пробуждены и не были притом столь капризны, чтобы из всех мужчин только один мог их унять, – хотя, быть может, она и предпочла бы этого одного, – побежденная красавица, говорю я, спокойно подчинилась воле хозяина, который как раз достиг завершения своего блаженства, когда миссис Тау-Вауз неожиданно вошла в комнату и произвела то смятение, которое мы уже видели и которому нам больше нет необходимости уделять внимание: без всякого нашего содействия и наводящих намеков каждый читатель, не лишенный наклонности к умозрению или жизненного опыта, хотя бы он и не был сам женат, легко сообразит, что оно закончилось увольнением Бетти и смирением мистера Тау-Вауза, – причем ему пришлось со своей стороны кое-что сделать в знак благодарности доброй супруге, согласившейся его простить, и дать множество искренних обещаний, что такой грех больше никогда не повторится, – и, наконец, его готовностью до конца своих дней претерпевать напоминание о своих проступках раза два в сутки, как некую епитимью.
Конец первой книгиКнига вторая
Глава I
Об искусстве разделения у писателей
Во всех видах деятельности – от самых высоких до самых низких, от профессии премьер-министра до литературы – есть свои тайны и секреты, которые редко открываются кому-либо, кроме как представителям того же ремесла. Среди средств, какие применяем мы, джентльмены пера, отнюдь немаловажным является прием деления наших произведений на книги и главы. И вот, не будучи достаточно знакомы с этой тайной, рядовые читатели воображают, что этим приемом членения мы пользуемся только для того, чтобы раздуть наши произведения до более внушительного объема. И следовательно, что те места на бумаге, которые идут у нас под обозначение книг и глав, применяются как та же парусина, тесьма и китовый ус в счете портного, то есть как допускаемая для округления суммы надбавка, которой отводится место у нас – в конце нашей первой страницы, у него – на последней.
Но в действительности дело обстоит не так: и в этом случае, как и во всех других, мы преследуем выгоду читателя, а не нашу; в самом деле, немало удобств возникает для него благодаря этому методу: во-первых, небольшие промежутки между нашими главами могут рассматриваться как заезжий двор или место привала, где он может остановиться и выпить стаканчик или освежиться чем-нибудь еще по своему желанию. Наши благородные читатели, может быть, и не в состоянии будут совершить свой путь иначе, как по одному такому переходу в день. Что же касается пустых страниц, помещаемых между нашими «книгами», то в них следует видеть те стоянки, на которых в долгом странствии путешественник задерживается на некоторое время, чтобы отдохнуть и окинуть мысленным взором все то, что он видел до сих пор в пути. Такое обозревание я беру на себя смелость порекомендовать читателю; какой бы живой восприимчивостью ни отличался он, я бы не советовал ему путешествовать по этим страницам слишком быстро: в этом случае, пожалуй, могут ускользнуть от его взора иные любопытные произведения природы, которые были бы примечены более медлительным и вдумчивым читателем. Книга без таких мест отдохновения напоминает простор пустынь или морей, утомляющий глаз и гнетущий душу, когда вступаешь в него.
Во-вторых, что представляет собой заголовок, придаваемый каждой главе, как не надпись над воротами гостиницы (продолжим ту же метафору), сообщающую читателю, каких развлечений ему ожидать; так что он может, если они ему не по вкусу, ехать, не задерживаясь, дальше, ибо в жизнеописании – поскольку мы, в отличие от других историографов, не связаны здесь точным взаимным сцеплением событий – одна-другая глава (например, та, которую я пишу сейчас) могут быть зачастую пропущены без всякого ущерба для целого. И я в этих надписях старался быть по возможности верен истине – не подражая прославленному Монтеню, который обещает вам одно, а дает другое [66], или иным авторам титульных листов, которые, обещая очень много, на деле не предлагают ничего. [67]
Помимо этих явных преимуществ, такой прием членения предоставляет читателю еще ряд других; хотя, быть может, иные из них слишком таинственны и не могут быть поняты сразу людьми, не посвященными в науку писания. Упомянем поэтому только одно, наиболее явное: наличие глав сохраняет красоту книги, избавляет от необходимости загибать страницы, что при других условиях нередко делают те читатели, которые (хотя читают они с большой пользой и успехом) склонны бывают, вернувшись к своему занятию после получасового перерыва, забывать, на чем они остановились.
Это членение освящено древней традицией. Гомер не только разделил каждое из своих великих творений на двадцать четыре книги (может быть, во внимание к двадцати четырем буквам греческого алфавита, перед которыми он чувствовал себя столь обязанным), но, по мнению некоторых весьма проницательных критиков, еще и торговал ими в розницу, выпуская сразу только по одной книге (возможно, по подписке [68]). Он и был первым, кто додумался до искусства, надолго потом забытого, – издавать книги выпусками; искусства, доведенного в наши дни до такого совершенства, что даже словари расчленяются и предлагаются публике вразбивку. Некий книготорговец («в целях поощрения науки и ради удобства публики») умудрился даже продать один разбитый таким образом словарь всего на пятнадцать шиллингов дороже, чем он стоил бы в целостном виде.
Вергилий дал нам свою поэму в двенадцати книгах, что свидетельствует о его скромности, ибо этим он, несомненно, хотел указать, что притязает не более как на половинную заслугу против великого грека; из тех же побуждений наш Мильтон не пошел сперва дальше десяти; но потом, прислушавшись к похвалам друзей, он возгордился и поставил себя на один уровень с римским поэтом.
Не буду, однако же, слишком углубляться в сей предмет, как это делают некоторые весьма ученые критики, которые с бесконечным трудолюбием и проницательной остротой открыли нам, каким по счету книгам приличествуют прикрасы, а каким только простота, в особенности в отношении метафор: последние, насколько я помню, по всеобщему признанию приемлемы для любой книги, кроме первой.
Я закончу эту главу следующим замечанием: каждому автору следует расчленять свою книгу, как расчленяет мясную тушу мясник, потому что это идет на пользу и читателю и повару. А теперь, удовлетворив кое в чем самого себя, я постараюсь удовлетворить любопытство моего читателя, которому, конечно, не терпится узнать, что он найдет в дальнейших главах этой книги.
Глава II
Поразительный пример забывчивости мистера Адамса и ее печальные последствия для Джозефа
Мистер Адамс и Джозеф уже готовились разъехаться в разные стороны, когда некое обстоятельство побудило доброго пастора повернуть обратно вместе с другом, – на что его не могли подвигнуть увещания Тау-Вауза, Барнабаса и книгопродавца: а именно, выяснилось, что те самые проповеди, для издания которых пастор отправился в Лондон, были – о добрый мой читатель! – оставлены им дома; вместо них в его седельной суме оказалось не что иное, как три сорочки, пара башмаков и еще кое-какие принадлежности, которыми миссис Адамс, полагая, что сорочки понадобятся ее мужу в путешествии больше, чем проповеди, заботливо снабдила его на дорогу.
Это открытие было сделано благодаря счастливому присутствию Джозефа при разборке седельного вьюка: Джозеф слышал от друга, что тот везет с собой девять томов проповедей; и не принадлежа к тому разряду философов, по мнению которых вся материя в мире может легко вместиться в скорлупу ореха, и видя, что для рукописей нет места во вьюке, куда, по словам пастора, они были уложены, юноша в недоумении воскликнул:
– Господи, сэр, а где же ваши проповеди?
Пастор ответил:
– Здесь, здесь, дитя мое; они здесь, под моими сорочками.
Но случилось так, что в этот день была им вынута последняя сорочка и вьюк был явно пуст.
– Право, сэр, – сказал Джозеф, – в мешках ничего нет.
Мистер Адамс кинулся к вьюку и, выразив некоторое удивление, воскликнул:
– Гм! Что за притча! В самом деле, их тут нет. Так! Они, конечно, остались дома.
Джозеф понимал, как неприятно было для его друга это разочарование, и сильно огорчился; он уговаривал пастора продолжать поездку, обещая сам вернуться к нему со всею поспешностью, прихватив его книги.
– Нет, благодарю тебя, дитя мое, – ответил Адамс, – не нужно. Чего я достигну, проживая без дела в столице, коль скоро не будет при мне моих проповедей, которые являются, ut ita dicam [69], единственным поводом, aitia monotate [70]для моего паломничества? Нет, дитя, раз уж так выпало мне, я решил вернуться вместе с тобою к моей пастве – к чему меня с достаточной силой влечет и желание сердца. Может быть, это разочарование ниспослано мне ради моего же блага.
В заключение он добавил стих из Феокрита [71], означавший всего лишь то, что «иногда идет дождь, а иногда светит солнце».
Джозеф поклонился в знак повиновения и благодарности за выраженное пастором желание сопровождать его в пути; и вот потребован был счет, оказавшийся по рассмотрении на один шиллинг ниже той суммы, какую имел в своем кармане мистер Адамс. Читатель, верно, удивляется, как мог он раздобыть достаточно денег на столько дней; чтобы разрешить недоумение, не будет излишним сообщить, что пастор занял гинею у одного из слуг при карете, который был когда-то его прихожанином и хозяин которого, владелец кареты, проживал о ту пору в трех милях от его прихода; мистер Адамс пользовался у всех столь бесспорным доверием, что даже мистер Питер, управляющий леди Буби, одолжил бы ему гинею под самое скромное обеспечение.
Мистер Адамс расплатился, и они уже тронулись было в путь вдвоем, договорившись путешествовать по способу «проедешь – привяжешь», который очень принят у путешественников, располагающих одною лошадью на двоих. Делается это так: два путешественника трогаются в путь одновременно, один верхом, другой пешком; и так как верховой по большей части обгоняет пешего, то установился обычай, что, проехав некоторое условленное расстояние, он должен спешиться, привязать лошадь к воротам, дереву, столбу или к чему-нибудь еще и идти дальше пешком; второй, поравнявшись с лошадью, отвязывает ее, садится в седло и скачет вперед, пока, обогнав спутника, не достигает в свою очередь места, где должен спешиться и привязать коня. Такова эта система, бывшая весьма в ходу у наших мудрых предков, не забывавших, что у коня есть, кроме ног, еще и рот и что они могут пользоваться первыми только при условии, что самому коню предоставляется возможность пользоваться вторым. Эта система применялась в те годы, когда супруга какого-нибудь члена парламента разъезжала не в карете цугом, а на седельной подушке, за спиной у мужа; и важный адвокат не почитал для себя унизительным трусить в Вестминстер в мягком седле, в то время как его писец, примостившись позади него, болтал в воздухе ногами.
Адамс, настояв на том, чтобы Джозеф начал свой путь в седле, уже несколько минут шагал по дороге. Джозеф только вдевал ногу в стремя, когда конюх предъявил ему счет за кошт коня во время его пребывания в гостинице. Джозеф сказал, что мистер Адамс за все уплатил; но когда об этом доложили мистеру Тау-Ваузу, он разрешил дело в пользу конюха – и по всей справедливости, ибо это был новый пример забывчивости пастора Адамса, происходившей у него не от недостатка памяти, а от поспешности, с какою он постоянно пускался в хлопоты о других.
Джозеф очутился перед задачей, крайне смутившей его. Сумма, причитавшаяся за кошт коня, составляла двенадцать шиллингов (Адамс взял коня напрокат у своего причетника и поэтому распорядился, чтобы его кормили как нельзя лучше), а в кармане было у него наличными шесть пенсов (Адамс поделился с ним своим последним шиллингом). И вот, хоть и есть на свете изобретательные личности, которые умудряются оплачивать двенадцать шиллингов шестью пенсами, Джозеф был не из их числа. Он никогда в своей жизни не делал долгов и, следовательно, не был искушен в умении ловко выпутываться из них. Тау-Вауз склонялся поверить ему до другого раза, и миссис Тау-Вауз, пожалуй, дала бы на то свое согласие (ибо красота Джозефа произвела некоторое впечатление даже на тот кремень, который эта добрая женщина носила в груди под видом сердца). Так что, по всей вероятности, Джозефа отпустили бы с миром, не случись ему, когда он честно показывал пустоту своих карманов, вытянуть ту золотую монетку, которая уже упоминалась нами раньше. При виде ее у миссис Тау-Вауз увлажнились глаза; она сказала Джозефу, что не понимает, как это может быть, чтобы человек был не при деньгах и в то же время имел в кармане золото. Джозеф ответил, что он чрезвычайно ценит эту маленькую золотую монетку и не расстанется с нею за богатства, во сто крат превышающие состояние самого крупного владетеля в графстве.
– Хорошее дело, – сказала миссис Тау-Вауз, – залезать в долги, а потом отказываться расстаться с вашими деньгами, потому что они-де вам дороги! Я никогда не слышала, чтоб золотая монета стоила больше, чем столько шиллингов, на сколько ее можно разменять.
– Ни ради спасения жизни своей от голодной смерти, ни ради выкупа ее от разбойника не расстался бы я с этой дорогой монеткой, – ответствовал Джозеф.
– Что? – говорит миссис Тау-Вауз. – Не иначе как эту монету вам дала какая-нибудь дрянная потаскушка, какая-нибудь девка, да! Будь она подарком от добродетельной женщины, вы бы ею так не дорожили! Мой муж будет дурак дураком, если выпустит лошадь из рук, не получив по счету.
– Нет, нет, конечно, я не могу выпустить лошадь из рук, пока мне не отдадут мои деньги! – вскричал Тау-Вауз.
Решение это было горячо одобрено случившимся во дворе юристом, объявившим, что мистер Тау-Вауз, совершив задержание коня, будет прав перед законом.
Итак, поскольку мы в настоящее время не может вызволить мистера Джозефа из гостиницы, мы оставим его там и поведем нашего читателя вслед за пастором Адамсом, который, пребывая в полном душевном покое, углубился в раздумье над одним фрагментом Эсхила, занимавшим его полных три мили пути, так что он ни разу не помыслил о своем спутнике.