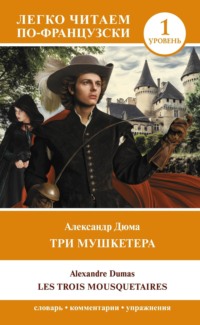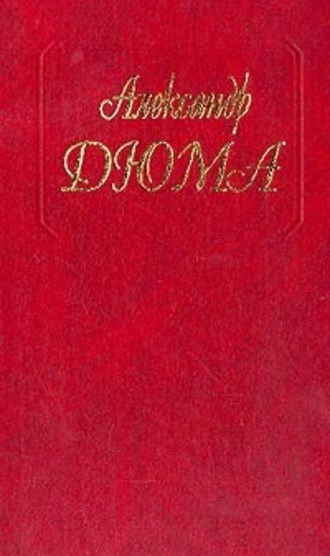 полная версия
полная версияБелые и синие
– Откуда вы?
– Из Невшателя. Но я мог бы зваться Фенуйо и родиться в Безансоне, поскольку моя семья из Франш-Конте и покинула его лишь после отмены Нантского эдикта.
– В таком случае я по выговору узнал бы в вас земляка.
– Простите, генерал, но как вы узнали, что я не торговец шампанским?
– По тому, как вы открываете бутылки; в следующий раз, гражданин, выберите себе другое занятие.
– Какое?
– Хотя бы книгопродавца.
– Значит, вы меня знаете?
– Я слышал о вас.
– Что именно?
– Как о яром враге Республики и авторе роялистских брошюр… Простите, я полагаю, что должен продолжить допрос.
– Продолжайте, генерал, я к вашим услугам.
– Каким образом вы стали агентом принца де Конде?
– Мое имя впервые привлекло внимание господина регента note 11, когда оно было обозначено на роялистской брошюре господина д'Антрега, озаглавленной «Заметки о регентстве, сына Франции, дяди короля и регента Франции Луи Станисласа Ксавье»; во второй раз оно привлекло его, когда я собрал подписи жителей Невшателя под актом об объединении.
– В самом деле, – сказал Пишегрю, – я знаю, что с тех пор ваш дом стал местом встреч эмигрантов и очагом контрреволюции.
– Принц де Конде, как и вы, узнал об этом и прислал ко мне некоего Монгайяра, чтобы спросить, не хочу ли я к нему присоединиться.
– Вам известно, что этот Монгайяр – интриган? – спросил Пишегрю.
– Я опасаюсь этого, – ответил Фош-Борель.
– Он действует в интересах принца под двумя псевдонимами: Рок и Пино.
– Вы хорошо осведомлены, генерал, но у меня с господином де Монгайяром нет ничего общего: просто мы оба служим одному и тому же принцу, вот и все.
– В таком случае вернемся к принцу. Вы остановились на том, что он прислал к вам господина де Монгайяра, чтобы спросить, не хотите ли вы присоединиться к нему.
– Это так; он сообщил мне, что принц, ставка которого находилась в Дауэндорфе, примет меня с радостью; я тотчас же собрался в путь, добрался до Виссамбура, чтобы сбить со следа ваших шпионов и заставить их поверить, будто я направляюсь в Баварию. Таким образом, я спустился до Агно, а оттуда добрался до Дауэндорфа.
– Когда вы оказались здесь?
– Два дня назад.
– Каким образом принц заговорил с вами об этом союзе?
– Очень просто: меня представил ему шевалье де Конти. «Господин Фош-Борель», – сказал он принцу. Принц встал и подошел ко мне. Хотите, генерал, я повторю вам его обращение слово в слово?
– Слово в слово.
– «Дорогой господин Фош, – сказал он мне, – я знаю вас по рассказам моих соратников: они все как один десятки раз повторяли, как гостеприимно вы их принимали. Поэтому я пожелал вас видеть, чтобы предложить выполнить одно поручение, которое окажется для вас и почетным и полезным. Я давно понял, что нельзя рассчитывать на иностранцев. Возвращение французского трона нашей семье – это не цель, а предлог; враги остаются врагами, они будут делать все в своих интересах и ничего – в интересах Франции. Нет, именно изнутри следует добиваться реставрации, – продолжал он, сжимая мою руку, – я остановил свой выбор на вас, чтобы передать слова короля генералу Пишегрю. Конвент, приказавший Рейнской и Мозельской армиям соединиться, ставит его в подчинение Гоша. Он придет в ярость; воспользуйтесь моментом, чтобы убедить его перейти на службу монархии, объяснив ему, что Республика не более чем химера».
Пишегрю выслушал все это с олимпийским спокойствием, а в конце тирады улыбнулся. Фош-Борель ждал его ответа и приберег под конец упоминание о Гоше как главнокомандующем; но, как было сказано выше, Пишегрю встретил слова посланца с самой благодушной улыбкой.
– Продолжайте, – сказал он. Фош-Борель продолжал:
– Напрасно я говорил принцу, что недостоин подобной чести; я утверждал, что единственное мое желание – служить ему в меру своих сил, то есть быть его деятельным и ревностным сторонником. Принц покачал головой и сказал: «Господин Фош, либо вы, либо никто». И, дотронувшись до моей груди, продолжал: «У вас здесь есть все, чтобы стать лучшим в мире дипломатом в такого рода делах».
Если бы я не был роялистом, я стал бы сопротивляться и скорее всего придумал бы множество превосходных предлогов для отказа, но я роялист и помышлял лишь о том, чтобы так или иначе послужить делу монархии, и я уступил.
Я уже рассказал вам, генерал, каким образом я прибыл в Виссамбур, как перебрался из Виссамбура в Агно, из Агно – в Дауэндорф; мне оставалось лишь добраться из Дауэндорфа до вашей ставки в Ауэнхайме, но сегодня утром был замечен ваш передовой отряд.
«Пишегрю сокращает нам путь, – сказал принц, – это хорошая примета».
Тогда же было решено, что, если вас разобьют, я отправлюсь к вам, ведь вы знаете, какую участь готовит Конвент своим побежденным генералам; если же вы станете победителем, я подожду вас и проникну к вам с помощью выдумки, о которой я уже рассказал.
Вы стали победителем и раскусили эту уловку; теперь я в вашей власти, генерал, и в свою защиту упомяну лишь об одном смягчающем обстоятельстве: о моем глубоком убеждении, что я действую во благо Франции, а также о моем бесконечном желании избежать кровопролития.
Я верю в вашу справедливость и жду вашего приговора.
Фош-Борель встал, поклонился и вновь уселся с таким спокойным видом (по крайней мере, так казалось со стороны), как будто только что провозгласил тост за процветание родины на банкете патриотов.
XXVII. ОТВЕТ ПИШЕГРЮ
– Сударь, – отвечал Пишегрю, употребив старое обращение, упраздненное во Франции год назад, – если бы вы были шпионом, я приказал бы вас расстрелять; если бы вы были обычным вербовщиком, что ставит на карту собственную жизнь ради богатства, я предал бы вас Революционному трибуналу и он казнил бы вас на гильотине. Вы доверенное лицо; ваше мнение, по-моему, зависит скорее от личных симпатий, нежели от принципов; я отвечу вам спокойно и серьезно, а вы передадите мой ответ принцу.
Я вышел из народа, но мое происхождение нисколько не влияет на мои взгляды; они обусловлены не сословием, к которому я принадлежу по рождению, а проведенными мной историческими исследованиями.
Нации – это гигантские организмы, подверженные людским болезням; порой они страдают от истощения, и тогда следует лечить их средствами, поднимающими тонус; порой – от полнокровия, и тогда следует делать им кровопускание. Вы говорите, что Республика – это химера, и я с вами согласен, по крайней мере, в данный момент; но здесь вы заблуждаетесь, сударь. Мы живем не в эпоху Республики, мы живем в эпоху Революции. В течение ста пятидесяти лет нас разоряли короли, в течение трехсот лет нас угнетали вельможи, в течение девяти веков священники держали нас в рабстве, но настал миг, когда ноша оказалась непосильной для спины, что должна была ее нести, и восемьдесят девятый год заявил о правах человека, сравнял духовенство с другими подданными королевства и упразднил какие бы то ни было привилегии.
Оставался король; на его права еще никто не посягал.
Его спросили:
«Признаете ли вы Францию в том виде, какой она стала после наших преобразований, с ее тремя группами населения – третьим сословием, духовенством и дворянством, уравновешивающими друг друга; признаете ли вы конституцию, которая оставляет вам привилегии, предоставляет цивильный лист и налагает на вас обязанности? Обдумайте это здраво. Если вы отказываетесь – скажите „нет“ и уходите. Если вы согласны, скажите „да“ и поклянитесь».
Король сказал «да» и дал клятву.
На следующий день он покинул Париж и, будучи убежденным, что пересечет границу, поскольку все было предусмотрено, приказал передать представителям народа, которым дал накануне свое обещание, такие слова: «Меня вынудили поклясться, и моя клятва исходила из моих уст, а не из сердца; я слагаю с себя обязательства, вновь беру свои права и привилегии и вернусь вместе с неприятелем, чтобы наказать вас за непослушание».
– Вы забываете, генерал, – сказал Фош-Борель, – что те, кого вы называете неприятелем, состоят с ним в родстве!
– Вот в этом-то и беда, дорогой мой, – сказал Пишегрю, – беда в том, что родственники короля Франции являются врагами Франции, но что поделаешь, так оно и есть; в жилах Людовика Шестнадцатого, рожденного от принцессы Саксонской и сына Людовика Пятнадцатого, нет и половины французской крови; он женится на эрцгерцогине, и вот вам королевский герб: первая и третья четверти в нем лотарингские, вторая – австрийская и только последняя четверть принадлежит Франции. Вследствие этого, как вы сказали, когда король Людовик Шестнадцатый ссорится со своим народом, он взывает к своей родне, но, поскольку его родня является нашим врагом, он взывает к врагу, и, поскольку по его призыву враг вступает во Францию, король совершает преступление против народа, равносильное, если не более тяжкое, преступлению против монархии.
И тогда происходит ужасное: в то время как король молится за военные успехи своей родни, то есть за посрамление французского оружия, и королева, видя пруссаков в Вердене, подсчитывает, через сколько дней они будут в Париже, – тогда-то и происходит это ужасное: вся Франция, обезумевшая от ненависти и патриотизма, поднимается и, дабы не быть окруженной врагами (австрийцами и пруссаками – спереди, королем и королевой – в центре, дворянами и аристократами – сзади), Франция борется со всеми сразу: ведет огонь по пруссакам в Вальми, расстреливает австрийцев в Жемапе, режет аристократов в Париже и отрубает головы королю и королеве на площади Революции. Благодаря этому страшному кровопусканию она считает себя исцеленной и переводит дух.
Но она заблуждается: родственники, которые вели войну под предлогом того, чтобы посадить Людовика XVI на трон, продолжают вести войну якобы для того, чтобы посадить на него Людовика XVII, но на самом деле с целью войти во Францию и расчленить ее. Испания желает отобрать Руссильон; Австрия – Эльзас и Франш-Конте; Пруссия – маркграфства Ансбах и Байрёйт. Дворяне поделились на три группы – одни сражаются на Рейне и на Луаре, Другие плетут заговоры; повсюду войны: война с внешним врагом и гражданская война, борьба внутри страны и за ее пределами! Отсюда – тысячи людей, павших на полях сражений; отсюда – тысячи людей, убитых в тюрьмах; отсюда – тысячи людей, угодивших под нож гильотины. Отчего? Да оттого, что король, давший клятву, не сдержал ее и, вместо того чтобы броситься в объятия своего народа, то есть Франции, бросился в объятия своей родни, то есть врага.
– Значит, вы одобряете сентябрьские убийства?
– Я сожалею о них. Но что поделаешь против воли народа?
– Вы одобряете казнь короля?
– Я считаю ее ужасной. Но королю все же следовало держать свое слово.
– Вы одобряете политические казни?
– Я считаю их отвратительными. Но королю все же следовало не призывать врага.
– О! Что бы вы ни говорили, генерал, девяносто третий год – роковой год.
– Для монархии – да, для Франции – нет!
– Оставим в покое гражданскую войну, иностранную интервенцию, убийства и казни; но миллиарды пущенных в обращение ассигнатов – это же финансовый крах!
– Я это приветствую.
– Я тоже, в том смысле, что монархия будет стремиться укрепить бюджет.
– Бюджет укрепится благодаря разделу собственности.
– Каким образом?
– Разве вы не слышали, что Конвент объявил всю собственность эмигрантов и монастырей национальными имуществами?
– Да, ну и что?
– Разве вы также не слышали, что другой декрет Конвента разрешает покупать национальное имущество на ассигнаты, которые при покупках такого рода котируются по номинальной цене и не обесцениваются?
– Безусловно, слышал.
– Ну вот, сударь, в этом-то и все дело! На ассигнат в тысячу франков, которого не хватает, чтобы купить десять фунтов хлеба, бедняк сможет купить арпан земли и будет ее обрабатывать, обеспечивая хлебом себя и свою семью.
– Кто посмеет купить украденную собственность?
– Конфискованную собственность; это совсем другое дело.
– Все равно никто не захочет быть сообщником революционеров.
– Знаете ли вы, на какую сумму было продано в этом году земли?
– Нет.
– Более чем на миллиард. На будущий год ее будет продано вдвое больше.
– На будущий год! Неужели вы полагаете, что Республика сможет продержаться еще один год?
– Революция…
– Хорошо! Революция… Однако Верньо сказал, что революция подобна Сатурну, она пожирает всех своих детей.
– У нее много детей, и некоторые из них неудобоваримы. – Но вот уже пожраны жирондисты!
– Зато остались кордельеры.
– Со дня на день они будут проглочены якобинцами.
– Значит, останутся якобинцы.
– Полно! Разве есть у них такие люди, как Дантон или Камилл Демулен, чтобы считаться серьезной партией?
– У них есть такие люди, как Робеспьер, Сен-Жюст, и это единственная партия, идущая по верному пути.
– А вслед за ними?
– Я не могу этого разглядеть и боюсь, что Революция умрет вместе с ними.
– Но за это время прольется море крови!
– Все революции ее жаждут!
– Но эти люди – сущие тигры!
– В революции я боюсь вовсе не тигров, а лис.
– И вы согласитесь служить им?
– Да, ибо они будут также героями Франции; не Суллы и Марии истощают нации, а Калигулы и Нероны лишают их сил.
– Значит, каждая из названных вами партий, по-вашему, поочередно вознесется и падет?
– Если духу Франции присуща логика, так оно и будет.
– Поясните вашу мысль.
– Каждая из партий, что поочередно придут к власти, сотворит великие дела, наградой за которые ей будет благодарность наших детей, а также совершит тяжкие преступления, за которые ее покарают современники, и с каждой случится то же, что с жирондистами. Жирондисты убили короля – заметьте, я не говорю: монархию, – и вот, только что они были уничтожены кордельерами; кордельеры уничтожили жирондистов и, по всей вероятности, будут уничтожены якобинцами; наконец, якобинцы – последнее порождение Революции – будут в свою очередь уничтожены, но кем? Как я вам сказал, мне об этом ничего не известно. Когда их уничтожат, приходите ко мне, господин Фош-Борель, ибо тогда мы уже не будем враждовать.
– Что же мы будем делать?
– Вероятно, нам будет стыдно! Ведь я могу служить правительству, которое ненавижу, но никогда не буду служить правительству, которое я презираю; мой девиз – это девиз Тразеи: Non sibi deesse («He поступать предосудительно»).
– Каков же ваш ответ?
– Вот он: по-моему, неудачно выбран момент для того, чтобы предпринимать что-либо против Революции, когда она доказывает свою силу, убивая как в Нанте, так и в Тулоне, Лионе и Париже по пятьсот человек в день. Надо подождать, пока она лишится сил.
– И что тогда?
– Тогда, – продолжал Пишегрю с серьезным видом, нахмурив брови, – поскольку нельзя, чтобы Франция, устав от борьбы, растратила свои силы на реакцию, поскольку я верю в великодушие Бурбонов не больше, чем в благоразумие народов, в день, когда я окажу содействие возвращению того или другого из членов данной семьи, – в тот самый день у меня в кармане будет лежать хартия в духе английской или конституция в духе американской, хартия или конституция, где будут закреплены права народа и оговорены обязанности монарха; это будет условие sine qua non!..note 12 Я очень хочу быть Монком, но Монком XVIII века, Монком девяносто третьего года, готовящим почву для президента Вашингтона, а не для монархии Карла П.
– Монк действовал в своих интересах, генерал, – сказал Фош-Борель.
– Я ограничусь тем, что буду действовать в интересах Франции.
– Ну, генерал, его высочество смотрел вперед и на тот случай, если вы решитесь, собственноручно написал бумагу, в которой содержатся гораздо более выгодные предложения, чем условия, которые вы могли бы поставить.
Пишегрю, как всякий уроженец Франш-Конте, был заядлым курильщиком и, завершая разговор с Фош-Борелем, принялся набивать свою трубку; это важное дело было окончено, когда Фош-Борель показал ему бумагу, в которой содержались предложения принца де Конде.
– Однако, – улыбнулся Пишегрю, – я, кажется, дал вам понять, что, если я и решусь, это случится не раньше, чем через два-три года.
– Хорошо! Но ничто не мешает вам ознакомиться с этой бумагой сейчас, – возразил Фош-Борель.
– Хорошо! – сказал Пишегрю, – когда мы до этого доживем, придет время этим заняться.
И, даже не взглянув на бумагу, он поднес ее к печке; она загорелась. Затем он прикурил от нее и не выпускал бумагу из рук до тех пор, пока пламя полностью не уничтожило ее.
Фош-Борель, решив сначала, что это шутка, попытался удержать руку Пишегрю.
Но затем он понял, что это обдуманный поступок, и не стал ему препятствовать, невольно сняв шляпу.
В это же время стук копыт лошади, галопом въезжавшей во двор, привлек внимание обоих мужчин.
Вернулся Макдональд; его лошадь была в мыле: значит, он привез важное известие.
Пишегрю, закрывший дверь на засов, живо подбежал к двери и отпер ее. Он не хотел, чтобы его застали взаперти наедине с лжекоммивояжером, подлинная миссия и настоящее имя которого могли открыться позже.
Почти тотчас же дверь распахнулась и появился Макдональд– Его румяные от природы щеки, разгоряченные ветром и мелким дождем, были еще более красными, чем обычно.
– Генерал, – сказал он, – авангард Мозельской армии вступил в Пфафенхоффен; за ним следует вся армия, и я опередил генерала Гоша и его штаб всего на несколько секунд.
– Ах! – воскликнул Пишегрю, не скрывая своей радости, – вы, Макдональд, принесли мне добрую весть; я говорил, что через неделю мы отвоюем виссамбурские линии, но я ошибался: с таким генералом, как Гош, с такими воинами, как солдаты Мозельской армии, мы отвоюем их через четыре дня.
Не успел он договорить, как штаб Гоша, состоявший из молодых офицеров, можно сказать, ворвался в мощенный камнем двор, который заполнили лошади и люди с плюмажами и развевающимися шарфами.
Старая мэрия содрогнулась до самого основания от этого шествия; казалось, что волны жизни, молодости, смелости, патриотизма и чести хлынули в ее стены.
В мгновение ока все всадники спешились и сбросили свои плащи.
– Генерал, – сказал Фош-Борель, – мне кажется, что мне лучше удалиться.
– Напротив, оставайтесь, – сказал Пишегрю, – вы сможете передать принцу де Конде, что девиз генералов Республики – это действительно Братство!
Пишегрю встал напротив двери, встречая того, кого правительство направило к нему в качестве главнокомандующего. Немного позади него держались Фош-Борель – по левую руку и полковник Макдональд – справа.
Было слышно, как толпа молодых офицеров поднимается по лестнице с радостным смехом, свидетельствующим о хорошем настроении и беспечности; но в тот момент, когда Гош, возглавлявший шествие, вышел вперед и все заметили Пишегрю, воцарилась тишина. Гош снял шляпу, и все, обнажив головы, вошли вслед за ним и встали в комнате, образовав круг.
Гош приблизился к Пишегрю и, низко поклонившись ему, сказал:
– Генерал, Конвент допустил ошибку: он назначил меня, двадцатипятилетнего солдата, главнокомандующим Рейнской и Мозельской армиями, забыв о том, что во главе Рейнской армии стоит один из величайших военачальников нашего времени; я исправлю эту ошибку, генерал, и перейду под ваше командование с просьбой обучить меня тяжкому и трудному военному ремеслу. Я обладаю интуицией, у вас есть знание; мне – двадцать пять лет, вам – тридцать три года: вы Мильтиад, я же – от силы Фемистокл; лавры, устилающие ваше ложе, не дают мне уснуть, и я прошу вас поделиться со мной частью этого ложа.
Затем, обернувшись к своим офицерам, которые стояли склонив головы и держа шляпы в руках, он сказал:
– Граждане, вот наш главнокомандующий; во имя блага Республики и славы Франции я прошу вас и, если нужно, приказываю вам подчиняться ему так же, как я сам буду ему подчиняться.
Пишегрю слушал его с улыбкой. Гош продолжал:
– Я пришел не за тем, чтобы лишить вас почетного права отвоевать виссамбурские линии: это дело, которое вы столь славно начали вчера; ваш план, должно быть, уже готов, и я приму его, будучи счастлив служить в этом славном бою вашим адъютантом.
Затем он простер руку к Пишегрю и сказал:
– Я клянусь подчиняться во всех военных делах моему старшему брату и учителю, моему кумиру, прославленному генералу Пишегрю. Теперь ваша очередь, граждане!
Все офицеры штаба Гоша простерли руки единым движением и дружно принесли присягу.
– Вашу руку, генерал, – сказал Гош.
– Дайте мне обнять вас, – отвечал Пишегрю.
Гош бросился в объятия Пишегрю, и тот прижал его к груди.
Затем он обернулся к Фош-Борелю, продолжая обнимать своего молодого собрата, и сказал:
– Расскажи принцу о том, что ты видел, гражданин, и передай ему, что мы начнем наступление завтра в семь утра; соотечественники должны быть честными по отношению друг к другу.
Фош-Борель поклонился.
– Последний из ваших соотечественников, гражданин, – сказал он, – умер вместе с Тразеей, чей девиз вы только что упомянули; вы подобны героям Древнего Рима.
С этими словами он вышел.
XXVIII. ВЕНЧАНИЕ ПОД БАРАБАН
В тот же день, около четырех часов пополудни, два генерала склонились над большой военной картой департамента Нижний Рейн.
Шарль, писавший в нескольких шагах от них, был в чудесном фраке национального синего цвета с лазурными воротом и обшлагами, в красной шапочке секретаря штаба – все это он нашел в свертке, упомянутом генералом.
Генералы только что решили, что на следующий день, 21 декабря, будет предпринят поход, во время которого войска опишут дугу, отделяющую Дауэндорф от высот Рейсгоффена, Фрошвейлера и Вёрта, где укрылись пруссаки; когда будут взяты эти высоты и прервана связь с Виссамбуром, отрезанный от всех Агно будет вынужден сдаться. -,, К тому же армия выступит в три колонны; две из них должны будут атаковать с фронта; третья пройдет через лес и, соединившись с артиллерией, ударит пруссакам во фланг.
По мере того как принимались эти решения, Шарль их записывал, а Пишегрю ставил под ними свою подпись; затем пригласили командиров воинских частей, ждавших в соседней комнате; вскоре каждый командир отправился в свой полк и приготовился выполнять полученный приказ.
Между тем Гошу сообщили, что батальон арьергарда, не найдя для себя места в селении, отказался ночевать в поле и в нем назревал мятеж. Гош осведомился о номере батальона; ему ответили, что это третий.
– Хорошо, – сказал Гош, – передайте от моего имени третьему батальону, что ему не будет предоставлена честь сражаться в первых рядах.
И он продолжал невозмутимо отдавать приказы.
Четверть часа спустя четыре солдата непокорного батальона явились от имени своих товарищей просить у генерала прощения и умолять его разрешить мятежному батальону, собиравшемуся разбить лагерь в указанном месте, первым выступить навстречу неприятелю.
– Первым не получится, – сказал Пишегрю, – я обещал вознаградить эндрский батальон, и он пойдет впереди, третий батальон пойдет вторым.
Когда последние распоряжения были разосланы, под окном генерала послышались звуки шарманки, заигравшей мелодию патриотического гимна «Вперед, сыны отечества!».
Гош не придал значения этой серенаде, Пишегрю же, напротив, при первых звуках мелодичного инструмента прислушался, подошел к окну и открыл его.
В самом деле, это был шарманщик; с необычным усердием он вращал ручку ящика, висевшего у него на груди; поскольку было уже темно, Пишегрю не смог разглядеть лица игравшего.
Кроме того, двор был заполнен людьми, расхаживавшими взад и вперед, и Пишегрю, без сомнения, боялся заговорить с музыкантом. Поэтому он закрыл окно, хотя звуки шарманки не смолкали, и отошел от него.
Однако он сказал своему юному секретарю:
– Шарль, спустись, подойди к шарманщику и скажи ему: «Спартак»; если он скажет в ответ: «Костюшко» – приведи его. Если же он ничего не ответит – значит, я ошибаюсь, тогда оставь его в покое.
Шарль, ни о чем не спрашивая, встал с места и вышел.
Шарманка продолжала непрерывно играть «Марсельезу»; музыкант переходил от одного куплета к другому, не давая своему инструменту отдохнуть.
Пишегрю внимательно слушал.
Гош смотрел на Пишегрю и ждал, когда тот раскроет ему эту тайну.
Внезапно шарманка умолкла посреди такта.
Пишегрю, улыбаясь, кивнул Гошу.
Тотчас же дверь отворилась и появился Шарль в сопровождении шарманщика.
Некоторое время Пишегрю молча глядел на музыканта: он не узнавал его. Человек, которого привел Шарль, был выше среднего роста; он был одет как эльзасский крестьянин. Его длинные черные волосы падали на глаза, затененные вдобавок широкополой шляпой; вероятно, мужчине было лет сорок-сорок пять.
– Друг мой, – сказал Пишегрю музыканту, – мне кажется, что этот мальчик ошибся, и я имел дело не с тобой.