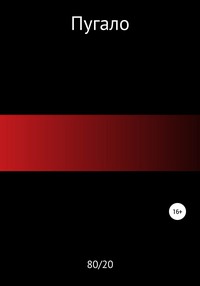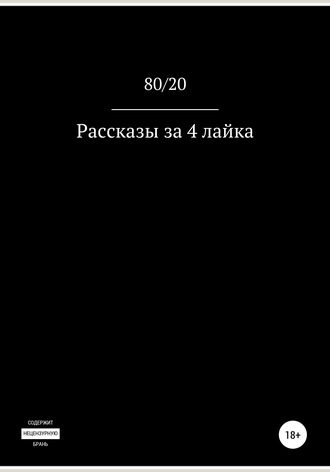
Полная версия
Рассказы за 4 лайка
– Да… то есть, нет! Мне не нужен врачеватель, всё в полнейшем порядке. А ведь и правда, уже утро зачинается, а я не спал ещё! Так значит, хорошего вам дня, Александра!
Я незаметно переложил полотенце из руки в руку и проскользнул мимо Шуры в свою комнату.
– И не пейте сегодня больше рому. Алкоголь расширяет ваши сосуды, и рана дольше будет заживать, – посоветовала она вслед.
На день (а точнее был уже глубокий вечер) третий или четвертый после описанных событий мы сидели на кухне за маленьким, когда-то крашенным, деревянным столом и на шатающихся табуретках при свете той же керосинки и ещё пары свечей. Играла пластинка (а точнее музыка была записана на рентгеновском снимке чьих-то лёгких с признаками пневмонии) с чем-то запрещённым. Мы пили «Зубровку», а из закуски были только консервы кильки и сайры, банка корнишонов и хлеб, правда Шура пыталась собрать из них маленькие бутерброды. Она приоткрыла косую форточку на одном шарнире, потому что в комнате было густо надымленно.
Это моё существо резво со всех ног пробежало по столу, обойдя все консервные банки, съев по пути пару хлебных крошек, и запрыгнуло на подставленный палец Луки Моисеевича. Лука Моисеевич ловко взял его ногтями и поднес к полуслепым голубым глазам.
Лука Моисеевич недавно вернулся из сибирских рудников, где-то под Норильском, на которых страдал двенадцать лет, а четверть от этого срока в ледяном узком карцере, где невозможно сесть, потому что упираешься коленями в намерзшую дверь, и невозможно выпрямиться во весь рост, потому что упираешься затылком в потолок. Он умел сделать нож из обломка ручной пилы, умел спрятать контрабанду так, что ни один шухер не найдёт, хоть и со специально обученными овчарками с Кавказа. Из всего их литературного кружка выжили двое: он и тот единственный, который раскололся. Лука Моисеевич был не так стар, хотя возраста солидного, скорее просто выглядел, как человек подорванного здоровья. Серый клетчатый пиджак смотрелся на нем больше положенного на пару размеров. Он-то и принёс эту очаровательную пластинку-рентгеновский снимок для моего граммофона.
– Какой славненький! – не переставала восторгаться Шура. – Ну, сама прелесть!
Она перегнулась через плечо Луки Моисеевича, чтобы ближе рассмотреть. Её сиреневые и его белоснежные седые волосы были одинаковой длинны. За весь вечер Шура всего лишь едва пригубила водки и совсем ничего не съела, хотя скурила пару папирос.
Лука Моисеевич оставил восторги Шуры без внимания, но обратился ко мне, продолжая неотрывно разглядывать моё существо:
– И вы сами его извлекли, мой добрый друг?
– Угу, – я кивнул пьяной повисшей головой.
Ангелика так и не пришла посмотреть на него, и я напился так, что языком еле ворочал.
– Прямо из-под ребер?
– Да, – в доказательство я чуть приподнял рубаху и показал ещё кровоточащие бинты.
Рулона бинтов мне хватило ещё на две перевязки, потом бинт закончился.
– Какой ужас! – ахнула Шура и сложила руки на груди.
– Стало быть, мой друг, вы самостоятельно сделали надрез, – продолжал допытывать Лука Моисеевич. – Сделали надрез, затем чем-то раздвинули ребра… полагаю, ранорасширителем Госса, извлекли его пинцетом, и сами же зашили рану? При этом не получили ни заражения, ни воспаления? Поразительно…
– Нет, Лука Моисеевич, – покачал головой я. – Не пинцетом, пинцета у меня не было. Пальцами. А заражения не получил, потому как обильно поливал рану санкционным ромом.
– А какую обезболивающую мазь пользовали?
Я показал бровями, что не додумался до этого.
– О! – Лука Моисеевич с уважением и нежностью посмотрел на меня. – Что ж, друг мой, я могу только поздравить вас, могу только бесконечно восхищаться вами! Вы сотворили вещь, безусловно, выдающуюся и достойную внимания. Это действительно хорошее начало.
И он отпустил существо на стол, а оно тут же прибежало ко мне. Я подхватил его на ладонь и стал разглядывать так же внимательно, как это только что делал Лука Моисеевич, будто никогда его ранее не видел. Шура перешла ко мне, и она наклонилась гораздо ближе, чем ранее к Луке Моисеевичу.
– Полагаю, членистоногие?
– Верно полагаете, дорогой друг, – улыбнулся Лука Моисеевич.
– Похоже на класс высших раков, – я потрогал панцирь.
– Похоже, – продолжил улыбаться. – Вы проницательны, очень проницательны.
– Никак не могу определить пол. Нет никаких признаков.
– Бесполое?
– Похоже, что бесполое.
– Да это и не столь важно.
– Но как объяснить эту мордочку? Ведь это совершенно точно примат, скорее всего, даже гоминид. Мы даже можем рассмотреть характерные резцы, если приглядимся. А ещё эта его способность издавать чудесную мелодию, которую любезная Саша заставила его исполнять сегодня не менее ста раз. Как всё это можно объяснить, Лука Моисеевич?
– А кому вы, позвольте спросить, дорогой друг, собрались это объяснять? – Лука Моисеевич пристально посмотрел мне в глаза. – Вы ведь не объясняете шутку или весёлый анекдот, когда расскажете его? Пусть даже никто не посмеётся.
– Фацеция.
Яков разливал нам ещё «Зубровки», зажав зубами терпкую папиросу. Яков был двухметровым верзилой моего возраста. Сибирских руд он ещё не копал, но делал всё, чтобы там оказаться. Он высоко закатал рукава своего пиджака, чтобы случайно не влезть ими в консервы.
– Фацеция, – повторил Яков.
– Почтительный Яков, от того, что вы несколько раз повторите слово, смысла в нём не прибавится, – напомнил я.
– Фацеция – это небольшой юмористический рассказ или, если угодно, анекдот, – терпеливо объяснил Лука Моисеевич.
– Ну, вот! А вы не могли ему имя придумать, – засмеялась Шура. – Фацеция! По-моему, красиво звучит.
Лука Моисеевич пожал плечами, Яков коротко кивнул.
– Пусть будет Фацеция, если вам нравится, Шурочка.
Застолье сильно оживилось. Расспросы про Фацецию чередовались с поучительными историями о лагерной жизни Луки Моисеевича и захватывающими байками об уличных акциях Якова, а так же с рассказами о работе Шуры.
– Такого и было размера? – спросил Лука Моисеевич.
– Пожалуй, подрос на сантиметр или два.
– Как себя ведёт, чем питается?
– Может, он мелодию издаёт, как сверчок? Трением ноги о подкрылок?
– Яков, ну прекратите, налейте лучше нам ещё. И ну куда вы рукавом в консервы!
– Пардоньте, пардоньте!
За бурным долгим разговором мы выпили и закусили, потом перекурили, а потом ещё выпили, а потом ещё.
– И долго она так может? – Лука Моисеевич обернулся на входную дверь.
– Всю ночь! – хором ответили я и Шура.
Всё это время Галина Александровна стучала в двери пятками и причитала благим матом. Собственно, чтобы заглушить её, мы и поставили пластинку-рентгеновский снимок.
– Товарищ Щелкопёр! Товарищ Щелкопёр! Я как пока ещё владелица этой комнаты приказываю вам выпроводить своих странных дружков на улицу немедленно! Сейчас же! Это неблагонадёжные люди! Наверняка какие-то жулики и проходимцы! Пусть уходят из моего дома! И прекратите шуметь, уже ночь и все приличные люди спят!
– Вот и вы с богом ступайте спать, любезная Галина Александровна!
– Товарищ Щелкопёр! Выключите немедленно свою бесовскую музыку! Слов я разобрать не могу, но уверена, что эта музыка неблаготворно действует на всех вокруг! Я буду вызывать полицию! Вот прямо сейчас и позвоню! Кстати, товарищ Щелкопёр, вы должны мне плату за ночные переговоры по данному телефонному аппарату! И плату за комнату за прошлый месяц так же! Вы ещё и эту наивную дурочку в плен себе взяли? Да впрочем, она и сама хороша, крашенная идиотка, таскается за вами всюду! Да впустите меня уже! Это моя жилплощадь!
Шура показала в сторону двери самый неприличный жест из тех немногих, которые знала.
– Хороший вы, Яков, внутренний замок придумали, надёжный, – похвалил Лука Моисеевич друга, с достоинством пережевывая бутерброд и глядя, как старуха пытается открыть дверь.
Яков благодарно кивнул. Он вставил ножку табуретки между стеной и дверной ручкой, чтобы дверь никак не можно было открыть.
– Ну, так что, – Лука Моисеевич внезапно и серьезно обратился ко мне с пристальным взглядом. – Когда понесёте на площадь свою тварь? Тварь в хорошем смысле, от слова «творение».
– Ох, Лука Моисеевич, – я даже отодвинулся от него. – Стоит ли?
– Стоит! – сухо и уверенно пробасил Яков, прожевывая корку хлеба.
– Конечно, стоит, ну что вы! – вторила ему Шура.
Лука Моисеевич наклонился ближе ко мне, так что прядь его седых волос упала на старое лицо, и пронзительно почти прошептал:
– Стоит, мой дорогой друг. Пренепременно стоит. Иначе я, и тысячи таких же, как я, зря хоронились в тех шахтах на северах. Зачем же тогда Яков на улицы ходит? Стоит ради наших детей и их детей. Ради наших женщин. Ради свободы, ах, если бы вы знали, как сладка свобода, вы бы не сомневались! Даже там, под Норильском в оковах на ногах я был свободен, как никогда прежде и никогда после. Поймите же, мой друг, если мы замолчим, мы проиграем. В ту же секунду, в тот же миг, – Лука Моисеевич теперь шептал так тихо, что порой просто шевелил губами. – Мы должны петь свою музыку. Стоит, мой дорогой. Иначе они победят. Они так боятся, они так слабы! Они только кажутся несокрушимыми, друг. А знаете, я вам кое-что покажу сейчас. Если уж я… Если уж я делаю это, то вы просто обязаны!
И тут Лука Моисеевич тайком достал из глубины кармана своего пиджака нечто, что показал только мне. Благо, что Шура с Яковом были заняты своей беседой.
– Похоже, это мой последний…
В кулаке старика мирно и спокойно чистил густую шерстку премилый зверёк размером с монету. Я сначала подумал, что это джунгарик – джунгарский хомяк серого цвета, но у него был слишком вытянутый нос, как у землеройки. И я смотрел на него, как завороженный, это было так трогательно, что мои глаза намокали, а когда я сумел оторвать взгляд от зверька и поднять его на Луку Моисеевича, то не смог передать всего восхищения.
– Он… он великолепен, Лука Моисеевич!
– Ох, знали бы вы, мой дражайший друг, откуда его пришлось извлечь! – Лука Моисеевич засмеялся. – Прямо оттуда, да! Хулиган прятался под большой ягодичной мышцей, между малой и грушевидной, понимаете? Примерно половину моего срока там ждал! Спасибо Якову, который любезно согласился помочь мне извлечь его по возвращению!
Лука Моисеевич быстро спрятал зверька обратно.
– Ваш первый, а у меня последний, – Лука Моисеевич подмигнул.
– Может, и не последний? – с надеждой спросил я.
– Нет, мой друг, последний. Сердцем чувствую.
Я был одновременно так восхищен и рад за Луку Моисеевича, особенно когда увидел, как он счастлив, глядя на своего джунгарика-землеройку. Но вместе с тем мне стало тоскливо и обидно от того, что мой больше походил на мокрицу и был не так красив. И было печально, что, быть может, у меня никогда такого прекрасного и не будет. Впрочем, у меня и такого колоссального опыта, как у Луки Моисеевича, не было. Я отгонял от себя эти мысли, если и завидую Луке Моисеевичу, то только по-хорошему, он заслуживал того, что имеет, даже большего. Старик заслужил своего прекрасного зверька.
Мы пили, курили и ели до самого утра, а потом гости стали расходиться, по очереди попрощавшись с Фацецией, которая проводила каждого грустной песенкой и таким же взглядом.
– Лука Моисеевич, ваша пластинка, – напомнил я.
– О, нет, мой друг, это вам подарок от меня за гостеприимство. Только храните её пожалуйста где-нибудь… хм, ну не на самом видном месте, понимаете?
– Ой, Галина Александровна, доброго вам утречка, а мы и не слышали, что вы здесь! – Яков будучи вдвое больше неё быстро протиснулся к выходу.
Шура немного задержалась у выхода, ковыряя ногтем краску на дверном косяке. Я поцеловал её в щёку и за всё поблагодарил. Фацеция перебежала с моей руки на её руку и обратно.
Город Хворостовский вечно был затянут густым смогом настолько, что порой на зубах скрипело песком, а местные жители почти никогда не видели голубого неба и белого снега, ведь солнце являлось только изредка и только в виде бледного размытого пятна. Так получалось из-за большого обилия заводов и фабрик в окрестностях, которые постоянно дымили долговязыми трубами. На заводах производили алюминий и германий, которые продавались в другие страны. А дым никогда не рассеивался из-за особого положения Хворостовского: ветер просто не задувал сюда. И ничего бы страшного, если бы народ поголовно не помирал бы от болезней сердца или грудной болезни, а перед этим обстоятельно пострадав от какой-нибудь астмы.
Большинство жителей, кстати, работали на этих заводах, они шли на завод, когда ещё было темно, и возвращались с завода, когда уже было темно. Волочили свои горбы в основном пешком, мало кого можно было встретить на гужевой повозке или верхом на лошади, хотя по косым рельсам нет-нет да и пробегал с грохотом старинный, рыжий, как таракан, трамвайчик. Брусчатка на дорогах была совершенно разбита, кособокая, а стоило пройти дождику, так дороги превращались в русла бурных рек, потому что ни одна ливнёвка не работала. Свинцовые пятиэтажки со стихийными свалками в углу двора были непонятно расставлены, как на дурака, как брошенные игральные кости.
Днём же все те, кто не работал, или те, кого отчислили из университета, словом, всякий сброд, бездельники, бродяги и жулики шли на Театральную площадь. Тут можно было продать какой-нибудь ненужный хлам: книги, саженец герани или ещё слепых котят, что принесла кошка. А то и прикупить чего подешевле. Вот хоть бы тот фермер, который приехал из соседней деревни, вывалил на прилавок бледную свиную тушу, которую тут же облепили жирные мухи, потому что мясо было ещё тёплым. Деревня всегда жила сытнее городов. Или вон промерзшая старушка выкатила свои мутные соленья в трехлитровых банках. Можно сказать, ярмарка! К слову, на Театральной площади имеется возможность купить и то, чего нет в обычном магазине: музыкальные пластинки, заграничный алкоголь, табак, неблагопристойные картинки; главное знать, у кого спросить. Здесь у вас не грех вытащить кошелек из кармана, если зазеваешься. Это и за грех не считается – сам виноват. Так же тут дозволяется просто поглазеть на других людей, услышать последние городские сплетни, а по большим праздникам на большой сцене устраивают концерты с песнями и плясками.
Вот и я натянул поглубже вязаную шапку, поднял повыше воротник старинного пальто и, топча свежевыпавший мокрый снег изношенными ботинками, пришел на площадь. Шнурок на одном из башмаков совсем стёрся, и каждый раз завязывая его, я боялся порвать. За пазухой согревал своим телом Фацецию, завернутую в тряпочку. Выбрал себе скамеечку с краю, смахнул рукавом с неё снег, расстелил у ног картонку и пустил на неё Фацецию. Сам закурил, растирая руки на морозе. Я никогда не делал этого и плохо представлял себе, что от меня требуется. Мне кое-что рассказывал Лука Моисеевич, но с тех пор многое поменялось. И Фацеция, видимо, замерзла, снег ей не пришелся по вкусу, поэтому она спрятала лапки и голову под свой панцирь. Я даже стал тревожиться о том, чтобы не простудить её.
– Что это? – первым подошел и спросил мальчик-бездомник.
Ему было лет шесть, на нём была худая курточка и кепка-восьмиклинка, а щёки размалеваны в саже.
– Дай полрубля? – попросил он, не дожидаясь ответа.
– У самого нет, – честно ответил я.
– Тогда докурить дай, – настаивал беспризорник, сплюнув себе под ноги сквозь зубы.
– Тебе лет-то сколько, можно ли уже курить?
– Молода лошадь, да норов стар, – снова сплюнул он.
– Иди отсюда, кусочник!
Мальчик отбежал подальше и уже оттуда стал осыпать меня кабацкой бранью.
Затем мимо прошла компания дворовых девок в ярких юбках и рваных чулках под ними, которых, конечно, увидеть было нельзя; они покосились на мою Фацецию: кто-то поморщился, кто-то посмеялся.
– Что это у тебя? – остановилась одна из них, у которой были большие голубые глаза. – Химера какая-то!
– Фацеция, – пожал плечами я и улыбнулся даме.
– Фацеция? Хороша б была для супа специя! – срифмовала другая девка с пухлыми губами и закатилась смехом, довольная своим острословием. – Пойдём лучше с нами? Покажу такого, прелестник, чего ещё не видел! Если есть пятак, конечно.
– Нет пятака, а так бы пошел, непременно!
На том и простился с девками.
– Продаешь?
Это был спекулянт, он такой высокий, что шапка валится, и кривой, как турецкая сабля, с грязными длинными патлами, шрамами на лице и большими желтыми зубами, которыми чавкал табак.
– Не знаю, – я посмотрел на Фацецию, она так и лежала, сжавшись в панцирь. – А сколько дашь?
Спекулянт тоже посмотрел на картонку, продолжая жевать.
– Два рубля дам.
Цену, которую называют спекулянты, смело можно умножать на пятьдесят, а то и на сто.
– На два рубля даже сигарет не куплю.
Спекулянт ещё раз посмотрел на Фацецию, а потом на меня.
– Ну три. Нет? Ну и сиди. Потом сам за целковый принесешь, – сказал он и ушел.
– Гадость какая! – иная старуха в чёрном ватнике и валенках остановилась прямо напротив меня и уставилась на мою Фацецию. – Гадость! Порождение самого не к ночи будь помянут!
Она даже замахнулась была своей клюкой, но я вовремя подхватил свою Фацецию на руки.
– Ну, так ступайте дальше, не смотрите.
Но старуха продолжала:
– Гадость! И лапами так мерзко шевелит. Страшная какая! Прусак какой-то!
– Иди куда шла, старая! – заступился за меня прохожий старик. – А вы, молодой человек, не слушайте её, она ничего не понимает. Дозвольте рассмотреть? Я ведь, с позволения сказать, любитель…
И старик поправил очки на носу и наклонился ближе к моим рукам.
– О! А это у вас чудесная работа, – посмотрел он на меня. – Прекрасная. Такое теперь редко увидишь! Сами или купили?
– Сам.
– Ого! В вас искра божья, без сомнения. А всяких больных душою не слушайте, не обращайте на них ровным счетом никакого внимания. Их так много стало в городе в последние годы… Эх!
– Спасибо, – растеряно пробормотал я. – Не купите?
– За что мне? – старик засмеялся. – Мне б на хлебец сегодня насобирать.
Словом, люди проходили мимо, останавливались, спрашивали, смотрели.
Один бывший студент бросил взор надменно и сказал, что видел таких уйму, когда бывал за границей, что в этом существе нет ничего удивительного.
– Тоже мне невидаль! – заключил он и пошел дальше.
– Иди-иди, кутила, – не выдержал я и крикнул ему вслед. – Пока не напоролся на мешок с кулаками.
Чудно, но противный вид Фацеции не отталкивал девушек, даже напротив, они подходили чаще других, просили погладить или поиграться с ней, просили взять на руки. А Фацеция благодарила их своими красивыми грустными песнями.
Так я ходил на площадь целую неделю, пока в субботний день со мной не случилось одного весьма и весьма неприятного обстоятельства.
Я как раз развлекал девок-курсисток, заставляя Фацецию петь для них раз за разом. Было морозно этим декабрьским днем, поэтому все сгрудились около меня, согреваясь дыханием, я курил одной рукой и громко фанфаронил на всю Театральную. Фацеция так же была рада услужить дамам. Внезапно здоровенная рука схватила меня за шкирман.
– Ага! – услышал я бас за спиной.
Все быстро разбежались, а я мигом сунул Фацецию в карман. Меня повернули, и я увидел перед собой большой серый зимний бушлат с лычками на погонах. Тут же вспомнились все наставления Луки Моисеевича на данный случай.
– Попался?
– Чего? – растерялся я.
– А, ничего! Попался, говорю! – сержант двигал квадратной челюстью.
Тут я вспомнил о вежливости, которая часто меня спасала.
– Я весьма извиняюсь, господин городовой. Очевидно, случилось некоторое непонимание? Но я спокоен, ведь вы, как доблестный блюститель порядка, легко в этом разберетесь! Не напрасно же мы со своих скромных налоги платим, правда? Позвольте представиться: товарищ Щелкопёр. У меня и документики соответствующие все в наличии, – я полез во внутренний карман своего пальто. – Должен сразу вам заявить, что гражданин я законопослушный, вышел вот на променаж, свежим воздухом подышать, так сказать-с.
– В отделении разберёмся! – городовой толкнул меня впереди себя.
Лука Моисеевич постоянно говорил, что проще всего договориться с городовым, чем с его начальником. Но у меня не было ни копейки, чтобы мочь договориться.
– Но позвольте же, господин полицейский, – пытался я сказать, впрочем, продолжая идти. – Ежели мы с вами отправляемся в полицейское отделение, стало быть, я задержан? Тогда позвольте узнать хотя бы за что? Ведь в своем поведении я не заметил никакого правонарушения! Но даже если и есть за мной какое-то прегрешение и вина, то я готов исправиться на месте. Разве вам мало работы с настоящими жуликами и ворами? Что же вы хватаете приличных и благопристойных людей? Тратите своё и наше время! Да постойте же вы! В конце концов, я прошу вас представиться, как положено, предъявить соответствующие документы в развернутом виде и значок с личным номером, а так же уведомить меня о моих правах, как того требует правило Миранды!
Городовой даже остановился и сдвинул свою шапку-ушанку на затылок. У него была короткая стрижка с ранними глубокими залысинами.
– Ты что, умный самый?
– А вы хотите, чтобы я был глупым? – не сдержался я.
Городовой снова схватил меня и толкнул силой, так что я рухнул на четвереньки посреди площади. Заживавший шёв снова заболел и, кажется, закровил. Я испачкал и намочил о снег колени, и мне стало так стыдно, будто меня побили не на глазах всей городской площади, а на глазах любимой дамы. Я выругался про себя, встал и пошел, куда велели, не говоря больше ни слова.
До охранки мы шли пешком и довольно далеко. По дороге я подумал, а не выбросить ли мне незаметно Фацецию в сугроб. Это, кстати, был тоже совет Луки Моисеевича. Он так и говорил: «Как заметишь фараонов, первым делом скидывай своё чёртово мнение, а потом сразу беги». Но сам он так не поступил, и я не стал. Не стал, не потому что шел впереди господина полицейского, и он бы непременно это заметил. Не стал, потому что не мог бы проститься со своей Фацецией вот так.
Мы вошли с городовым в ближайшее отделение полиции. Везде были решетки: на окнах и на дверях. Пол был натоптан грязью. В узком желтом коридоре стояли узкие лавочки вдоль стен.
– Тут ожидай, – подтолкнул меня городовой к свободному месту.
Свободное место оказалось между бритым щербатым парнишкой в ярко-оранжевой кофте с капюшоном и девушкой. Девушка была весьма странного вида: одета во всё черное, а лицо ей обильно осыпано белилами, но помада очень тёмная, а волосы её туго заплетены в косу на затылке.
Городовой тут же в коридоре снял бушлат и шапку. Я с удивлением обнаружил, что казавшийся громадным в куртке городовой, предстал теперь совершенно хилым и тщедушным, с узкими плечами и круглым животиком, будто страдал рахитом с детства. Небось, я смог бы удрать от него, если бы вырвался там, на площади. Городовой зашел в какой-то кабинет, и пока дверь не закрылась, я услышал только:
– Разрешите доложить?
– Докладай.
Городовой пропал за дверью на четверть часа.
– Ну, а вы любезный тут чего? – решил я убить время, обратившись к щербатому парню в оранжевой кофте.
Ох уж эти случайные собеседники. Я отнюдь не был болтуном, но неловкое молчание не давало мне покоя.
– Да я просто пел, – он виновато улыбнулся и схватился за голову.
– Если хотите знать, это вопиющая ошибочность. В музыке нет ничего противоправного. Меня вот тоже, знаете ли, без вины виноватым сделали.
– Так тут все ни душой, ни телом не виноваты, – снова улыбнулся парень.
– Надеюсь, сейчас вышестоящее начальство во всём разберется.
– Ага, разберётся. Догонит и ещё раз разберётся.
Девушка с белилами на лице была настолько мрачная и нелюдимая, что с ней я беседу завязать не решился, хотя она и виделась мне привлекательной.
Возле нас остановились два больших генерала. В звёздах я не разбирался, но понял об их высоком начальстве по их толстоте. Один совсем, как шар, поперек себя шире. Ему было очень тяжело так ходить, ещё и с застегнутой на все пуговицы белоснежной рубашкой, поэтому он краснел и постоянно вытирал пот платком.
– И вот понимаешь, бес меня попутал, соблазнился я! – жаловался шар тому, кто был поменьше. – А как не соблазниться? Молода, стройна… зад у неё такой, будто сам господь лепил, прости боже, ноги от самых от ушей. Понимаешь? Как не соблазниться? Ну и жонка моя, благоверная, Любава разнюхала обо всём, об залётке моей, о Настюше. Или донёс кто? Мало ли, может, и по службе кому дорожку перешёл. Разнюхала, значит, вещи мои собрала, и гонит теперь прочь, понимаешь? А как мне без дому теперь? Я без жинкиного борщеца не могу. Она такой борщ варит! Краснющий! Да со сметаной жирнющей!
Шаровидный генерал вытер пот платком, и они пошли дальше по коридору.