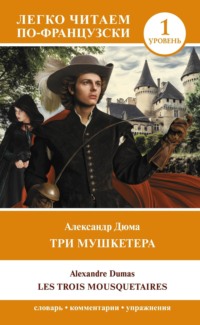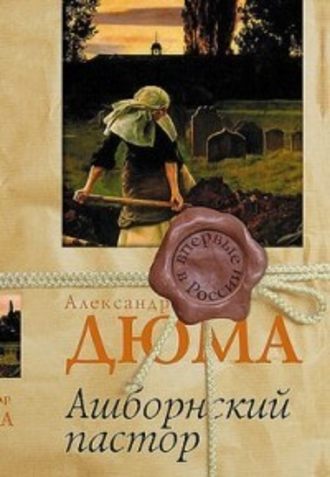 полная версия
полная версияАшборнский пастор
– По крайней мере, это, быть может, помешало бы болезни развиться. Так что, если вы мне верите, соберите все ваши средства…
– Все наши средства, сударь! – вскричала я в отчаянии. – Но все наши средства не превышают трех гиней!
– О несчастная женщина! – в свою очередь воскликнул врач. – Что же я наговорил?! Что я наделал?!
– Таков ваш долг, сударь… Вас, людей науки, не касается, беден больной или богат; вы указываете, что необходимо предпринять, вот и все. Итак, теплые края, юг Франции или Италия, иначе моя дочь погибнет?
– Я этого не говорю… Если только она сможет вернуться сюда… воздух этой долины, зажатой двумя горами, не плох. К тому же заботы любящей матери – это уже великое дело в глазах Всевышнего.
– О, этими заботами, сударь, дочь не будет обделена, пусть даже мне придется просить милостыню! В конце концов, кто откажет мне в посильной помощи, когда я протяну руку и скажу: «Будьте милосердны, я мать и прошу ради дочери!»?
– Хорошо, – сказал врач, – вижу, что, к счастью, появился здесь вовремя и обращаюсь к сердцу одновременно нежному и сильному. Насколько в моих силах, я буду вам помогать моим лечением, моими визитами, моими советами; но… вашей дочери необходимо вернуться сюда, и чем скорее, тем лучше.
– О! – воскликнула я. – Только этого я и прошу, сударь; причем сразу же, сейчас же… Если бы вы знали, насколько этот наказ отвечает моим желаниям и как ваша воля согласуется с моими чувствами! Но вернут ли мне мою дочь господин и госпожа Уэллс?
– Это моя забота… Только пусть вас не пугает то, что я им скажу ради того, чтобы они решили разорвать контракт с мисс Элизабет, и особенно постарайтесь сделать так, чтобы она ничего не узнала об угрожающей ей опасности.
– Это будет тем более легко, – заверила я врача, – что она ни о чем не подозревает.
Я открыла письмо, которое держала в ту минуту, когда вошел врач, и, дочитав его до конца, сказала ему:
– Взгляните-ка! И прочла:
«До свидания, матушка; мне все лучше и лучше, и я очень счастлива у господина и госпожи Уэллс».
– Да, – прошептал врач, – это великая благодать, что Бог умиротворяет несчастных, которых он поразил этой болезнью; его милосердная рука мягка даже по отношению к тем, кого она убивает!
– Кого она убивает! – повторила я. – Значит у вас, сударь, нет никакой надежды на спасение моего ребенка?
– Ни в коем случае не отчаиваться – наш долг, сударыня… Когда вы хотите, чтобы ваша дочь возвратилась сюда?
– Сегодня же, если возможно… Судя по вашим словам, нельзя терять ни минуты.
– Сегодня это просто неисполнимо; завтра это будет трудно, а послезавтра – возможно.
– Послезавтра? – воскликнула я. – Но это очень долго!
– А когда вы рассчитывали увидеть дочь?
– Что ж, вы правы; сердце непоследовательно, тем более сердце матери: оно чувствует, но не рассуждает. Так когда же она сможет вернуться из Милфорда?
– А как она туда добралась?
– Я сама ее туда привела. Увы, дорогое мое бедное дитя, я хотела не расставаться с ней как можно дольше; она сидела верхом на осле, а я шла рядом, но часть пути она проделала пешком.
– Тогда ваша дочь была еще сильна?
– О Боже мой, значит, она так ослабела за эти два месяца?
– Я ничего не утверждаю; я задаю вопрос самому себе.
– Я пойду… я пойду забрать ее; я ее поддержу, я понесу ее на руках, если потребуется.
– Хорошо. Послезавтра в два часа пополудни будьте на окраине города; я передам вам вашего ребенка, и с того дня ухаживать за ней будете вы.
– Ах, сударь, – удивилась я, – кто же внушил вам беспокойство о нашей участи?
– Мой долг врача, сударыня. Ваша дочь оказалась одинокой, потерянной, отторгнутой от той обстановки, где она жила раньше и где, вероятно, она сможет еще пожить; то ли случайно, то ли по воле Провидения я встретил ее на моем пути; я вновь приведу ее к отправной точке. Постарайтесь сделать все возможное, чтобы она забыла два месяца, проведенные в доме господина Уэллса – два месяца без тепла, два месяца без солнца! Это очень тяжело для растения столь нежного и хрупкого.
– С Божьей и вашей, сударь, помощью я сделаю все, что смогу.
– Что же, в таком случае послезавтра в два часа пополудни будьте на окраине Милфорда.
И с этими словами врач удалился.
А я несколько минут не могла даже шевельнуться.
Дверь за неожиданным гостем закрылась; я оказалась в одиночестве, как это было до его прихода, все еще держа в руке письмо дочери.
Действительно ли ко мне приходил человек или передо мной было одно из тех мрачных привидений, что предвещают бедствия?
Этот человек не оставил ни малейшего следа; голос, звучавший у меня в ушах, да тревога в моем сердце – вот и все, что осталось от его визита.
Но, надо сказать, за всем этим у меня в душе трепетало какое-то радостное чувство.
Я вновь увижу мое дитя, я смогу обнимать Бетси сколько мне захочется и по своей воле смогу прижимать ее к груди; я больше не увижу перед собой длинное и худое лицо служанки, то и дело произносившей: «Мисс Элизабет, примите во внимание! Мисс Элизабет, поостерегитесь!»
Так что начиная с этой минуты я буду заниматься только моей Бетси.
Все предметы, которые она оставила дома, возвратились на свои прежние места.
Утром того дня, когда она должна была вернуться, все в доме ждало ее, как будто она только что вышла из комнаты и вот-вот должна была вернуться.
Намного раньше времени я вышла из дома, намного раньше времени я сидела под кустом на обочине дороги, устремив взгляд на поворот дороги, из-за которого должна была появиться Бетси.
Наконец, пробило два часа.
Я встала.
По прошествии нескольких минут показалась Бетси.
Тщетно врач советовал мне сохранять спокойствие – не ради себя, а ради нее.
Увидев дочь, я сразу же забыла этот совет; я помчалась к моей девочке с распростертыми объятиями, обняла ее, прижала к груди; я приподнимала ее и ставила на землю, лишь бы она была в моих руках; мои губы искали ее рот, ее глаза, ее лоб.
Губы ее были горячи, глаза – закрыты, лоб – влажен.
Боже мой, ее бедное сердце не смогло вынести пыл моего сердца; не произнеся ни слова, не испустив ни единой жалобы, Бетси потеряла сознание.
Как и по дороге в Милфорд, когда ей хотелось идти пешком, она повисла на моей руке; то был единственный признак, по которому я заметила, что жизнь на время ее покинула.
– Это именно то, чего я опасался, – пробормотал врач, – но это именно то, что и должно было произойти… Не допускайте, чтобы она переходила от температуры слишком низкой к температуре слишком высокой! Суровость господина Уэллса ее оледенила, а ваша любовь ее сжигает.
Взяв дочь на руки, я отнесла ее к кусту, села и положила ее себе на колени.
Врач вынул из кармана флакончик и дал Бетси понюхать.
Лишь одно мгновение продолжалась борьба в этом хрупком организме; можно было бы сказать, что девочка прошла уже полдороги к смерти и теперь колебалась, возвращаться ли ей назад.
Что меня успокоило и, напротив, – странное дело! – встревожило врача, так это то, что румянец ее щек, сгустившийся на скулах, ничуть не побледнел и теперь казался даже более ярким.
Наконец губы ее дрогнули; она вздохнула, приподняла голову и вновь опустила ее, затем пробормотала несколько слов, и мне почудилось, что она зовет меня-.
– О да, дитя мое, – воскликнула я, – я здесь, я здесь! Где бы ты ни была, зови меня всегда, и где бы ты ни была, пусть даже в могиле, я к тебе приду!
– Тише! – попросил меня врач. – Она начинает слышать.
И действительно, Бетси открыла глаза, и взгляд ее несколько мгновений скользил по облакам, среди которых она словно искала Бога, быть может только что говорившего с ней во время этого сна жизни; затем она перевела взгляд на землю, заметила меня, улыбнулась, подняла руки, сомкнула их вокруг моей шеи и, с нежностью приблизив свое лицо к моему, прошептала:
– Матушка! Добрая моя матушка!
Слезы брызнули из моих глаз, совсем как в то время, когда маленькая Бетси, покачиваясь на лужайке, усыпанной маргаритками, отчетливо произнесла эти слова в первый раз.
– О моя Бетси! – воскликнула я в своего рода неистовстве. – Дитя мое дорогое, любимая моя дочь, так ты… значит, ты со мной!
И мне показалось, в самом деле, что после жестокой схватки с какой-то злой силой, я, наконец, отвоевала у нее своего ребенка.
Вмешался врач:
– Да, вот она, ваша дочь; я вернул вам ее… Теперь ни в коем случае не забывайте, что всякое волнение для нее губительно; относитесь к ней как к одной из этих прекрасных лилий, которым во вред как избыток холода, так и переизбыток тепла; для Бетси опасна всякая чрезмерность, даже чрезмерность вашей любви.
Но я его едва слушала; Бетси полностью пришла в себя; она меня видела, она жила, она разговаривала.
И голосом, и взглядом она поведала мне о том, что ей пришлось пережить за два месяца, и я слушала ее с упоением.
Какая это невыразимая музыка для уха матери – голос ее ребенка!
Врач сунул мне в руку какую-то бумажку: то было предписание относительно режима, которого должна была с моей помощью придерживаться Бетси; затем, давая нам понять, что уже пора в путь, он взял за повод осла и подвел его к нам.
Потом он извлек из кармана монету и дал ее мальчику, который должен был доставить животное обратно в Милфорд.
И, сделав прощальный наставительный жест, врач удалился.
Видела ли Элизабет, что сейчас произошло? Заметила ли она, что доктора уже нет с нами? Этого я не знаю.
Мне казалось, что у бедного ребенка если и остались какие-то силы, то их хватало лишь на то, чтобы пережить не более одного впечатления сразу. Сначала она использовала эти остатки сил, чтобы овладеть своими чувствами, а затем – чтобы возвратиться ко мне; все, что она была способна делать, – это жить и любить меня; казалось, что помимо этого она ничего не видит и ничего не слышит.
Я посадила Бетси на осла, и мы отправились в путь, причем она не спросила, отчего нет с нами нашего спутника и что с ним стало.
Правда, ею овладело что-то вроде лихорадки; способность чувствовать, на короткое мгновение покинувшая все ее тело, теперь накатывала на нее волнами; каждая жилка ее тела трепетала так, как перед грозой дрожат струны арфы; можно было бы сказать: едва существовавшая прежде, теперь она жила сверх меры!
В эти минуты Бетси говорила быстро, лихорадочно; она рассказала мне о своем мучительном пребывании в доме г-на Уэллса, мучительном для нее, предназначенной и по своей натуре и по своему воспитанию соприкасаться с жизнью и любовью; ведь пожаловаться хоть кому-нибудь из обитателей этого дома для нее было невозможно! Просто она жила с существами из чуждого ей мира; одушевленная и трепещущая плоть, она внезапно попала в ледяной дом, населенный ледяными статуями.
И хотя было что-то тревожное в этой речи, быстрой, прерывистой, порою хриплой, я ей поддалась и спрашивала себя:
«Так почему же врач говорил, что она слаба? Если бы я говорила добрый час так, как она, я устала бы до смерти!»
О нет, она молода, она полна сил; она будет жить!
Мы добрались до Уэстона.
На окраине деревни Бетси в нетерпении хотела слезть с осла; она словно боялась, что не успеет дойти до дома. Она спешила оказаться в нашей убогой комнате, у которой не было иного горизонта, кроме кладбищенской стены, и другого вида, кроме вида на могилы.
Я попыталась уговорить ее идти помедленней, но это оказалось невозможно.
– Идти помедленней? – спросила она. – Но почему? Ты что, думаешь, я больна? Напротив, я никогда еще не чувствовала себя лучше чем сейчас; я сильная; мне кажется, что у меня выросли крылья и что стоит мне только пожелать – я взлечу в небеса!
Увы, у бедного ребенка если и были крылья, то крылья лихорадки, крылья пламени, обжигавшие то тело, которое они несли.
И правда, несмотря на мои настояния, Бетси шла впереди, ускоряя шаг и жестом руки поторапливая меня:
– Быстрее, быстрее же, матушка!
Я шла за ней, но обеспокоенная, и даже более чем обеспокоенная, – напуганная.
В силе, которая поддерживала Бетси, было что-то таинственное, а в состоянии, которое она переживала, – что-то фантастическое.
Мне казалось, что я вижу скользящую передо мною тень, а не тело, живущее человеческой жизнью – обычной, всем нам привычной.
Боже мой, может, она уже умерла и, благодаря какому-то чародейству, более могущественному, чем сама смерть, теперь жила со мной ее тень?!
Я дошла до того, что желала Бетси возвращения той слабости, которая вызвала у меня столько страхов.
Вскоре мое желание осуществилось самым жестоким образом!
Дойдя до порога, где когда-то ей, совсем еще маленькой, так часто доводилось видеть своего отца и меня, Бетси стала на колени; затем, опустив голову, она коснулась губами влажной земли.
Потом, выпрямившись, она промолвила:
– На кладбище! На кладбище! Матушка, идем скорей на кладбище! Казалось, она чувствует в себе ровно столько сил, сколько хватит, чтобы добраться до кладбища.
Я последовала за ней, как это делала по дороге к дому; ведь я понимала, что она хочет поклониться могиле отца, могиле, которую некогда она навещала ежедневно и на которой она посадила свои самые прекрасные кусты роз.
Увы, в неустанных заботах о дочери, постоянно устремляя мысленный взор к Милфорду, я проявила небрежение к этой могиле и почти забыла о ней.
Бетси пошла по улочке, соединявшей пасторский дом с кладбищем, – узкой, влажной, со стенами, поросшими мхом; то был настоящий переход от жизни к смерти.
Затем Бетси толкнула деревянную калитку, поворачивающуюся на ивовых петлях, и побежала среди высоких трав, волнами зелени повторяющих могильные бугры.
Она была одета во все белое, и, хотя стоял ясный день, я не могла преодолеть чувство страха, заставлявшее меня видеть в ней не живого человека, а лишь тень.
Бетси свернула направо к могиле отца.
Возле нее, окруженное невысокой оградой из потемневшего дерева, сохранялось место для меня.
А между нашими упокоениями оставалась полоска земли; наша дочь не раз говорила, что здесь, когда настанет ее черед, она хотела бы спать в вечности, не расставаясь с нами.
Бетси перешагнула через ограду так легко, как будто у нее и в самом деле были крылья или, вернее, как если бы ее кажущееся бесплотным тело обладало даром проникать сквозь препятствия, не преодолевая и не обходя их.
Она преклонила колени и произнесла молитву.
На могиле выжил только один розовый куст, а на нем – только одна белая роза.
Закончив молитву, Бетси в том лихорадочном состоянии, которое возбуждало ее, взяла и сорвала розу.
Но, когда она поднесла цветок к губам, а затем к сердцу, болезненный крик вырвался из ее груди, короткий, пронзительный, будто исходящий из раненого сердца.
Я бросилась к Бетси… Она лежала как раз посередине между могилой, где покоился ее отец, и землей, где предстояло покоиться мне; моя дочь лежала точно на том самом месте, которое она предназначила себе.
Обморок!
Я понимала, что это обморок: такая натура, как у моего бедного ребенка, могла выйти из состояния крайнего возбуждения только через беспамятство.
Но девочка закричала.
Что означал этот крик?
Я склонилась к Бетси и осмотрела ее.
На ее левом боку краснело небольшое пятно крови.
Когда она прижимала могильную розу к своему сердцу, длинный шип уколол ее в грудь.
Наверное, именно боль от этого укола заставила Бетси вскрикнуть.
Впрочем, она и сейчас сжимала розу в руке.
Я взяла дочь на руки и понесла ее в дом.
У калитки, выходившей на улочку, я заметила обоих пасторских детей. Следуя за нами, они видели все, что произошло; теперь они бежали впереди нас, чтобы рассказать обо всем отцу и матери.
Пастор и его супруга смотрели, как мы проходили мимо них.
Дети тоже наблюдали за нами, но наполовину укрывшись за дверью и посмеиваясь.
Ни те ни другие не предложили помочь нам; я услышала только, как женщина сказала мужу:
– Нелегко же нести ее с кладбища!
XXI. Что может выстрадать женщина (Рукопись женщины-самоубийцы. – Продолжение)
Я положила Бетси на ее кровать и стала перед ней на колени.
Минуту спустя она вздохнула, приоткрыла глаза и вернулась к жизни вполне спокойно, как это уже не раз с нею случалось после подобных обмороков.
Только каждый раз мне казалось, что у Бетси после обморока во всем теле появляется немного больше слабости, а лицо еще больше бледнеет.
Впрочем, придя в себя, Бетси, похоже, совершенно забывала эти своеобразные странствия в страну мертвых.
Открыв глаза, она выглядела просто счастливой оттого, что вновь находится в нашей убогой комнате, что видит меня рядом, и радость, озарившая ее лицо, заставила меня забыть о его бледности.
Затем Бетси с улыбкой извлекла из кармана маленький кошелек; в нем хранились три гинеи и несколько шиллингов.
То была точно отмеренная цена времени, проведенного моей дочерью в доме г-на Уэллса: два месяца, два дня, двадцать семь часов, двенадцать минут и сорок пять секунд.
Строгий счетовод подсчитал все, вплоть до секунд; монетка наименьшего достоинства соответствовала трем четвертям минуты.
Всего у нас оказалось что-то около пяти с половиной фунтов стерлингов. Так что теперь я могла, по крайней мере, в первое время, спокойно ухаживать за моим ребенком и выполнять предписания врача.
Впрочем, они не были слишком сложными. Врач пообещал при первой же возможности навестить нас и тогда, в зависимости от степени выздоровления или развития болезни, изменить лечение.
А пока Элизабет должна была пить вяжущие настои растительного или животного происхождения; есть ей надо было немного, по преимуществу мясные желе, и запивать еду теплой водой.
Однако врач не думал, что в первый месяц после возвращения Элизабет у нее будут наблюдаться иные проявления болезни, чем те, с которыми мы уже были знакомы.
И правда, если не считать странного, неожиданного, неслыханного происшествия, все шло так, как предсказывал доктор.
Происшествие, которое я имею в виду, – это укол, который Бетси получила от шипа розы, выросшей на могиле: укол был незаметный, но ранка от него оставалась постоянно открытой и никак не заживала.
В спокойном состоянии больной если и можно было что-то разглядеть на месте укола, так это лишь мертвенно-бледный кружок вокруг него.
Но при каждом приступе кашля оттуда проступала капля крови, в первое время розовой и алой, но по мере развития болезни становившейся все более бледной и, если можно так сказать, все менее живой.
Таким образом, в этом медленном движении Бетси к могиле было нечто сверхъестественное, что, похоже, заранее давало понять: всякое сопротивление бесполезно, а всякая борьба – едва ли не кощунственна.
Можно было бы сказать и так: в то время, когда я своей рукой удерживала дочь в земной жизни, ее отец мертвой рукой влек родное дитя к могиле.
Месяц протек без серьезных болей, но слабость ее все возрастала.
В первые дни Элизабет могла еще спускаться по лестнице, выходить из дома, делать несколько шагов за деревней. Затем мало-помалу ее прогулки становились все короче.
Крестьяне смотрели на нас, когда мы проходили мимо, и только покачивали головой. Нужно отметить, что в выразительном и метком языке этого края люди находят для всего точное определение.
– Вот, – говорили люди, указывая на нас обеих, – вот дама в сером и живая покойница.
И они сначала выходили к воротам, чтобы посмотреть, как мы проходим мимо, а затем, когда мы удалялись, возвращались в свои дома.
Не знаю, какой суеверный страх связался в их сознании с нами.
Быть может, они считали болезнь Элизабет заразной, а ведь в Англии было известно, что чахотка – болезнь роковая.
Что касается того кровавого укола в грудь в области сердца, никто о нем не знал. Как для того, чтобы сохранить секрет моей дочери, так и в целях экономии, я сделалась ее прачкой и ее белье стирала сама.
И все же Бетси имела немного времени для отдыха – то было время сна. Только Всевышний и я, единственные, кто видел ее спящей, могли знать, как она красива.
В этом сне, когда он не сопровождался лихорадкой, безгрешное дитя, казалось, созерцало Небеса.
Хотя прекрасные небесно-голубые глаза Бетси были закрыты, лицо ее приобретало ангельское выражение, как если бы его уже озарял свет, исходящий от лика Господня.
К несчастью, этот небесный сон почти всегда овладевал Бетси днем, а ночи, наоборот, были тревожными и лихорадочными, и почти никогда такой ночной сон не завершался естественным образом.
Похоже, эти недобрые дети пастора, не знаю почему возненавидевшие меня, возможно из-за моего права как вдовы бывшего здешнего священнослужителя оставаться в пасторском доме вопреки желанию их родителей, – так вот, похоже, эти недобрые дети, догадываясь, что Бетси в утренние часы спит и что сон этот, по-видимому, благотворен для нее, именно тогда удваивали силу своих радостных криков и шумной возни.
Часто брошенный со двора мяч разбивал оконные стекла или брошенный с лестницы камень попадал в дверь.
Тогда от звона стекла, разбившегося о каменные плиты, или от удара камня о деревянную дверь моя бедная девочка внезапно просыпалась и рывком поднималась; ее охватывал смертельный кашель, и от этой мучительной встряски она возвращалась к жизни и страданиям.
Но когда я пошла пожаловаться родителям мальчишек, те заявили:
– Мы не виноваты в том, что наши дети чувствуют себя хорошо, тогда как ваша дочь болеет; впрочем, если жилье вас не устраивает, не мы же вас здесь удерживаем… Найдите себе где жить в другом месте!
В конце месяца нас навестил врач.
Прошла уже неделя, как Элизабет перестала выходить из дому и не в состоянии была даже сойти вниз по лестнице.
Она сидела в моем большом кресле у окна, выходившего на кладбище.
И тогда взгляд ее был неизменно устремлен к тому месту, что было предназначено нашему семейству; она смотрела на могилу отца; смутная улыбка бродила по лицу девочки; она чуть кивала головой и еле заметно шевелила губами.
Казалось, она видит то, что не видят наши обыкновенные человеческие глаза, и тихо беседует с духами из другого мира.
Странные диалоги почти всегда заканчивались приступом кашля, а приступ кашля – появлением капли крови, все более и более бледной.
В конечном счете произошло нечто необычное и, похоже, имевшее прямую связь с тем незаживающим уколом.
Кровавые харканья внезапно прекратились.
Когда врач вошел в комнату, Бетси сидела у окна: взгляд ее был устремлен в сторону кладбища, рот полуоткрыт, а на лице ее, как всегда, блуждала улыбка.
Я услышала шаги поднимающегося по лестнице человека и, поскольку прошел ровно месяц после нашего возвращения из Милфорда, решила, что это врач, и открыла дверь моему помощнику в борьбе со смертью, которого мне послал сам Господь.
Он вошел так тихо, что Бетси ничего не услышала.
И только когда врач направился к ней, Бетси угадала это каким-то неведомым чувством, протянула ему, не обернувшись, руку и, приветствуя его, слегка кивнула.
Затем ее губы едва слышно прошептали два слова:
– Здравствуйте, доктор!
Врач взял ее руку и прослушал пульс.
– Странная болезнь! – заметил он. – Можно было бы сказать, что из этого ребенка жизнь уходит капля за каплей, как из треснувшей вазы капля за каплей утекает содержащаяся в ней жидкость…
Тогда, помимо незримой болезни, которую он научился разгадывать, изучать, устанавливать, я рассказала ему о странном явлении – капле крови, при каждом приступе кашля проступающей на месте укола шипом.
Он выслушал мой рассказ с недоверчивой усмешкой.
Но я показала ему рубашки моей бедной девочки, где на местах прямо против сердца виднелись пятна крови, становившейся бледнее день ото дня.
– Чтобы истолковать столь странный рассказ, – сказал он, – мне следовало бы осмотреть и изучить эту предполагаемую ранку…
Но невинная девочка тут же скрестила руки на груди.
– Незачем! – произнесла Бетси, как если бы, зная объяснение этой тайны, она могла бы его дать. – Бог позволил, чтобы кровь, которую я теряла в болезненных приступах кашля, отхаркивая ее, теперь выходила бы из меня безболезненно через укол шипом розы. По мере того как кровь будет бледнеть, я буду слабеть все больше и больше… В какой-то день из ранки проступит только капля воды. В этот день я умру.
И произнесла она это с улыбкой, словно смертный час станет ее счастливым часом.
Я посмотрела на нее, сцепила пальцы рук и тихо сказала себе:
«Если бы наша религия, так же как религия католическая, допускала существование святых, я, без сомнения, видела бы перед собой святую!»
– А если бы я попытался остановить кровь? – спросил врач.